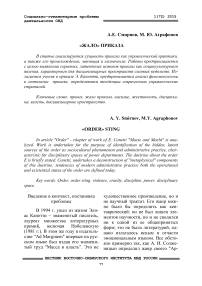«Жало» приказа
Автор: Смирнов Алексей Евгеньевич, Аграфонов Михаил Юрьевич
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Социально-гуманитарные проблемы деятельности ОВД
Статья в выпуске: 1 (72), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется сущность приказа как управленческой практики, а также его происхождение, эволюция и назначение. Работа предпринимается с целью выявления скрытых, латентных истоков приказа как социокультурного явления, характерного для дисциплинарных пространств силовых ведомств. Излагается учение о приказе Э. Канетти, предпринимается анализ феноменологии и онтологии приказа; определяются тенденции современных управленческих стратегий
Приказ, жало приказа, насилие, жестокость, дисциплина, власть, дисциплинарное пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/14335688
IDR: 14335688
Текст научной статьи «Жало» приказа
Введение в контекст, постановка проблемы
В 1994 г. ушел из жизни Элиас Канетти – знаменитый писатель, лауреат множества литературных премий, включая Нобелевскую (1981 г.). В этом же году в издательстве "Ad Marginem" впервые на русском языке был издан его знаменитый труд "Масса и власть". Это не художественное произведение, но и не научный трактат. Его жанр можно было бы определить как кен-таврический: он не был лишен элементов научности, но и не сводился ни к одной из ее общепринятых форм; это не было литературой, однако излагалось ясным и отчасти эмоциональным языком. Все обстояло примерно так, как А. И. Солженицын определил жанр своего "Ар- хипелага" – не роман и не анализ, а художественное исследование.
Книга писалась около тридцати лет; в течение четверти века автор собирал мифологический, религиозный, исторический, этнографический, психиатрический материал. Ради чего же велась эта колоссальная многолетняя работа и мучительный поиск адекватной формы? Дело в том, что Э. Канетти захотел раз и навсегда раскрыть тайну такого феномена, как власть. Он принял решение разгадать, что составляет изначальную структуру власти, описать ее ядро, проникнуть в ее сердцевину. И все это для того, чтобы стать сильнее самой власти, которая до сих пор фатально довлеет над человеком.
Предмет исследования Ка-нетти можно было бы сформулировать так: каковы антропологические и социальные константы, на которые опирается всякая власть; что представляют собой дорефлексив-ные, неосознаваемые коллективные механизмы, дискурсы или структуры, заставляющие индивида подчиняться власти, пассивно принадлежать ей. Научившись распознавать властные стратегии и тактики, человек сможет бороться, справляться с ними путем их узнавания и осознавания. Книга Канетти, с его точки зрения, есть истинное, объективное, по словам Л. Г. Ионина, "своего рода физикалистское" описание власти [1, 279]. Гениальность Канетти отчасти заключалась в том, что ему удалось найти язык, на котором можно было бы рационально и ясно выразить самую суть власти:
он "пытался сказать так, чтобы говоримое им воспринималось как суждение факта, не нуждающееся в интерпретации..." [1, 280]. Произведение написано без использования академического жаргона, предельно доступно, в расчете на максимально широкую аудиторию. И все это для того, чтобы каждый смог вынести для себя урок.
Проблема, однако, заключается в следующем: "Масса и власть" не укладывается ни в научный (например, социологический или психологический), ни в философский контекст ХХ в., она, будучи "неудобной книгой" (Л. Г. Ионин), "торчит" из него. Описание властных структур есть описание рефлексивное; но это описание, избегающее научной дисциплинарной организации. Как отыскать способы с ней считаться? Какого рода работа с ней возможна, ибо отвергать этот шедевр из соображений "ненаучно-сти" было бы несправедливо и нерационально.
В данной статье мы делаем попытку философского анализа одной из глав "Массы и власти", а именно – "Приказ". Этот труд предпринимается с целью выявления скрытых, латентных истоков приказа как социокульурного явления и управленческой практики, характерного для дисциплинарных пространств силовых ведомств. В начале мы кратко изложим "учение о приказе" Э. Канетти, затем попытаемся деконструировать "метафизические", или, на наш взгляд, наиболее философско-уязвимые моменты этого учения. Наконец, мы очертим тенденции современной управленческой практики и определим операциональный и экзистенциальный статус приказа сегодня.
Приказ: онтология и феноменология
"Приказ есть приказ!" – так начинается знаменитая глава "Массы и власти". Весь нижеследующий материал о приказе в книге неявным образом сплетается из двух смысловых мотивов. Первый мотив может быть условно назван феноменологическим – в нем идет речь о том, как есть приказ сам по себе, каков способ его существования. Второй мотив – метафизический, он описывает основания приказа, фундаментальные неизменные условия его возможности. Итак, феноменология и метафизика приказа такова:
-
1. Приказ императивен, бесспорен, окончателен.
-
2. Приказ более древен, чем язык – приказам подчиняются дрессированные животные. Следовательно, в определенных формах приказ существует вне человеческого общества.
-
3. Существует базовая, фундаментальная и древнейшая форма приказа. Первый, архетипический приказ выглядит так: "Беги!". Одно животное, не равное по силе другому, угрожает ему смертью. Одно намерено пожрать другого – отсюда, как выражается Канетти, "смертная серьезность бегства".
-
5. Приказ, во избежание смерти, запускает действие.
-
6. Запуская действие, приказ задает направление. Направление императивно: идеальный приказ выполняется без оглядки, без возможности свернуть в сторону.
-
7. Приказ однозначен, краток и ясен; он не требует обдумывания, не допускает противоречия.
-
8. Сила приказа прямо пропорциональна скорости его восприятия, промедление с пониманием приказа уменьшает его силу.
-
9. Действие, выполненное по приказу выраженным образом специфично, оно отличается от других действий: оно воспринимается как нечто чуждое, а вспоминается как нечто явно задевшее, царапнувшее того, кто получил и выполнял приказ. Эта чуждость приказа происходит от того, что приказ всегда приходит извне. Человек не попадет под приказ, оставаясь наедине с собой. Источник приказа – другое суще-
- ство, всегда более сильное. Именно поэтому приказ имеет смысл – сопротивляться ему бесполезно; приказывает лишь тот, кто уже победил или победит.
-
10. Власть отдающего приказания постоянно возрастает, приказы множатся. Это гарантирует власти безопасность и рост влияния: "Власть посылает приказы как облака волшебных стрел; уязвленные ими жертвы сами несут себя властителю – стрелы зовут их, пленяют и ведут" [2, 328].
-
11. Приказ в том виде, в котором его знает каждый (господин приказывает рабу, мать – ребенку, офицер – солдату), далеко ушел от своего биологического прообраза. Приказ одомашнился . Господин зовет раба и раб приходит, хотя знает, что его зовут не для отдыха. Мать окликает ребенка, и ребенок не всегда убегает. Архаической смертельной угрозы больше нет; приказ здесь не имеет прямого отношения к смерти. Как удалось смягчить, одомашнить действие приказа? Объяснение простое: в каждом из случаев одомашнивания приказа практикуется своего рода подкуп: раб получает еду, мать ласкает и кормит ребенка, солдат получает увольнение. Тесная связь между приказом и пищей хорошо видна в дрессировке. Вместо того, чтобы грозить смертью, обращать в бегство человек обещает то, без чего не в состоянии обойтись ни одно живое существо, и строго держит обещание. Налицо сублимация изначальной биологической ситуации: в людях и животных культивируется
-
12. Важнейшее обстоятельство заключается в следующем: приказ не является монолитным, он имеет структуру. Приказ, акт приказа не является целостным и самоочевидным. По своей элементарной структуре приказ раскладывается на две составные части, а именно: приказ состоит из движителя и жала. Движитель заставляет выполнять приказ. Жало остается в том, кто приказ исполнил.
-
13. Тот, кто отдает приказ, испытывает легкую отдачу. Это душевная отдача; ее испытывает каждый, кто видит, что его приказ должным образом исполнен. Приказ, следовательно, запечатлевается не только в исполнителе, но также и в том, кто его отдает.
Отсюда же – само условие возможности приказа, то, что лежит в его основании и делает приказ возможным вообще – это смерть.
"Древнейший приказ – тот, что был отдан гораздо раньше, чем на Земле появился человек, – это смертный приговор, побуждавший жертву к бегству. Уместно задуматься об этом, когда речь идет о приказах среди людей. Смертный приговор с его ужасающей безжалостностью просвечивает в каждом приказе. Система приказов у людей устроена так, что человек обычно избегает смерти, однако ужас перед ней и ее угроза сохраняются постоянно; а существование и исполнение действительно смертных приговоров сохраняет страх перед каждым приказом, перед приказом вообще" [2; 326]. Каков способ существования приказа?
своеобразная способность к добровольному рабству. И все же суть приказа неизменна – угроза по-прежнему живет в каждом приказе. Она смягчена, одомашнена, но санкции за невыполнение приказа могут быть сколь угодно строгими, и все равно в пределе – это по-прежнему смерть.
"Движитель побуждает к исполнению приказа, а именно к такому, которое следует из его содержания. Жало остается в том, кто исполнил приказ. Если приказы функционируют нормально, как от них ожидается, жала не видно. Оно спрятано, о нем не догадываются; если же оно проявится, то лишь в едва заметном нежелании подчиниться приказу. Но жало глубоко погружается в человека, выполнившего приказ, и остается в нем, нимало не изменяясь. Среди душевных структур нет такой, столь постоянной. В жале сохраняется содержание приказа, его мощность, последствия, границы – все зафиксированное раз и навсегда в миг, когда приказ был отдан. Могут пройти годы и десятилетия, пока эта глубоко погруженная и сохраненная часть приказа, представляющая собой его уменьшенное, но точное отображение, вновь не появится на поверхности. Важно понять, что ни один приказ не теряется – никогда исполнение не исчерпывает его целиком, он сохраняется вечно" [2, 328].
"Тот, кто... отдал приказ, испытывает легкую отдачу. Речь идет, собственно, о душевной отдаче, которую он испытывает, видя, что попал в цель... Удовлетворение от исполненного, то есть успешно отданного приказа заслоняет обычно все остальное, что происходит со стрелком. В нем всегда что-то вроде ощущения отдачи: то, что он делает, запечатлевается в нем самом, а не только в жертве. Множество отдач, скапливаясь, порождают страх. Это особого рода страх, возникающий из многократного повторения приказов, я называю его страхом перед приказом. Он почти отсутствует в том, кто лишь посылает приказы дальше, являясь передаточной инстанцией. Но он тем сильнее, чем ближе отдающий приказы к самому источнику приказов... Чувство опасности, заключающееся в том, что все, кому человек приказывал, грозя смертью, живы и помнят, опасности, в которой он вдруг окажется, если все, кому грозил, вдруг соединятся против него одного, – это глубоко запрятанное, смутное и неопределенное (ибо невозможно знать, когда память тех, кому грозил смертью, вдруг выплеснется в действие), это мучи- тельное, непреходящее и ничем не вытесняемое чувство опасности я и называю страхом перед приказом. Он сильней всего в тех, кто стоит на самом верху" [2, 331–332].
Жало: тайная и явная дисциплина приказа
Дисциплина – сущность армии, равно как и остальных силовых структур. Канетти различает дисциплину тайную и явную. Явная дисциплина – это дисциплина приказов. Приказы – воздух и смысл любого дисциплинарного пространства. Практика приказания и исполнения приказов производит соответствующего субъекта –
"крайне своеобразного существа, скорее стереометрической фигуры, чем существа – то есть солдата. Для него характерно постоянное существование в ожидании приказа. Оно кладет отпечаток на его облик и фигуру: солдат, который больше не ждет приказа, – уже не солдат и форму носит только для вида: строение солдата очевидно, оно на виду" [2, 338].
Наряду с явной дисциплиной приказов есть еще и тайная. О ней не любят говорить, она не любит себя демонстрировать. Однако воздействию этого рода дисциплины подвержено большинство субъектов дисциплинарного пространства. Речь идет о дисциплине поощрения. В соответствии со взглядами австрийского исследователя, поощрение – всего лишь нейтральный термин для публичного обозначения более глубокого таинственного фе- номена. Поощрение – слово, призванное обозначить латентное действие жал приказов.
Механизм этого действия таков. Солдат, будучи субъектом дисциплинарного пространства, накапливает в себе жала приказов в огромном количестве. Это и не удивительно – ведь все, что он делает, он делает по приказу. Ничего другого, собственно, он и не должен делать – в этом заключается суть явной дисциплины. Разумеется, все персональные побуждения солдата подавляются. Вне зависимости от его воли солдат получает приказ за приказом – и никто не в силах прекратить их поступление.
Каждый исполненный приказ оставляет в нем свое жало. Накопление жал осуществляется в арифметической прогрессии. Извлечь их нет никакой возможности, так сам он отдавать приказы не может. Все, что он может – подчиняться и коснеть в подчинении.
Однако есть средство изменить эту ситуацию. Рядового нужно произвести в следующий чин. Как только это случится, у него появится возможность приказывать самому. Начав приказывать, он избавится от части сидящих в нем жал.
"Он оказывается – хотя пока лишь частично – в ситуации обращения. Он может требовать того, что раньше требовали от него. Характер ситуации тот же самый, но его позиция в ней изменилась. Сидящие в нем жала теперь обнаруживаются как приказы. То, что ему приказывал его прямой начальник, теперь приказывает он сам. Это не значит, что освобождение от жал зави- сит теперь только от него самого, но он оказался в самой подходящей для этого ситуации: он должен приказывать. Положения те же самые, слова те же самые. Солдат стоит перед ним так же, как стоял он сам. Он произносит ту же формулу, что выслушивал сам, тем же тоном, так же энергично. Тождество ситуаций поражает, кажется, будто все устроено специально, чтобы помочь ему избавиться от жал. Стрелами, попавшими в него, он теперь жалит других" [2, 339].
Часть живущих в нем жал нашла применение, однако продвинувшийся по службе солдат все равно получает приказы сверху. Идет двойной процесс: избавляясь от старых жал, он копит новые. Но теперь это переносится легче: продвижение дает надежду на избавление.
Но как же избавиться от власти жала?
"Отклонять приказы можно, либо не слушая их, либо не выполняя. Жало возникает – подчеркнем это еще и еще раз – только в случае выполнения приказа. Только само действие, совершаемое под давлением извне, способствует образованию жала. Приказ, доведенный до исполнения, с точностью отпечатывается в исполнителе: тем, как энергично он отдан, его конкретной формой, выраженной в нем превосходящей силой и его содержанием определяется, следовательно, сколь глубоко и сколь жестко он запечатлевается" [2, 346].
Вспомним: жало возникает в процессе исполнения приказа.
" Оно отделяется от него и впечатывается в исполнителя как точное отображение приказа. Оно мало, глубоко спрятано и скрыто от сознания; его главное свойство, о котором много говорено, – это его абсолютная неизменяемость. Оно изолировано от остального состава человека как нечто чуждое его плоти. Сколь бы глубоко оно не погрузилось, как бы ни было замкнуто на себя самого, оно всегда в тягость владельцу. Оно странным образом застревает в нем как в ловушке. Оно само рвется наружу, но не может выйти. От него невозможно как-либо избавиться. Сила, потребная для освобождения, должна быть равна той, с какой оно было воспринято, то есть, будучи редуцированным приказом, оно должно превратиться в полный приказ. Для этого требуется обращение первоначальной ситуации, ее неизбежное точное воспроизведение. Кажется, будто жало имеет собственную память, и эта память настроена на особый импульс, будто оно способно ждать месяцы, годы, десятилетия, пока не возникнет та же ситуация, которую оно мгновенно опознает. Внезапно все стало так же, как раньше, только роли полностью сменились. Оно мгновенно рассчитывает возможность и мчится к своей жертве. Обращение произошло" [2, 352–353].
Концепт жала позволяет объяснить, почему люди, действующие по приказу, способны на самые ужасные поступки. Когда источник приказов исчезает, люди, выполнявшие приказ, не узнают ни своих дел, ни самих себя. Они говорят, что этого не делали. При этом, как правило, они не лгут. В своей внутренней жизни они просто не нахо- дят в себе и следа содеянного, они твердят: "Это не я, я не мог совершить такого".
Люди, выполнявшие самые чудовищные приказы, с легкостью начинают вести совершенно другую жизнь, никак не связанную с предшествующей. Это действительно другая жизнь, которую могут и не отягощать прошлые преступления. С психологической точки зрения эти преступления не стали частью их существа. При этом это от начала и до конца адекватные люди, полностью отдающие себе отчет о собственных действиях.
"Им было бы стыдно убить незнакомое и беззащитное существо, не причинившее им зла. Они с отвращением прогнали бы самую мысль о том, чтобы подвергнуть кого-то пытке. Они не лучше и не хуже, чем другие, среди которых они живут. многие из тех, кто знает их близко в повседневной жизни, готовы поклясться, что обвинения против них несправедливы.
Но потом, когда выступит целый ряд свидетелей, жертв, отлично знающих, о чем они говорят, когда виновных опознают одного за другим и воскресят в памяти каждую деталь их действий, тогда сомневаться нелепо, и возникает неразрешимая загадка" [2, 357].
Но, продолжает исследователь, для нас, знающих природу и структуру приказа, это уже не загадка. Ведь от каждого приказа, в субъекте, его выполнившем, остается жало. Но жало есть элемент, принципиально чуждый субъекту приказа так же, как чужд ему и сам приказ:
" Как бы долго жало не гнездилось в человеке, оно никогда не ассимилируется, оставаясь чужеродным телом... Жало – это интервент, который никогда не будет удостоен гражданства" [2, 357].
Именно жало – то, что существует в субъекте как чуждая ему инстанция, и освобождает его от чувства вины. Виновный винит не себя, а жало, тот принципиально чуждый ему элемент, который он всегда и всюду носит с собой. Чем более чужд приказ – тем менее виновен субъект приказа. Жало – постоянный свидетель того, что не я совершил все эти ужасные поступки. Субъект приказа опознает себя в качестве жертвы и не предполагает степень серьезности того, что он совершил.
"Так что правда, что люди, действующие по приказу, считают себя полностью невиновными. Если бы они были в состоянии задуматься о своем положении, они бы нимало удивились своей былой покорности приказам. Но такое прозрение бесполезно, ибо является слишком поздно, когда все уже и быльем поросло. То, что случилось, может случиться снова, защита против новых ситуаций, сходных со старыми как две капли воды, в них не сложилась. Люди отданы на волю приказа, лишь смутно подозревая, насколько он опасен" [2, 358].
Правота австрийского исследователя подтверждается невеселыми примерами. Пример литературный, корректность которого отда- дим на откуп истине искусства: главный герой нашумевшего романа Дж. Литтела "Благоволительницы", Максимилиан Ауэ, сын француженки, живущей в Германии, утонченный эстет, читающий в подлиннике Стендаля и досократиков, вступает в 30-е года в СС. К началу второй мировой войны Ауэ получает докторскую степень по юриспруденции. На фронте он становится членом айнзацкоманды. Подразделения такого рода шли в полосе наступления немецких армий и производили зачистку тыла, планомерно уничтожая коммунистов, военнопленных, но прежде всего – евреев и цыган. Повседневность нашего героя – расстрелы, массовые казни, машины-душегубки, противотанковые рвы, забитые трупами, новые способы убийств – все это при его прямом и косвенном участии. В последние часы войны, в разрушенном Берлине, в двух шагах от русских автоматчиков, он совершает очередное преступление и исчезает, чтобы появиться в начале книги семейным обуржуазившимся пенсионером, проживающем в Париже, зарабатывающим на хлеб с маслом производством кружева. Его единственная "изматывающая и мучительная" проблема – запоры. Вступительная глава заканчивается так: "Мне жалеть не о чем – я лишь выполнял свою работу... Несмотря не перепи-тии, которых на моем веку было множество, я принадлежу к людям, искренне полагающим, что человеку на самом деле необходимо лишь дышать, есть, пить, испражняться, искать истину. Остальное необязательно" (курсив наш. – А. С.).
Но вот пример исторический. В 30-х гг. ХХ в. внутри карательной системы НКВД существовала своего рода расстрельная индустрия. Ее костяк составляли 10–15 человек, расстреливавших до 1000 человек в день. Были среди них и настоящие "стахановцы". Так, генерал-майор Василий Блохин за всю свою трудовую биографию расстрелял 20000 человек. Именно он руководил расстрелом в Катыни и лично расстрелял там 700 поляков. Без отрыва от производства он окончил в 1933 г. архитектурный институт, стал интеллигентом. По свидетельству очевидцев, до и после расстрела любил не спеша выпить чаю. С детства любил лошадей. После смерти оставил библиотеку из 700 книг о коневодстве. Правда, из всей расстрельной команды он один дожил до пенсии. После ареста Берии Блохина лишили звания генерал-майора и восьми орденов, а также пенсии в размере 3150 руб. (при средней по стране зарплате в 700 руб.). Не выдержав этих "репрессий", Блохин в возрасте 60 лет умер от инфаркта [3].
Итак, приказ имеет более чем длительную историю своего формирования и функционирования, и он – "опаснейший элемент человеческого общежития". Поэтому че- ловек должен отважиться противопоставить себя приказу, поколебать его власть. Нужно искать средства свести его на нет, освободить из-под его влияния "большую часть человечества", так как "нельзя позволять ему больше, чем царапнуть по коже. Пусть его жала станут как репьи, которые легко сбросить одним движением" [2, 358]. В эпилоге "Массы и власти" речь вновь заходит о приказе. Канетти завершает книгу так:
"Система приказов признана повсюду. Четче всего, конечно, она налажена в армиях. Но и многие другие сферы цивилизованной жизни находятся под воздействием приказов. Смерть как угроза – это монета власти. Очень легко, складывая монету к монете, скопить огромный капитал. Тот, кто хочет стать сильнее власти, должен научиться без страха смотреть в глаза приказу и найти средство вырвать его жало"[2; 503].
( продолжение в следующем номере )
Список литературы «Жало» приказа
- Ионин Л. Парадоксальный сон: статьи и эссе. М.: Университетская книга, 2005. 320 с.
- Канетти Э. Масса и власть. М.: Ad Marginem, 1997. 527 с.
- Пряников П. Сталинские палачи-рекордсмены. Интернет-издание//URL: http://www.echomsk.spb.ru/blogs/hasid/24398. php (дата обращения 10.07.14)