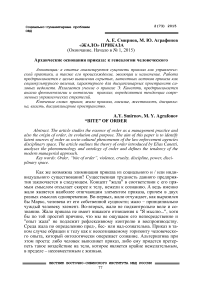«Жало» приказа
Автор: Смирнов А.Е., Аграфонов М.Ю.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Социально-гуманитарные проблемы деятельности ОВД
Статья в выпуске: 2 (73), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется сущность приказа как управленческой практики, а также его происхождение, эволюция и назначение. Работа предпринимается с целью выявления скрытых, латентных истоков приказа как социокультурного явления, характерного для дисциплинарных пространств силовых ведомств. Излагается учение о приказе Э. Канетти, предпринимается анализ феноменологии и онтологии приказа; определяются тенденции современных управленческих стратегий
Приказ, жало приказа, насилие, жестокость, дисциплина, власть, дисциплинарное пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/14335703
IDR: 14335703
Текст научной статьи «Жало» приказа
Как же возможна элиминация приказа из социального и / или индивидуального существования? Существенная трудность данного предприятия заключается в следующем. Концепт "жала" в соответствии с его прямым смыслом отсылает скорее к телу, нежели к сознанию. А ведь именно жало является наиболее отягчающим элементом приказа, причем в двух разных смыслах одновременно. Во-первых, жало отчуждает, как выразился бы Маркс, человека от его собственной сущности; жало - принципиально чуждый человеку элемент. Во-вторых, жало не подконтрольно воле и сознанию. Жало приказа не имеет никакого отношения к "Я мыслю...", хотя бы по той простой причине, что мы не ощущаем его непосредственно и "опыт жала" не подлежит рефлексивному контролю и воспроизводству. Среда жала по определению пред-, бес- или над-сознательна. Приказ в таком случае обращен к телу как к неосознаваемому горизонту человеческого опыта, который онтологически опережает сознание. Альтернатива при этом проста: либо человек выполняет приказ, либо ему придется претерпеть такое воздействие на тело, которое является крайне нежелательным, в пределе - несовместимым с жизнью.
Поскольку приказ является одной из первых, архаических форм коммуникации, его онтологические основания должны опережать онтологические основания языка, либо, как минимум, отчасти совпадать с ними. К таким основаниям следует отнести прежде всего саму возможность овладения языком. Последняя, помимо прочего, предполагает наличие памяти. Но именно с памяти, по Ницше, и начинается человек. Как сотворить человеку-зверю память? Как человека-зверя превратить в человека? Для этого нужно в определенной мере предать забвению память биологическую, и сотворить себе другую память , которая будет коллективной и социальной. Это память слов, а не вещей; долга, а не желания; закона, а не потребности; места, а не потока; порядка, а не хаоса.
"Человек должен создать самого себя посредством вытеснения интенсивного зародышевого тока, великой биокос-мической памяти. <...> Вся глупость и произвол законов, вся боль иннициа-ций, весь извращенный аппарат подавления и воспитания, каленое железо и инструменты пыток имеют лишь этот смысл – выдрессировать человека, отметить его плоть, сделать его способным к союзу, сформировать его в отношении кредитора-должника, которое с обеих сторон оказывается делом памяти..." [4; 300].
Логично предположить, что формирование такого рода памяти также начинается с изменений в упомянутом пред- или бессознательном, телесно-непроясненном горизонте опыта. Трансформации сознательного способа существования (например, формирование памяти, также сопряженных с ней совести, ответственности – морали вообще) предшествует трансформация телесности. Каковы средства для частичного забвения биологической памяти, или, точнее, возможности иной расстановки ее акцентов? Как вообще заставить запомнить что-то и придать значение запомненному?
Ж. Делез и Ф. Гваттари называют "Генеалогию морали" великой книгой современной этнологии, отдавая ей пальму первенства перед "Опытом о Даре" М. Мосса. Обратимся к свидетельству Ницше:
«Быть может, нет ничего более ужасного и тревожащего в предыстории человека, нежели его мнемотехника... Никогда не обходилось без пыток, мучеников, кровавых жертвоприношений, когда человек считал необходимым создать для себя память; самые ужасные бойни и самые мерзкие поступки, самые отвратительные членовредительства, самые жестокие ритуалы всевозможных религиозных культов... Все это берет начало в том инстинкте, который разгадал в боли могущественнейшее подспорье мнемоники» [7; 422].
Память становится возможной посредством жестокости, она прорастает через телесные страдания предельной интенсивности. Прежде всего запоминает тело; и прежде всего тело запоминает боль. Боль записывает опыт; сознательный и социализированный архаический индивид есть субъект этой записи.
«И если эту надпись по живой плоти называть "письмом", нужно в самом деле сказать, что слово предполагает письмо, что именно эта жестокая система письменных знаков делает человека способным к языку и дает ему возможность запоминать слова» (перевод слегка изменен. – А.С., М.А. ) [4; 228].
Возникшая в процессе социальной самоорганизации система жестокости, этот "ужасный алфавит" (Ж. Делез), явилась также условием возможности архаических социальных связей, задающих элементарный социальный порядок.
"Общество первоначально является... социусом записи, главное в котором – это отмечать и быть отмеченным" [4; 223]. "Сущность регистрирующего и записывающего социуса... заключается в следующем – наносить татуировки, надрезать, срезать, отделять, калечить, покрывать шрамами, делать насечки, инициировать"[4; 227].
Ницше намекает на то, как действует эта социация: беспрецен-дентный террор, по отношению к которому все более поздние системы жесткости – просто ничто: «Возможно, что всегда было только одно государство – духовное или временное, тираническое или демо- кратическое, государство-пес, которое "говорит в пене и вое"» [4; 302– 303]. Жестокость, следовательно, функциональна и прагматична. Жестокость следует отличать от насилия. Жестокость явилась самим условием возможности человеческого, и шире культуры; в каком-то смысле это сама ее конституента. Именно об этом говорят Ж. Делез и Ф. Гваттари:
"Жесткость не имеет ничего общего с произвольным или естественным насилием, на которое возлагают задачу объяснить историю человека; жестокость является движением культуры, которое выполняется в телах и записывается на них, их обрабатывая. Вот что такое жестокость. Эта культура не является движением идеологии..." [4; 228].
Требовалась жестокость для того, чтобы побороть в «человеке-звере» природу, приостановить великое течение биокосмической памяти. Но «побороть природу» не может означает ничего другого, как породить новый способ существования, отрицая старый. Именно в этом смысле «даже смерть, наказание, пытки желаемы , все они оказываются производствами » (выделено нами. – А.С., М.А. ) [4; 228]. Частичная смерть природного производительна, она высвобождает к существованию собственно человеческое – сознание, а вместе с ним – культуру, как вторую, искусственную природу.
«Человек есть животное, которое не принимает природную данность просто так, но отрицает ее. Тем самым он изменяет внешний природный мир, он извлекает из него орудия труда и изготовленные предметы, составляющие новый мир, мир человеческий . Параллельно человек отрицает сам себя, сам себя воспитывает, например, отказываясь давать своим животным потребностям то с вободное течение, в котором животное себя не сдерживало. Кроме того, необходимо признать, что оба отрицания – данного мира и собственной животности – человек связывает между собой» [1; 38].
Но любое движение культуры как отрицания природной данности никогда не является нейтральным – культура так или иначе структурирует телесный опыт. Например, на архаических стадиях социального существования именно телесная боль являлась доминирующим медиатором культуры: «сдавленный или открытый крик слышен всегда, когда добираются до нерва культуры, до ее первоистоков – основного мифа и космогонического или космоустроительного жертвоприношения, в котором сливаются в единый хор крики жертвы и жертвоустрои-телей» [9; 215].
Повторим еще раз: культура и шире – человеческое вообще – следствие телесной боли, которая структурирует архаический социум, включая его существование в упорядоченный, космический, социальный и человеческий режим. Боль вписывает в тело культурный код, который невозможно забыть. Помнится то, что причинило боль, память – функция боли. Назначение культурного кода – вытеснить первичную запись природы через причинение (невыносимой) боли, призванной осуществить культурную «прошивку»:
«В какой мере невыносимость боли от нанесения знаков социальной организации и культурной принадлежности (знаки инициации, обозначенные территории, культовые знаки) на чистой поверхности еще не записанного, не израненного тела преодолевается техникой вхождения в организованное тело рода, в такой же мере осознание невозможности перенести, списать боль на других... концентрирует чувство непереносимости ее. Рождается страх. Отщепление и суверенизация тела синхронно увеличивают ее» [9; 215].
Вывод, который можно сделать на этом этапе, таков: и приказ, и культура в ее архаических вариантах обладают одинаковым механизмом своего возникновения и функционирования. В обоих случаях объектом воздействия является тело; и приказ и культура являются специфическими формами памяти; и то, и другое составляет жало. Различие между культурой и приказом заключается лишь 1) в степени императивности (приказ должен быть выполнен в оговоренный срок; реализация предписаний и требований культуры стоит под знаком «всегда уже»); 2) в функциональ- ной специфике (приказ однозначен, приказ запускает действие, задает направление и т.д.; культура действует гораздо шире, определяя способ существования в целом) и 3) в характере воздействия (приказ действует непосредственно, действие культуры принципиально опосредовано и латентно).
Устранимо ли жало?
Логика исследования подводит нас к следующему тезису: жало приказа всегда, тем или иным образом присутствует в человеке. Напомним, что основание древнейшего приказа – смертный приговор. С формальной точки зрения приказ есть чистая реализация власти, а с функциональной – идеальный элемент управления, позволяющий в короткие сроки, – а в пределе – мгновенно, добиваться нужного эффекта. Однако следует задаться вопросом, так ли все просто и ясно? Не имеет ли актуализация приказа некоторых латентных, побочных эффектов, которые могли бы оказаться конститутивными для индивида и/или социальной группы? Тот факт, что о важности той или иной вещи принято судить по ее полезности и функциональности, не вызывает сомнений. Обстоятельство же, в соответствии с которым окружающий нас мир представляет собой принципиально сложное, совместное образование, видится менее явным, но все же это так. Ф. Ницше был одним из первых, кто обратил на это вни- мание применительно к современным ему историческим объяснительным концепциям:
"Для всякого исторического исследования не существует более важного положения, чем то... что именно причина возникновения какой-либо вещи и ее конечная полезность , ее фактическое применение и включенность в систему целей toto coelo расходятся между собой ; что нечто наличествующее, каким-то образом осуществившееся, все снова и снова истолковывается некой превосходящей его силой сообразно новым намерениям, заново конфискуется, переустраивается и переналаживается для нового употребления <...>. Как бы хорошо не понималась нами полезность какого-либо физиологического органа (или даже правового института, публичного нрава, политического навыка, формы в искусствах или религиозном культе), мы тем самым еще ничего не смыслим в его возникновении, – сколь бы неудобно и неприятно ни звучало для более старых ушей; ибо с давних пор привыкли верить, что в доказуемой цели, в полезности какой-либо вещи, формы, устройства заложено также и понимание причины их возникновения: глаз-де создан для зрения, рука создана-де для хватания" [ 7; 456].
Концепция Канетти полностью следует ницшеанской логике: приказ как процедура [ 7; 457] есть нечто более древнее и ранее, чем его применение в социальной организации и последующих управленческих практиках. Речь идет о том, что дело обстоит не так, как представляется обыденному сознанию: являясь изначально природной формой реализации власти, приказ лишь впоследствии был осознан в качестве оптимального способа коммуникации и управления, подобно тому, как рука заранее была предназначена для хватания, а глаз – для зрения. И если выше мы говорили о феноменологии приказа, то сейчас настало время обратиться к его метафизике. Одно из важных положений метафизики приказа заключается в следующем: приказ есть следствие абсолютности власти. Власть у Канетти по определению превосходит связность сознания и субъекта. Приказ есть лишь форма выражения власти; точнее, одна из таких форм. Более того: в перспективе абсолютности и тотальности власти приказ как процедура представляет собой всего лишь тот смысл, который в нее вкладывает властвующий или подчиняющийся субъект. Если же учесть положение об абсолютности власти и, соответственно, относительности сознания и всякой целенаправленной деятельности субъекта, то можно предположить, что традиционное понимание приказа (например, как важнейшего элемента управленческой тактики) а) не является единственным; б) может оказаться вторичным (по отношению к некой существующей, но неизвестной нам цели); в) неявным образом меняет степень императивности и т.д. Словом, с точки зрения абсолютного наблюдателя, смысл приказа как процедуры текуч, относителен, про-теичен.
Практика отдавания / исполнения приказов может нести не только прямой смысл, понимаемый в соответствии с содержанием приказа. Помимо собственно функциональной нагрузки (касающейся непосредственно выполнения) приказ может реализовывать функции устрашения, снятия с себя ответственности, избавления от тягостного ожидания, придания возвышенного смысла деятельности, возбуждения чувства вины, увеличения уверенности в себе за счет принадлежности к структуре, отдающей приказы и т.д. Приказ, следовательно, в некотором роде избыточен по отношению с своей прямой функции; актом собственной реализации он может запускать множество причинных рядов, входящих в конституцию социального пространства. В этом смысле в полном соответствии с теорией «микрофизики власти» М. Фуко власть (приказа) является творческой, производящей. Власть производит соответствующих ей субъектов, типы социального поведения, а также соответствующие формы знания, которые, в свою очередь, работают на ее воспроизведение. Так, пребывание субъекта в среде дисциплинарных пространств силовых ведомств "закаляет и охлаждает; концентрирует субъектные силы и способности, усиливает сопротивляемость" [7; 459]. Социальные пространства подобного рода, основанные на единоначалии и ад- министративно-командном типе управления, продуцируют специфический субъектный профиль, создают «своего» субъекта, способного отдавать приказы и подчиняться им. Однако бывает и так, что в подобной ситуации давление дисциплинарного пространства "надламывает энергию субъекта и приводит к жалкой прострации и самоуничижению" [7; 459].
Так, дисциплинарное пространство, характерное для силовых ведомств, разрушает привычный порядок тела вступающего в него индивида. «Старое» тело исчезает, «новое» – постепенно напитывается жалами, начинает подчиняться четкому ритму, принуждается к определенным занятиям (специальная, физическая строевая подготовка и т.д.), вводится в повторяющиеся циклы. Субъект в качестве привычной всем «души» рождается не иначе, как ценой преобразования тела, вбирающего в себя жала приказов. Сформировать послушную приказам «душу» – значит подчинить субъекта более фундаментальным образом, нежели удовольствоваться простым соблюдением формальных правил. Мишень приказа – «душа» как активный регулятивный принцип тела и... как главное условие возможности подчинения. Так «душа» становится главным объектом воздействия приказа, а субъект – тем, чем можно управлять.
«Жало мало, глубоко спрятано и скрыто от сознания... Сколь бы глубоко оно не погрузилось, оно всегда в тягость владельцу». Можно ли избавиться от жала? Канетти рассматривает два случая, первый из которых может быть условно назван «естественным», а второй – «исключительным». Первый способ – освобождение в массе. Множество людей сплачиваются против тех (того), кого они считали источником приказов. Масса способно безболезненно воспринять «любое, самое сложное и уродливое жало» [6; 353]. В пределе масса обращена против фигуры высшей власти, например, короля:
«Для подданных настоящей угрозой, неотвратимо висевшей над их головами, была угроза смерти. Время от времени проводимые казни служили ее обновлению и демонстрировали ее полную серьезность. Теперь она единственно возможным образом повернулась против собственного истока: король, который приказывал рубить головы, сам обезглавлен. Теперь высшее, самое всеохватное жало, как бы содержащее в себе все прочие, выдернуто из тех, кто обречен был носить его вместе с другими» [6; 354].
«Исключительный» способ избавления от жала воплощен в фигуре палача. Палач получает приказ убить. Однако действие здесь распределяется между двумя участниками: тем кто получил приказ и тем, кто будет казнен.
«Палач, как и любой другой, кто получает приказ, стоит под угрозой смерти. Но он освобождается от этой угрозы, убивая сам. Он сразу же передает дальше то, что могло бы случиться с ним, предупреждая тем самым санкции, которые могли бы его коснуться. Ему говорят: ты должен убить, и он убивает. Он не в состоянии противостоять такому приказу - приказ отдан тем, чью превосходящую силу он признает. Это должно произойти очень быстро, обычно происходит сразу. Для образования жала нет времени. Но если бы даже время нашлось, для образования жала нет основания. Ибо палач передает дальше ровно то, что воспринимает. Ему нечего бояться, в нем не остается ничего» [6; 355].
В состоянии ли субъект избавиться от жала на индивидуальном уровне, своими силами, находясь вне массы и не будучи палачом? Канетти в своей работе не рассматривает такую возможность, однако формулирует два ее условия. Одно из них можно назвать динамическим, оно имеет отношение к силе приказа, оставившего жало: «Сила, потребная для освобождения, должна быть равна той, с какой оно (жало. - А.С., М.А. ) было воспринято». Второе может быть обозначено как условие «смены полярности приказа». Для того, чтобы освободиться от жала, требуется:
«...Обращение первоначальной ситуации, ее неизбежное точное воспроизведение. Кажется, будто жало имеет собственную память, и эта память настроена на особый импульс, будто оно способно ждать месяцы, годы, десятилетия, пока не возникнет та же ситуация, ее неизбежное точное воспроизведение, которую оно мгновенно опознает. Внезапно все стало так же, как раньше, только роли полностью сменились. Оно мгновенно рассчитывает возможность и мчится к своей жертве. Обращение произошло» [352] (курсив наш. - А.С., М.А.).
Со своей стороны относительно проблемы избавления от жала мы можем сказать следующее. Важный момент метафизики приказа заключается в том, что жало связывает командира и подчиненного. Парадоксальная логика власти в том, что раб привязывается к своему господину. Психологам известны факты, когда заложник начинает чувствовать симпатию к террористу; психоанализ объясняет подобные вещи тем, что всякая либидинальная привязанность в той или иной мере содержит в себе мазохистскую составляющую. Работа бессознательного проявляется здесь в том, что что-то в субъекте наслаждается страданием, минуя сознание и вопиющую объективность ситуации. Наличие жала в субъекте создает ситуацию сложности, которую можно зафиксировать следующим образом: жало (не) принадлежит субъекту. Другими словами, со структурной точки зрения жало в одной и той же мере принадлежит и не принадлежит субъекту; с точки зрения содержательной это значит, что, с одной стороны, жало заставляет страдать, с другой - жало становится источником парадоксального «наслаждения симптомом». Б. Рассел в своей «Автобиографии» пишет о том, как делал попытки помочь Т. С. Элиоту и его жене Вивьен разрешить проблемы, возникшие в их семейной жизни, «покуда не обнаружил, что невзгоды доставляли им удовольствие» [8; 171] (пример заимствован у С. Жижека).
Ситуация (не)принадлежности жала обладает собственной логикой, противостоящей привычному выбору «или–или». Если жало принадлежит субъекту, то для его изъятия субъект в пределе должен уничтожить сам себя. Но в операциональном смысле это означает не самоубийство, но, скорее, «самоизбие-ние». Субъект для избавления от жала должен сам себе причинить страдание, равное по интенсивности полученному приказу. Разумеется, самоизбиение не должно пониматься буквально. Смысл символического «самоизбиения» в том, что субъект восстанавливает власть над самим собой, по своей воле совершая нечто, что требует такого же (или больше) расхода сил и энергии, чем выполнение приказа. В терминах психоанализа эта ситуация предста-ется следующим образом:
«...Не доставляя удовольствия садистскому свидетелю, самобичевание мазохиста фрустрирует садиста, лишает его власти над мазохистом. Садизм связан с отношениями господства, тогда как мазохизм – необходимый первый шаг к освобождению. Когда мы подчинены властному механизму, это подчинение всегда и по определению подкрепляется либидинальной нагрузкой: подчинение порождает прибавочное наслаждение из себя самого. Это подчинение воплощается в сети "мате- риальных" телесных практик, и поэтому мы не можем избавиться от нашей подчиненности посредством только интеллектуальной рефлексии; наше освобождение должно быть инсценировано как своеобразный телесный перформанс, и более того, этот перформанс должен носить явно "мазохистский" характер, он должен инсценировать болезненный процесс само-избиения» [5; 106–107].
Вырвать жало – значит причинить себе боль, выжечь из себя то, что привязывает к господину. Именно эта логика обыгрывается в известном фильме Д. Финчера «Бойцовский клуб». Акт самоизби-ения уже на исключительно формальном уровне устраняет деспота: «Если я сам в состоянии причинить себе боль, зачем для меня нужен кто-то еще?» [5; 106]. «Самоизбие-ние», таким образом, есть ресубъек-тивация, пересоздание самой субстанции субъективности.
И наконец: устранимо ли жало? Можно ли избавиться от господина, выйти за пределы власти? Наше мнение по этому поводу таково. Ни в какой реальной ситуации от жала не избавляются раз и навсегда. Нет и не может быть никакого полного «преодоления» власти, «освобождения» от нее. Ведь все, что преодолевается, нерасторжимым образом связано с преодолеваемым. И если субъект в акте освобождения и преступает некие пределы, то это в точности пределы только того, с чем он связан. Если каждый шаг субъекта необходимо связан с некоторой артикуляцией власти, то всегда есть перспектива, позволяющая увидеть власть не в смысле «уже бывшего», но в смысле пере-открытия, новизны, творчества. Именно в этом и проявляется ее производящий характер, созидательность которого надо понимать как «болезненное, динамическое и многообещающее колебание между уже-здесь и еще-пока-нет – это перекресток, который соединяет всю вереницу пересекающих его шагов, вновь и вновь воспроизводимая амбивалентность в самом сердце свободы действия» [2; 28]. Да, жало (не) принадлежит субъекту. Да, субъект действительно не имеет абсолютной власти над жалом; но не менее справедливым является утверждение о том, что и жало не имеет абсолютной власти над субъектом. Субъект постоянно становится, он принципиально открыт, и в его воле мобилизовать себя в качестве совокупность сопротивляющихся сил.
Вместо заключения
Время, в которое мы живем, есть время сложного человеческого труда и конкурентоспособных результатов. Специфика профессиональной деятельности в постсовременном обществе заключается в том, что от индивида требуется внимательность и инициативность, самоотдача и безошибочная оценка сложившейся ситуации. Все вышеперечисленное относится к качествам, которые трудно проконтролировать и которых невозможно добиться посредством приказов и инструкций. Отсюда – новые тенденции в управленческой практике, предполагающие смещение акцента с руководящего "центра" на исполнительскую "периферию". К ним относится, в частности, стратегия руководства посредством целей [Горц]. Вместо совокупности приказов и детального контроля их исполнения перед сотрудником ставится цель, и ему самому предоставляется решать, какими средствами ее достичь. Результат труда в данном случае находится в прямой зависимости от исполнителя, и лишь в косвенной – от руководителя, как возможного источника приказов. Разумеется, для достижения результата от сотрудника требуется самоотдача; или то, что на языке менеджмента называется "мотивацией". Ведь способ, посредством которого следует выполнить задание, неизвестен, и его выполнение невозможно предписать посредством приказа. Но что же можно предписать? Предписать можно только... неустанную работу над самим собой. А именно: задача может и должна быть решена за счет задействования ресурсов субъектной реализации индивида. Речь идет прежде всего о его творческих силах; но также и о способности к взаимодействию с партнерами, коллегами, гражданами; рассудительности, умению владеть собой в непредвиденных ситуациях, распознавать возникающие проблемы и решать поставленные самим собой задачи.
Что требуется от индивида? Сделать субъектом своего труда самого себя. Самосоздание становится таким же трудом, как и любая другая работа. В этом смысле как нельзя объективно измерить количество произведенного индивидом труда, так и нельзя заранее предписать средства и методы, ведущие к запланированному результату. От приказа (господина) извне – к приказу себе самому. От жала – к свободе, от калечащей травмы – к "великому здоровью" (Ф. Ницше). Альтернатива проста: либо вбирать в себя множественные жала, либо – постоянное самосозидание, заключающееся в наработке профессионально необходимого живого или «неформализованного» знания [10]. Живое знание – это прежде всего практическое умение; способность, не всегда и не обязательно включающая в себя формализуемые и систематизируемые знания. Возможно, большая часть такого знания вообще не может быть формализуема. Его нельзя от начала и до конца «преподать»; ему обучаются на практике, в школе жизни. Оно возникает благодаря способности субъекта работать над самим собой и распространяется таким же образом. При должном овладении им знание такого рода настолько входит в плоть и кровь человека, что последний не в силах вспомнить, когда он мог этого не уметь.
Отсюда – новые тренды в образовательной системе в целом и в педагогических стратегиях в частности. Если традиционное образование было ориентировано по образцу социально востребованных знаний-навыков-умений, то сегодня в силу множества причин важным является знание, выросшее из непосредственного повседневного или профессионального опыта. Это знание воплощается в таких качествах, как рассудительность, способность к координированию ситуации, самоорганизации, к нахождению общего языка. Речь, следовательно, идет о тех формах живого знания, которые приобретаются в обиходном общении и которые в значительной степени относятся к тому, что можно было назвать культурой повседневности.
Специфика знания такого рода заключается в том, что невозможно определить заранее, как именно люди будут вкладывать это знание в свой труд. В профессиональную деятельность требуется вкладывать не просто приобретенные знания и умения, но всего себя. Именно от характера этого вклада будет зависеть качество результатов во всех сферах жизнедеятельности общества.
В качестве вывода мы хотели бы констатировать следующее: для субъектов, чья профессиональная деятельность осуществляется внутри социальных пространств дисциплинарного типа, труд самосозида- ния в процессе решения служебных задач является а) важным психологическим автотерапевтическим средством, позволяющим эффективно осуществлять профессиональную деятельность в условиях административно-командной системы; б) действенным способом преодоления профессиональной деформации; в) составной частью современного профессионализма. В образовательных учреждениях системы МВД в рамках фондов оценочных средств необходимо активнее разрабатывать средства учета и оценки «неформализованного знания». Нам представляется, что попытка учета составляющей «неформализованного знания» в общей образовательной стратегии позволит по-новому взглянуть на методику преподавания вообще и на прагматику дисциплин социальногуманитарного цикла в частности. Необходимо также обращать внимание на разработку и учет практик самоформирования при изучении как общеобразовательных, так и специальных дисциплин.
Список литературы «Жало» приказа
- Батай Ж. Истрия эротизма. М.: Логос, Европейские издания, 2007. 200 с.
- Батлер Д. Психика власти. Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2002. 168 с.
- Горц А. Нематериальное. Знание, стоимость, капитал. М., 2010. 208 с.
- Делез Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория, 2007. 672 с.
- Жижек С. 13 опытов о Ленине. М.: Ad Marginem, 2003. 254 с.
- Канетти Э. Масса и власть. М.: Ad Marginem, 1997. 527 с.
- Ницше Ф. Соч. В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1990. 829 с.
- Рассел Б. Автобиография//Иностранная литература. 2000. № 12.
- Савчук В. Строкочащее тело//Комментарии. 1994. № 3. С. 212-218.
- Смирнов А. «Неформализованное знание» или субъективность как ресурс//Проблемы евразийства и интеллигенция: материалы Х междунар. научн. конф. «Байкальская встреча». Улан-Удэ, 2014. С. 7-11.