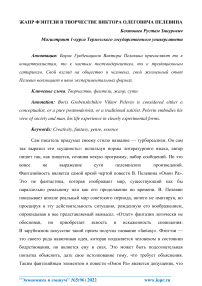Жанр фэнтези в творчестве Виктора Олеговича Пелевина
Автор: Бектошев Р.З.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 5-2 (96), 2022 года.
Бесплатный доступ
Борис Гребенщиков Виктора Пелевина причисляют то к концептуалистам, то к чистым постмодернистам, то к традиционным сатирикам. Свой взгляд на общество и человека, свой жизненный опыт Пелевин воплощает в явно экспериментальных формах.
Творчество, фентези, жанр, сути
Короткий адрес: https://sciup.org/140298758
IDR: 140298758
Текст научной статьи Жанр фэнтези в творчестве Виктора Олеговича Пелевина
Сам писатель придумал своему стилю название — турбореализм. Он сам так выразил его «сущность»: используя нормы литературного языка, автор пишет так, как пишется, сочиняя некую программу, набор сообщений. Но это вовсе не выражение сути пелевинских произведений.
Фантазийность является самой яркой чертой повести В. Пелевина «Омон Ра». Это не фантастика, которая изображает мир, существующий как бы параллельно реальному или как его продолжение во времени. В. Пелевин показывает вполне реальный мир советского периода, ничего не имитируя, но проецируя в эту действительность ситуацию, рожденную его воображением, опрокидывая в нее представляемый вымысел. «Отлет» фантазии логически не обоснован, но приобретает ясность и искаженность сновидения. В зарубежном искусстве такой прием получил название «fantasy». Фэнтэзи — это своего рода навязчивая идея, которая подавляется человеком в состоянии бодрствования, но является ему в снах. Это может быть подсознательная попытка объяснить, дать свое истолкование тому, что требует объяснения. Таким фантазийным элементом в повести «Омон Ра» является допущение, что все космические полеты, луноходы, выходы в космос — не более чем бутафория.
«Омон Ра» можно было бы отнести к литературе соц-арта, если бы не фантазийность. Начинается повесть в традициях соцреалистической юношеской прозы 40-50-х годов. Мы узнаем об отце героя — «человеке незрелой души», о детстве в пионерском лагере, об увлечении моделями самолетов, о мечте стать космонавтом. Здесь все достоверно и предметно: и лагерная столовая, где дают курицу и рис, где по стенам развешены модели самолетов, а над головой болтается желтая ракета с человечком внутри, и разговоры героя и его друга Митька, типичные для мальчишек семидесятых, и описание жизни у тетки. Лишь имена братьев звучат непривычно. Главный герой — Омон, ему отец предрекал милицейскую карьеру. Его брат — Овир, отец хотел видеть его на дипломатической службе. Фамилия братьев — Кривомазовы. То ли «кривые», то есть не такие, как все. То ли это отсылка к Достоевскому, заставляющая вспомнить братьев Карамазовых. Сюжет развивается, и становится ясно, что соцреалистическая интонация — это игра. Омон поступает в летное училище имени Алексея Маресьева. И тут к фэнтэзи и соц-арту добавляется еще и сюрреалистическая линия. Причем «сюр» носит ярко выраженную трагическую окраску.
Сюрреалистическая реализация метафор может восприниматься, на первый взгляд, как издевка над нравственными и гражданскими символами. Однако, Пелевин настраивает нас на серьезное чтение: «В строе мыслей, чувств Омона, в интонациях его рассказа нет литературной условности. Сила воздействия этой повести, при всей ее фантасмагоричности, — от впечатления почти абсолютной реальности происходящего…» Суть фэнтэзи в том и состоит, что как реальность воспринимается то, что может присниться только в дурном сне.
Повесть В. Пелевина посягает на, казалось бы, самое бесспорное. Успехи СССР в космосе действительно были велики, а советская космонавтика была самой развитой в мире. Почему же писатель дискредитирует именно эту сферу? Во время подготовки к полету Омон узнает, что вся автоматика в космических кораблях — фикция. Механизмы приводятся в действие спрятанными в них людьми, каждый из которых, выполнив свою функцию, должен покончить жизнь самоубийством. Все космические победы — это блеф, имитация. Читатель задумывается: если ненастоящими являются зримые и величественные успехи, что же тогда говорить о таком неопределенном явлении, как «развитой социализм»? Задача писателя — развенчать миф о. социализме. И решает он ее через дискредитацию действительных достижений социализма, через выворачивание их наизнанку. С точки зрения социальной психологии В. Пелевин обосновывает необходимость хотя бы имитации побед, если их нет в действительности. В тоскливой обыденной жизни каждый советский человек радовался нашему первенству в космосе, гордился за страну. «Норы, в которых проходила наша жизнь, действительно, были темны и грязны, и сами мы, может быть, были под стать этим норам, но в синем небе над нашими головами, среди реденьких и жидких звезд существовали особые сверкающие точки, искусственные, медленно ползущие среди созвездий, созданные тут, на советской земле, среди блевоты, пустых бутылок и вонючего табачного дыма, построенные из стали, полупроводников и электричества и теперь летящие в космосе. И каждый из нас — даже синелицый алкоголик… даже брат Митька и уж, конечно, Митек и я — имели там, в холодной чистой синеве, свое маленькое посольство».
Успех страны был необходим каждому человеку, и это хорошо понимали имитаторы. Герои искренне верили в идею социализма, в возможность ее осуществления. Корчагин, Матросов, Маресьев были не просто символами, а живыми людьми, пожертвовавшими собой именно ради этой веры. Писатель показывает трагедию не только исполнителей, собственными жизнями оплачивающих фикцию, но и вдохновителей, организаторов ее. Перед нами не менее трагические фигуры, чем те, кто гибнет. Урчагин и ему подобные, поняв невозможность осуществления идеи, идеологически запрограммировав людей на успехи социалистического строительства, уже не могут признаться в крахе. Таким «я» движется в финале повести Пелевина ее истинный герой — экс-мотылек, выбравшийся из навозного тумана. Видит он «толстого рыжего муравья», на груди которого «такой огород орденских планок, какой можно вырастить, только унавозив нагрудное сукно долгой и бессмысленной жизнью». Достаточно сложно пересказывать «Жизнь насекомых». Здесь заявляют себя и нравоописание, и сатира, и прикладная социология, и метафизика, а также провокация и одновременно благоговение перед вечной загадкой бытия. В 1999 году вышел в свет роман Пелевина «Чапаев и Пустота». «Это первый роман в мировой литературе, действие которого происходит в абсолютной пустоте», — так говорит о романе сам автор. На самом деле оно происходит в 1919 году в дивизии Чапаева. А Пустота — это фамилия рассказчика, который служит при Чапаеве комиссаром. Петр Пустота проходит процесс посвящения в Пустоту у своего командира и Учителя, более сходного с образом кастанедовского мага, нежели с образом Чапая из романа Фурманова. Известный всем роман и фильм о Чапаеве — это легкомысленное искажение. Революцию делали маги и гипнотезеры. Так, Чапаев показывает Петьке великого вождя революции через зеркальную поверхность лезвия своей шашки. И вот Петька видит Ленина идущим по коридору в расстегнутом военном френче. Петька пытается выяснить у Чапаева, что это за командирская зарука, о которой он говорил с трибуны. Но тот ничего не помнит. Он только, улыбаясь, поясняет: «Знаете, Петр, когда приходится говорить с массой, совершенно не важно, понимаешь ли сам произносимые слова. Важно, чтобы их понимали другие. Нужно просто отразить ожидания толпы. Некоторые достигают этого, изучая язык, на котором говорит масса, а я предпочитаю действовать напрямую. Так что если вы хотите узнать, что такое «зарука», вам надо спрашивать не у меня, а у тех, кто стоит сейчас на площади». Они были обмануты с детства, и, в сущности, для них ничего не изменилось из-за того, что теперь их обманывали по-другому, но топорность, издевательская примитивность этих обманов — и старых, и новых — поистине была бесчеловечна». Временами литератора-декадента, а ныне комиссара Петьку посещают сны о сумасшедшем доме, персонал и пациенты которого убеждены в том, что все они живут в России 90-х годов. Истории помешательства трех сопалатников Пустоты строятся на штампах современного масскульта. Набираясь чапаевской мудрости и высшей мудрости барона Юнгерна, Пустота проникается пониманием всего и вся. Заодно он осознает, что дурдом и его окрестности суть мираж, наведенный на него наркоманом и уголовником Котовским. После чего Пустота отбывает во Внутренюю Монголию, которая и есть Пустота. Петька погружается в себя. Книга Виктора Пелевина связана многими нитями с современной философией мысли и эзотерикой. Она особенно интересна подготовленному в этой области читателю. Эпиграфом к книге автор дает слова воображаемого Чингиз Хана: «Глядя на лошадиные морды и лица людей, на безбрежный живой поток, поднятый моей волей и мчащийся в никуда по багровой закатной степи, я часто думаю: где я в этом потоке?» Виктор Пелевин — самый известный и самый загадочный писатель своего поколения. Недаром его книги переведены на десятки языков мира.
Список литературы Жанр фэнтези в творчестве Виктора Олеговича Пелевина
- Боллинджер, Д. (1971), Фразовый глагол на русском языке, Издательство Гарвардского университета, Кембридж, Массачусетс, стр.98.
- Комри, Б. (1976), Аспект, издательство Кембриджского университета, Кембридж. Стр.21.
- Арнольд, И.В. Стилистика современного русского языка. И.В.Арнольд. - М: Просвещение, 1981.
- Академический центр: русский как иностранный язык www.uhv.edu/ac/elf/phrasalverbs.asp9. Английский как второй языкesl.about/cs/intermediate/f/f.phrasal.htm.