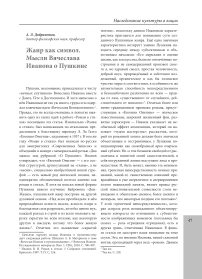Жанр как символ. Мысли Вячеслава Иванова о Пушкине
Автор: Доброхотов Александр Львович
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Наследование культуры в лицах
Статья в выпуске: 1, 2013 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/170174228
IDR: 170174228
Текст статьи Жанр как символ. Мысли Вячеслава Иванова о Пушкине
Пушкин, несомненно, принадлежал к числу «вечных спутников» Вячеслава Иванова вместе с Данте, Гёте и Достоевским. И хотя написано о нём Ивановым не так уж много, труды эти содержат ключевые идеи «Вячеслава Великолепного»1. Правда, это не всегда очевидно, и попытке выявить одну из таких идей в работе «Роман в стихах» посвящена эта статья. Изначально «Роман в стихах» был написанным по-итальянски предисловием к блестящему переводу Э. Ло Гатто «Евгения Онегина», изданному в 1937 г. В том же году «Роман в стихах» был написан по-русски для эмигрантских «Современных Записок» и объединён в номере с мемориальной речью «Два маяка» под рубрикой «О Пушкине». Иванов утверждает, что «Евгений Онегин» — с его особой структурой, артикуляцией на «главы», а не «песни», специально изобретённой новой строфой — есть новый род эпической поэзии, неоднократно обозначенный поэтом именно как роман в стихах. И хотя на поиски новой формы Пушкина навело изучение Байронова «ДонЖуана», пушкинский жанр построен на другой духовной основе. «Над всем преобладали в нём прирождённая ясность мысли, ясность взора и благодатная сила разрешать, хотя бы ценою мук, каждый разлад в строй и из всего вызывать наружу скрытую во всём поэзию, как некоторую другую и высшую, потому что более живую жизнь»2. Отметим это выявление «скрытой поэзии», поскольку данная Ивановым характеристика пригодится для понимания сути созданного Пушкиным жанра. Ещё одна значимая характеристика нотирует умение Пушкина находить середину между субъективным и объективным началами: «Его мерилами в оценке жизни, как и искусства, были не отвлечённые построения и не самодержавный произвол своего я, но здравый смысл, простая человечность, добрый вкус, прирождённый и заботливо возделанный, органическое и как бы эллинское чувство меры и соответствия, в особенности же изумительная способность непосредственного и безошибочного различения во всём — правды от лжи, существенного от случайного, действительного от мнимого»3. Отмечая более или менее традиционные признаки романа, присутствующие в «Евгении Онегине» — эпическое повествование, широкий жизненный фон, развитие характеров — Иванов указывает на необычный эффект композиции, который он называет «чудом мастерства»: рассказчик, который по романной логике должен быть эпически объективным и отстранённым, у Пушкина позиционирован как своеобразный ярко очерченный субъект. Но «с тем большею свободой от рассказчика и полнотой своей самостоятельной, в себя погруженной жизни выступают лица и происшествия. И, быть может, именно эта мгновенная, трепетная непосредственность личных признаний, какой-то таинственною алхимией превращённая в уже сверхличное и сверхвременное золото недвижной памяти, являет предка русской повествовательной словесности столь неувядаемо и обаятельно свежим, более свежим и молодым, чем некоторые поздние его потомки»4. У этой «трепетной непосредственности», которая сыграла роль неожиданного объективирующего контраста по отношению к субъективности изображённых моментов (гегельянец бы сказал — роль отрицания отрицания), есть и другая грань, отмеченная Ивановым. В финале статьи он заостряет наше внимание на теме скуки. Это, по мнению Иванова, некий сквозной мотив, проходящий через весь «роман». Данное наблюдение тоже важно для нас, поскольку проливает свет на тайну жанра «Евгения Онегина». «В “Онегине” обличено “уныние” (acidia), оно же — “тоскующая лень”, “праздность унылая”, “скука”, “хандра” и — в основе всего — отчаяние духа в себе и в Боге. Что это состояние, человеком в себе терпимое и лелеемое, есть смертный грех, каким признает его Церковь, — явствует из романа с очевидностью: ведь оно доводит Евгения до Каинова дела»5. В «Двух маяках» (в статье — напомню — которая входит в парную композицию публикации «О Пушкине» и сообщает ей своего рода бифокальность), Иванов возвращается к этой теме уже в связи со «Сценой из Фауста». «Этот Фауст — как бы другой список с идеального лица, вызванного гением Гёте, и мы находим в его чертах новое выражение. Искатель жизни, достойной этого имени, мучим, как и Евгений, скукой; а его ненавистный спутник, с палаческою изощрённостью, утешает его доказательствами, что скука есть основное содержание и весь смысл бытия. […] Скука, как общий закон живущего, означает общее летаргическое забвение смысла жизни, паралич духа и растление плоти»6. Метафизическое значение скуки мы можем сопоставить с означенным выше эффектом «трепетной непосредственности» и обнаружить, что жанровая новация Пушкина позволяет построить художественный мир, в котором отдельные моменты (возможно, ничтожные сами по себе) скреплены переживанием и заинтересованным взглядом поэта, но отнюдь не созерцаются объективным взглядом повествователя (что свойственно нарративу социально-психологического романа XIX в.), не подводятся под некий общий идейный знаменатель, не складываются в какую-то доктринальную (пусть даже мозаичную) картину мира. Пушкинская идея поэта как «всемирного эха» получает в этом случае новую жанровую оболочку. Как убедительно показано нашими исследователями, Иванов не только реконструировал жанрово-эстетические принципы Пушкина, но и в своём творчестве в ряде случаев дал образцы воплощения пушкинской поэтики7.
То, что Иванов наметил в своей статье лёгкими штрихами, но вполне определённо, стоит рассмотреть в контексте жанровых поисков пушкинской и околопушкинской эпох. Легко заметить, как богато жанровыми новациями это время. «Фауст» Гёте, «Дон Жуан» Байрона, «Мёртвые Души» Гоголя… Но как раз роман в традиционном смысле переживает очевидный кризис. Этот период, характерный поисками новой нарративной формы, является, как это ни парадоксально, паузой в истории романа, что отмечают многие историки литературы. 80–90-е гг. XVIII в., да и первое двадцатилетие XIX в. — это эпоха резкого торможения в эволюции романа, разочарования в старых его форматах. Ведь роман должен был построить новую картину мира, но как раз это и не получилось. К тому же появились силы, которые неплохо строили картину мира и без литературы. Литература и религия ex professo были призваны к тому, чтобы рисовать картину мира, но в XVIII в. появились две новые силы: это наука, которая овладела литературным языком и стала осваивать жанр научно-популярных книг и поэм; и музыка, которая после появления новой техники и нового языка, дала аналог романа, т.е. большого повествования об эволюции некоторых эмоциональных состояний со своими сложными перепадами, с брошенным вызовом и полученным ответом и т.д. У романа появились мощные конкуренты: ведь такой раскованности, как у науки по одним причинам, и у музыки — по другим, у ранних форм романа не было. Может быть, главная проблема была в том, что роман рисующий картину мира, должен был дать систему смыслов, нормативных действий, положительных образцов, которые дают успешный результат этих действий. Но с этим у романа и возникла как формальная, так и содержательная проблема. Сатира, любовь, переживания, приключения — это получалось хорошо, но возникал вопрос с положительным героем и позитивной картиной мира, который хорошо решали старые жанры (скажем, французский классицизм на театральной сцене или эпос древних культур, которые давали осмысленную позитивную художественную картину мира). У романа это не получается и поэтому начинаются поиски других жанров. Как раз тогда рождается лиро-эпическая поэма, которая побеждает роман в этом соревновании. Пример такой лиро-эпической поэмы — это поэмы Байрона: история души, и драматизированное изображение конфликтов мира. Но особенно важно, что в лиро-эпической поэме изображается не обширная среда, а вот некое концентрированное в себе Я и его конфликт. (Вячеслав Иванов посвящает анализу такого Я статью «О “Цыганах” Пушкина»). Лиро-эпическая поэма даёт то, что не даёт роман, а именно — убедительный образ состоявшейся личности. Правда, оппоненты могли бы сказать, что это не положительные герои, а деструктивные личности (в случае с Байроном — какого-то сатанинского чекана). Но побеждает романтическая парадигма, для которой добро и зло — это устаревший дискурс, а сила, красота, мощь, способность пережить много разнообразных состояний — это главное. Важный признак состоявшегося жанра — это готовность людей строить свою жизнь по данному образцу. Но по образцу романа, скажем, Филдинга, по образцу романа Прево, в данную эпоху никто свою жизнь строить не хочет. А вот Байрон загипнотизировал всех своими героями. Чуть позже появляется французская романтическая повесть, изображение одиноких героев, которые переживают историю становления своей души, входят в бесплодный конфликт с миром, ломаются под натисками пошлой действительности и т.д. Очевидно, что это не романная модель, потому что роман должен показать тщательно изображённую жизненную среду;
в эту среду нужно встроить героя и провести линию его жизни, причём, — внутри сложной констелляции других; нужно прочертить авторскую позицию, потому что без авторского голоса роман не существует. Революционный поворот происходит в 1830 г.: в этом году выходит роман Стендаля «Красное и чёрное». Здесь, в этот момент, кристаллизуется роман XIX в. В этом же романе Стендаль в нескольких словах даёт свою теорию романа, выраженную в его знаменитом афоризме: «Роман — это зеркало, которое несёшь по большой дороге». Вот это и есть то, что должен делать роман, т.е. погрузиться в поток жизни и отстранённо, холодно фиксировать, как это всё устроено. Такие предикаты, как холодность и отстранённость, здесь являются ключевыми, они во многом будут определять некоторую линию литературы XIX в., линию Стендаля, Флобера, Чехова. Предикат холодности очень важен, потому что он даёт право художнику быть объективным, нейтральным. Именно холодный аналитик получает право отражать многообразную действительность. До этого жанрового поворота автор зачастую брал на себя роль античного хора. Эта точка объективного анализа событий была изобретена в античной драме, где, как все понимали, идеологическую оценку событиям давал хор8. Именно поэтому остальные могли быть предельно субъективными и даже — быть источниками зла или лжи, потому что объективная точка отсчёта уже существовала. Но, начиная с эпохи Ренессанса, абсолютное Я, которое выражает объективность, в литературе переживает кризис. Я авторское становится таким же произвольным (пусть даже — творчески произвольным), как и все остальные Я. Поэтому роман XIX в. начинает это «хоровое начало» реконструировать введением «авторского голоса». Но тогда возникают две крайности — или автор становится скучным резонёром, и тогда это неинтересно, или он тоже становится живым Я, но тогда он теряет право на объективность, на задание абсолютной точки отсчёта.
Стоит обратить внимание на интенсивную попытку создать концептуально новый жанр, предпринятую в 1797 г. Гёте и Шиллером9. Их теория «эпической поэмы» была направлена на сохранение эпической стихии романа и совмещении её с лирической стихией поэзии, терять каковую Шиллер и Гёте не хотели, предчувствуя деструкцию идеалов, которую нёс с собой нарождающийся «реализм». Однако, эта теория так и осталась культурным проектом. Несмотря на то, что Гёте даёт несколько радикально новаторских жанровых образцов — «Фауст», «Западно-восточный диван», «Годы странствий Вильгельма Мейстера» — эпоха пошла по пути создания того типа романа, который мы, собственно, и связываем с XIX в. Вячеслав Иванов — духовный наследник Гёте — показывает, что жанровые открытия Пушкина, оказавшись у истоков русского романа, также по сути остались невостребованными и непонятыми, как и находки Гёте. Чтобы лучше понять пафос пушкинских статей Иванова — обманчиво простых на первый взгляд — надо поместить их в контекст его символистской концепции, выработанной в эпоху сотрудничества с журналами «Аполлон» и «Труды и дни» (1910–1916). В докладе «Заветы символизма» Иванов писал: «Внутренний канон» означает внутренний подвиг послушания, во имя того, чему поэт сказал «да» […] Поэт найдёт в себе религию, если он найдёт в себе связь. И «связь» есть «обязанность». В терминах эстетики, связь свободного соподчинения значит: «большой стиль». Родовые, наследственные формы «большого стиля» в поэзии — эпопея, трагедия, мистерия: три формы одной трагической сущности. Если символическая трагедия окажется возможной, это будет значить, что «антитеза» преодолена: эпопея — отрицательное утверждение личности, чрез отречение от личного, и положительное — соборного начала; трагедия — её воскресение. Трагедия всегда реализм, всегда миф. Мистерия — упразднение символа, как подобия, и мифа, как отражённого, увенчание и торжество чрез прохождение вратами смерти; мистерия — победа над смертью, положительное утверждение личности, её действия; восстановление символа, как воплощённой реальности, и мифа, как осуществлённого «Fiat» — «Да будет!...»10 Для оппонентов Иванова — Брюсова, Городецкого и Мережковского, ориентированных на французскую «стихию» символизма, — это выглядело покушением на свободу личного вдохновения поэта. Для гётеанца Иванова анархия вдохновения должна быть иерархически подчинена аристократической идее служения. Стоит обратить внимание на то, что диалектика символа, мифа и мистерии изображена Ивановым как развитие «большого стиля». Постулируя внутренний канон, он восстанавливает в правах и внешний канон, что также являлось совсем не тривиальным тезисом. В своё время идеологи Просвещения развязали войну против культуры рациональных канонов («риторической» культуры, как её привыкли сейчас называть) в пользу культуры аффектов, предполагающей непосредственное и искреннее самовыражение. В конце XIX в. маятник качнулся в обратную сторону: идея формы и канона вновь стала видеться (немногим первопроходцам) как условие творческой свободы. Иванов, с его перво-интуицией союза аполлинийского и дионисийского начал, решительно защищает канон, в котором он усматривает способ выявления «re-aliora» в реальном. Поэтому он с чистой совестью отвергает обвинения в подчинении искусства религии. Он поясняет Городецкому: «Слово “религия” употребляется в статье в смысле внутренней связи, находимой художником в своей личности и символичной в мире своих символов, а не в смысле извне принятого культа; но и в объяснённом смысле религия принимается не как закон, сверху наложенный на творчество, а как имманентная искусству вообще, в символизме же ещё и определённо выявленная душа художественного творчества»11.
В статьях журнала «Труды и дни» Иванов эксплицирует эти идеи и доводит их до программных формулировок. Работа «Мысли о символизме» вместе с экскурсом «О секте и догмате» выстраивает аналогию истинного (т.е. не французско-декадентского) символизма с ортодоксальной верой и неистинного — с ересями, из коих две главные — ересь общественного утилитаризма (Мережковский) и ересь «искусства для искусства». Обе ереси суть отклонение от вертикали, связывающий Бога и Человека, уход к горизонтали, к плоскости поверхностного эстетизма и приземлённого утилитаризма. В чем же «истина правого эстетического исповедания»? В том, что символизм должен быть утверждён, «как принцип всякого истинного искусства»12. Искусство, по Иванову, сбывается в случае отношения художественного объекта к двойному субъекту, творящему и воспринимающему; и поэтому от соучаствующего восприятия зависит, символическим ли станет произведение или нет. Символ (состоявшееся искусство) не отъединяет посвящённых от профанов, а соединяет творца и захваченную, преображённую им публику: «…символизм — не творческое действие только, но и творческое взаимодействие, не только художественная объективация творческого субъекта, но и творческая субъективация художественного объекта»13. Иванов подчёркивает именно те духовные силы символизма, которые роднят его с религией: способность создать тип личности, открытый излучениям абсолютного; способность преодолеть как наивную веру в самодостаточность земного мира, так и стремление убежать из него в «башню из слоновой кости». «Символизм связан с целостностью личности, как самого художника, так и переживающего художественное откровение. Очевидно, что символист-ремесленник немыслим; немыслим и символист-эстет»14.
В статье «Манера, лицо и стиль» идея внутреннего канона развёрнута в эстетическую доктрину, что позволяет с её точки зрения провести диагностику ду ховных недугов современности.
Иванов пользуется введённым Гёте различением между 1) простым подражанием природе; 2) манерой и 3) стилем. В манере проявляется индивидуальность творца, его личное восприятие явлений; в стиле познаётся объективное существо вещей. Стиль поднимает индивидуальность до точки зрения, доступной целому роду. Как положено в хорошей триаде, «3» является синтезом «1» и «2»: безликая имитация природы и субъективный произвол манеры возвышаются до единства в способности стиля индивидуально видеть всеобщее. В то же время «2» является творческой серединой между «1» и «3», обогащаясь их энергиями. Эту гётевскую концепцию Иванов существенно трансформирует. Он не принимает во внимание простое подражание природе, разбивая «2» и «3» на новую триаду. Первым шагом триады становится манера: нахождение собственного отличительного тона, внешнего своеобразия. Второй шаг это — обретение художественного лица. Здесь уже можно говорить о том, что художник нашёл себя и сказал своё слово в искусстве. Но далее начинает действовать таинственная динамика: «Между найденным образом творческого воплощения и принципом формы внутреннего слова порой вскрывается неожиданная противоположность: морфологический принцип художественного произрастания может вести организм к непонятной ему самому метаморфозе»15. Этот импульс может привести к разным исходам: к превращению манеры в маньеризм, разрыву с искусством, переходу в запредельные области, граничащие с безумием. Сила, спасающая художника в его поисках нового морфологического принципа — это стиль. Иванов подчёркивает, что обретение стиля даётся жертвой16. Для того чтобы найти лицо, нужно пожертвовать манерой; чтобы найти стиль необходимо, хотя бы отчасти, отказаться и от лица, поскольку стиль это — объективная и опосредствованная форма, которая достигается преодолением тождества между личностью и творцом. Но и попытка напрямую, минуя способность живого лица к самоограничению, прорваться от манеры к стилю приводит к стилизации, так же как попытка остановиться на стадии манеры приводила к маньеризму. Достигнутый уровень стиля выводит художника в измерение объективного17 и нормативного: «Для художника, обладающего стилем, существуют две данности: внешнего восприятия и внутренней реакции на восприятие; сам же он, поскольку художник, чужд обеих и свободно располагает тою и другой, не отожествляясь с собственным субъективным я. Его деятельность становится нормальною, поскольку он, отвергаясь единоличного произвола и уединяющего свое-началия, свободно подчиняется объективному началу красоты, как общей категории человеческого единения, — и вместе впервые нормативною, поскольку то, что утверждается в его творчестве, вытекая из подчинения общей норме, приобретает характер объективной ценности»18. Но и это ещё не предел: своего рода энтелехией всего морфологического движения Иванов делает большой стиль, который «требует окончательной жертвы личности, целостной самоотдачи началу объективному и вселенскому или в чистой его идее (Данте), или в одной из служебных и подчинённых форм утверждения божественного всеединства (какова, напр., истинная народность)»19. Неспособность к большому стилю это — утверждает Иванов — болезнь нашего времени. Его удел — эстетический анархизм, эклектизм, становление без цели. Автор иллюстрирует этот диагноз блестящим и точным пассажем о современной музыке. То же, считает он, можно отнести к ближайшему родственнику музыки — к лирической поэзии. Но — с существенной оговоркой: слово по природе своей не может быть алогично, поэтому здесь болезнь века может проявляться только в скрытой форме. Мы не докажем наличие в лирике явного психологического анархизма и атомизма, но можно выявить в ней «лицемерие бездушного эклектизма», порождённое всё тем же отсутствием внутреннего принципа, стиля. «Чтобы избежать его, мы не знаем другого средства, кроме подчинения внутренней личности единому, верховному, определяющему принципу. Это есть внутренний канон. […] При этом — пусть хорошо заметит читатель — под религией понимается не какое-либо определённое содержание религиозных верований, но форма самоопределения личности в её отношении к миру и Богу»20. Имплицированные в понятии большого стиля требования народности и соборности получают таким образом окончательную религиозную характеристику. Стоит также обратить внимание на опубликованный сравнительно недавно менее заметный, однако любопытный для понимания ивановской теории жанра и стиля документ, который можно отнести к 1913 г.21 Иванов попытался ответить на резкий выпад критика, обращённый, видимо, против Андрея Белого и обвиняющий некоторых авторов журнала в «“штемпелёванной мистике”, застывшей в рациональных схемах». Реагируя на требование Брызгалова сохранить свободу искусства, исключить из поэзии всё «догматическое», Иванов утверждает: «Вся история искусств учит нас, что искусство остаётся свободным как искусство, когда делается всецело ancilla religionis, и легко теряет свою свободу, когда художник ищет какой-то собственной религии, когда он хочет быть “свободным” глашатаем, напр<имер>, религии обществен<ного> равенства и братства, или морали; или других “идей”. […] Тот, кто окончательно обрёл свою веру, или миросозерцание, свой закон, или подчинился всецело >, может не бояться за свободу своего искусства. Он будет постольку свободен, поскольку талантлив. Фидий не ищет своего божества, подобно Ксенофану или Анаксагору. Он находит описание Зевса у Гомера, вдохновляется им, как это было бы невозможно неверующему, и соединение гения с верой делает то чудо, что простой исполнитель заказа из Олимпия, он создаёт прототип Зевса равно для искусства и для религии. Это ли не свобода искусства? Это нечто большее, не- жели свобода: это его самодержавная власть»22. Далее автор несколько отвлекается от полемики и «обращается к друзьям» с «вполне назревшим» вопросом: умещается ли в символизме символика? Под символикой понимается «запас статич<еских> и как бы кристаллиз<ованных> символов, исторически связанных с известными величинами определ<ённой> догматической системы»23. Вот его ответ: «Символика относится к свободному мистическ<ому> символизму, как священство к пророчеству. То и другое имеют дело с тайнами, но тогда как первое их хранит, другое надеется > овладеть ими; то глядит назад, это вперёд. Между ними не мыслимо только восполнитель<ное> соеди<нение>, но и желательно. Об этом свидетельствуют все великие произведения мистико-символ<ического> искусства»24. Брызгалов призывает избегать профанации религиозных символов и разделить сферы искусства и веры. Иванов, как видим, стремится сохранить связку художественной и сакральной сферы, утверждая нераздельность формы и содержания. «Если церковь или данная доктри<на> дают тем или иным художникам догматы и символику, даже, наконец, налагают на них начало догматико-символического авторитета, они могут сочетать эту символику со своим свободным символизмом, не изменяя > искусству. Всё дело в том, как они это сделают. И фальшь будет сказываться только в дурном худ<ожественном> выполнении, в неорганич<еском> слия<нии> формы и содержания. […] Символика не есть фальсификация символа. Фальсификация символа есть его извращение. Фальсифи<кация> в символизме есть кощунство. Чёрная месса — максимум > символической фальсификации. Всякая же мертвенность худож<ественного> созда<ния> не есть фальсификация символа, а просто плохое искусство. […] Оставим содержание в покое;
будем требовать одного: органич<еского> синтеза формы и содержания»25.
Как практически воплотились эти идеи в «Евгении Онегине» хорошо показал духовно близкий Вячеславу Иванову С. С. Аверинцев. О гармонии формы и содержании ёмко сказано в его статье «Ритм как теодицея», которая вся посвящена рассказу о том, каким образом непосредственнное содержание произведения дополняется явно и неявно (в том числе суггестивно) его формально-эстетическими сообщениями: «“Форма” контрапунктически спорит с “содержанием”, даёт ему противовес, в самом своём принципе содержательный; ибо “содержание” — это каждый раз человеческая жизнь, а “форма” — напоминание обо “всём”, об “универсуме”, о “Божьем мире”; “содержание” — это человеческий голос, а “форма” — наличный органный фон для этого голоса, “музыка сфер”». В качестве примера Аверинцев приводит строфику «Евгения Онегина»: «Содержание той или иной строфы “Евгения Онегина” говорит о бессмысленности жизни героев и через это — о бессмысленности жизни автора, то есть каждый раз о своём, о частном; но архитектоника онегинской строфы говорит о целом, внушая убедительнее любого Гегеля, что das Wahre — это das Ganze»26.
Мы видим, что идея «внутреннего канона», также как гётеанская модель «эпической поэмы», нашли своё применение и в анализе «романа в стихах», предпринятом великим символистом. Сам жанр, открытый Пушкиным, трактуется Ивановым как цельный символ мироустройства, сверенный с «внутренним каноном». Вячеслав Иванов показывает, что в этой поэтической форме Пушкину удалось дать новый образ универсума как незамкнутой хаотически-живой системы, гармонический смысл которой выявляется в «поэтическом эхе».
-
22 Там же. С. 167.
-
23 Там же. С. 168.
-
24 Там же.
Список литературы Жанр как символ. Мысли Вячеслава Иванова о Пушкине
- Аверинцев С. С. Ритм как теодицея/Собрание сочинений. Связь времен. Киев, 2005. С. 410.
- Грек А. Г. Пушкин в творчестве Вячеслава Иванова/Филологический сборник Луганского педагогического университета. Луганск, 1999.
- Грек А. Г. О пушкинских цитатах в стихотворении Вячеслава Иванова «Медный Всадник»/Пушкин и поэтический язык XX в. М., 1999.
- Грек А. Г. Пушкинские звукообразы в «Медном Всаднике» Вячеслава Иванова/Русская речь, 2001. № 3.
- Грек А. Г. Пушкинский «словарь» в поэме Вячеслава Иванова «Младенчество»/Авторская лексикография. М., 2013.
- Поэтика одного стихотворения: «У лукоморья дуб зелёный.» Вячеслава Иванова / Поэтика и эстетика слова. М., 2010;
- Павлова Л. В. Пушкин в мире Вячеслава Иванова / Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу. Смоленск, 1998;
- Павлова Л. В. Пушкин в поэтическом мире Вячеслава Иванова: Звуковая организация стиха / Русская классика: между архаикой и модерном. СПб., 2002.
- Иванов В.И. Собрание сочинений. Брюссель, 1974. Т. II. С. 601-602
- Цит. по примечаниям Г. В. Обатнина к работе Вячеслава Иванова «Ответ на статью Н. Брызгалова "Символизм и фальсификация". Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 170
- Иванов В.И. Собрание сочинений. Брюссель, 1974. Т. II. С. 613
- Иванов В. И. Собрание сочинений. Брюссель, 1974. Т. II. С. 617-618
- Аверинцев С. С. Ритм как теодицея / Собрание сочинений. Связь времен. Киев, 2005. С. 410