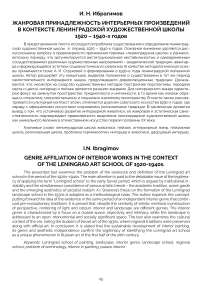Жанровая принадлежность интерьерных произведений в контексте Ленинградской художественной школы 1920 – 1940-х годов
Автор: Ибрагимов И.Н.
Журнал: Художественное наследие. Исследования. Реставрация. Хранение @journal-gosniir
Статья в выпуске: 3 (15), 2025 года.
Бесплатный доступ
В представленном тексте исследуется проблема существования и определения ленинградской художественной школы в период 1920 – 1940-х годов. Основное внимание уделяется дискуссионному вопросу о правомерности применения термина «ленинградская школа» к раннесоветскому периоду, что аргументируется институциональной нестабильностью и одновременным сосуществованием различных художественных направлений – академической традиции, авангарда и формирующейся эстетики социалистического реализма. В качестве методологической основы принимается тезис А. И. Струковой о формировании в 1930-е годы ленинградской пейзажной школы. Автор расширяет эту концепцию, выдвигая положение о существовании в тот же период самостоятельного интерьерного жанра, продолжавшего дореволюционные традиции. Доказывается, что, несмотря на сходство художественных методов (построение перспективы, передача света и цвета), интерьер и пейзаж являются разными жанрами. Для интерьерного жанра характерен фокус на замкнутом пространстве, предметности и интимности, в то время как пейзаж обращен к открытому, монументальному и социально значимому пространству. В тексте также рассматривается культурный контекст эпохи, отмечается дуализм советского искусства 1930-х годов, где наряду с официальным искусством сохранялись региональные традиции. В заключении делается вывод о том, что устойчивое развитие интерьерной живописи, ее жанровая и эстетическая самостоятельность подтверждают правомерность выделения ленинградской художественной школы как уникального явления в отечественном искусстве первой половины XX века.
Ленинградская школа живописи, пейзаж, интерьерный жанр, пейзажная школа, региональная школа, проблема терминологии, интерьер в живописи, дворцовый интерьер
Короткий адрес: https://sciup.org/170211003
IDR: 170211003
Текст научной статьи Жанровая принадлежность интерьерных произведений в контексте Ленинградской художественной школы 1920 – 1940-х годов
На сегодняшний день достаточно хорошо известно, что художественная жизнь Петербурга-Петрограда-Ленинграда отмечена своеобразной преемственностью. Тем не менее, при ближайшем рассмотрении эта проблема обнаруживает значительную историческую сложность и требует дифференцированного подхода, особенно в отношении раннего советского периода (1917 – 1920-е годы).
Следует подчеркнуть, что вопрос о существовании самостоятельной ленинградской художественной школы в первые десятилетия советской власти остается предметом оживленных научных дискуссий. Ряд авторитетных исследователей (включая М. Ю. Германа и др.) последовательно подвергали сомнению правомерность использования термина «ленинградская школа» применительно к данному периоду, аргументируя свою позицию тем, что раннесоветский период отмечен институциональной нестабильностью, что нашло выражение в смене творческих ориентиров, реорганизации учебных заведений, миграции художников и педагогов.
Помимо этого, в Петрограде-Ленинграде одновременно сосуществовали традиции академической школы, авангардизм, а также формировались основные эстетические положения социалистического реализма. Всё это свидетельствует о неоднородности художественных процессов в 1920 – 1930-е годы.
Одним из основных аргументов противников термина «ленинградская школа» является отсутствие чёткой территориальной локализации художественных явлений – активное взаимодействие с другими региональными школами, в первую очередь, московской.
Помимо проблемы корректности термина «ленинградская школа», следует обратить особое внимание на жанровую принадлежность произведений, в которых ленинградские художники продолжили и развили именно дореволюционную традицию.
К проблеме, связанной с термином «ленинградская школа», обращалась в своём исследовании А. И. Струкова, которая достаточно подробно изучила историографию проблемы терминологии и выявления феномена: «В научной литературе нет единого мнения о том, правомерно ли использование термина ленинградская пейзажная школа по отношению к явлению в отечественном искусстве 1930-х – 1940-х годов <...> Сомнения в существовании школы возникают из-за недостаточной изученности творчества отдельных мастеров, а также культурной ситуации, сложившейся в Ленинграде в 1930-е годы»1. Рассуждая об историческом контексте, автор приводит следующее мнение: «Ленинградская пейзажная школа сложилась и достигла своего расцвета в рассматриваемый период [1930-е гг. – И. Н. Ибрагимов] в предлагаемых обстоятельствах. Творчество художников – представителей данной школы было далеко от живописной номенклатуры. Они никогда не вступали на путь сознательного противостояния официальному курсу, однако, следуя собственным вкусам и убеждениям, во многом противоречили декларируемым устремлениям эпохи. Это связано не только с обращением к пейзажу, но и с самим выбором натуры»2.
Утверждение автора о формировании единой региональной школы вполне справедливо, поскольку именно в период 1920 – 1930-х годов формируется т.н. «ленинградская пейзажная школа». В контексте заявленной темы предлагается расширить концепцию, предложенную А. И. Струковой, а также доказать тезис о сохранении традиции интерьерной живописи в рамках ленинградской школы живописи 1920 – 1940-х годов.
Базисом утверждения о существовании отдельного направления в живописи 1920-х – 1930-х годов является вновь обретённый интерес отдельных художников (и не только ленинградских) к наследию предшественников, которые утвердили право интерьера на субъектность в изобразительном искусстве.
Следует сразу оговориться, что, несмотря на значительное сходство с точки зрения методологии, интерьерный жанр не является тождественным пейзажному. Доказательство этого строится на четырёх основных принципах, которые включают в себя: содержание, контекст, художественные приёмы и функции.
В интерьерном жанре центральное место занимает закрытое пространство, которое содержит в себе дополнительную смысловую нагрузку в виде предметов меблировки, быта и т.д. Повседневность и предметность выступают как бы главными героями в произведениях этого жанра. Пейзажный жанр, соответственно, находится на диаметрально противоположной позиции: отображение некоего открытого пространства, более постоянного и монументального, т.е. статичного с точки зрения времени, а также социально значимого, в то время как интерьер подразумевает интимный мир своих хозяев.
Для более глубокого и осмысленного понимания того, что в интерьерном жанре, равно как и в пейзажном, кроется проблема, которая объединяет оба направления, – соотношение искусства и действительности – необходимо подробнее остановиться на этом. Традиционно в отечественной науке принято было придерживаться точки зрения, согласно которой недопустимо отождествлять произведения искусства с объективной реальностью (например, в «Эстетике»3 Ю. Б. Борева, «Началах эстетических знаний»4 Е. С. Громова и др.).
Обозначенная проблема является важным аспектом в понимании природы рассматриваемого феномена. Так, В. Ю. Матулявичюс касательно проблемы соотношения образа и действительности подмечает, что «… существующему пониманию соотношения художественного образа и действительности присуща определённая однобокость, проявляющаяся в том, что исследование художественного образа ведётся в основном в русле поиска общих для него и объективной реальности закономерностей и совпадающих сущностных характеристик. Такое понимание проблемы, обусловленное гносеологическим подходом к искусству и закономерно следующей из этого абсолютизацией значения отражения в творческом процессе, не позволяет учитывать в необходимой степени принципиальные сущностные отличия, обнаруживающиеся при сопоставлении художественного образа с действи-тельностью»5. Применяя вышесказанное относительно исследуемой проблемы, необходимо добавить, что интерьерные произведения в большей степени направлены на реалистическое отображение действительности, в то время как пейзажный жанр сильнее подвержен романтической коннотации. Следовательно, и пейзажную живопись, и интерьерную живопись не следует рассматривать в плоскости понимания простого отражения действительности.
Несмотря на мнимую схожесть этих двух феноменов, интерьерный жанр не является поджанром пейзажа, но выступает как самостоятельный жанр, равнозначный пейзажу, но подразумевающий возможность использования идентичных художественных методов для решения таких задач как: построение перспективы, корректная передача цвета, светотеневая моделировка и т.д.
Традиционно исследователи делают упор на философско-формальную составляющую при изучении поставленного вопроса. Например, книга «Интерьер в зеркале живописи» за авторством М. Н. Соколова открывается разделом под названием «Микрокосм культуры». В этой главе автор подводит к своей концепции понимания интерьера как отдельного жанра в изобразительном искусстве через призму поступательного развития живописи, однако стилевая эволюция живописи отходит на второй план, поскольку первичным становится понимание интерьера, а также его эволюция в системе понятий «портрет хозяина – реалистическое отображение мира вещей – эмоциональное переживание».
Проблематично отрицать верность этих трёх формаций, которые изложены автором в исследовании. Однако в контексте возникновения региональной школы необходимо расширить эту схему, поскольку продолжение дореволюционной традиции с 1920-х по 1941 г. несколько выбивается из актуального на тот момент профессионального дискурса, направляемого властями.
Об этом феномене в достаточно своеобразной форме писал В. Г. Арсланов: «Основной поток художественных произведений эпохи коллективизации и индустриализации характеризовался преобладанием катаевской «мрии»: развитие шло от утопии авангарда к мифологии «соцреализма» (хотя, в отличие от Б. Гройса и его сторонников, следует всё же различать авангардизм и романтизировано-хал-турный натурализм). Но в советском искусстве этого периода мы находим наряду с оттесняемым на периферию художественной жизни авангардизмом и ликующим лже-классическим направлением художников, близких к классике. Конечно, было бы глупостью утверждать, будто в советском искусстве 30-х годов возникло нечто подобное итальянскому или северному Возрождению. Речь идёт о тенденции, не более того, заметной, однако, даже и у тех, кто, подобно В. Мухиной, оказались под влиянием мифотворческого направления. И потому такие фигуры, как В. Мухина, тоже по-своему свидетельствуют о двойственности советской классики 30-х годов, вернее, её раздвоении на лже-классическое течение (оказавшееся наиболее влиятельным, официальным искусством времени) и классику, действительно соответствующую своему понятию. Чем же, во-первых, объяснить такое раздвоение, и, во-вторых, почему ныне, как и полвека назад, многие критики его или замалчивают или попросту упускают из виду?»6. Проблема дуализма в искусстве СССР 1920 – 1930-х годов уже достаточно хорошо освещена. И, наверное, отчасти именно в этой плоскости лежит рассматриваемая нами тема. С другой стороны, в 1920-е годы ленинградские художники с определённой долей смелости выставляли работы на разные темы, в т. ч. те, которые не коррелировали с официальной темой.
Возвращаясь к теме ленинградской школы, необходимо вновь обратиться к монографии А. И. Струковой, в которой автор приводит важное замечание касательно изменения восприятия пейзажа со стороны критики в 1930-е годы: «Во второй половине десятилетия теоретическое осмысление пейзажа приходит к разделению произведений на этюды и картины. Своего рода принцип сделанности, под которым многие критики понимают выстроенность композиции, чёткость рисунка, особую точность и выписанность деталей, позволяет отличить «полноценную картину» от легковесного и недостаточного этюда <...> Идея о противопоставлении пейзажной картины и этюда (имеющего значение подготовительного этапа в создании полноценного, серьёзного произведения) была почерпнута в русской живописи XIX века»7.
Вышеизложенное мнение можно подкрепить статьёй И. Бродского 1948 года относительно пейзажного творчества современников. Приведём два фрагмента для понимания интерпретации пейзажа в то время. Первый отзыв И. Бродского в рамках статьи посвящён творчеству Вячеслава Пакулина: «Методу Пакулина свойственно этюдное восприятие. Он создаёт свои произведения по мотивам увиденного в природе, он начинает и заканчивает часто свои этюды-картины на улице. У него свои приёмы, своё выражение колорита, своя техника, сложившаяся из опыта его творческих ошибок и достижений. По-прежнему у Пакулина тонко разработанные цветовые отношения, их целостное единство, любовно выраженное чувство природы»8.
Второй отрывок характеризует отношение автора касательно творчества Георгия Траугота: «Живописным работам Траугота присуща та же точка зрения на мир, та же эстетическая позиция. Прелесть миража, ущербность образа характерны для пейзажа с рыбаками («Орешек»). Цветовое напряжение ослаблено белё-состью, которая создаёт первое впечатление воздушности. Вы смотрите живопись и замечаете только её. Общий розовый тон как будто правдив, как будто «от природы», но это ощущение быстро проходит, и вам недостаёт реального чувства природы. Трудно понять, какое это время дня – раннее утро или ранний вечер, или белая северная ночь. Но, впрочем, это не кажется важным. Художник как бы утверждает свою живописную природу, со своими законами <...>По выражению Ромена Роллана: «На свете существует лишь два рода искусства: то, которое вдохновлено жизнью, и то, которое довольствуется условностью». Траугот довольствуется последним. Он творит мнимую красоту, его искусство – это эстетическая «заслонка» от реальной действительности; хорошо, что по цвету она не чёрная»9.
Характер приведённой критики конца 1940-х годов не только достаточно красочно иллюстрирует позицию официальных, академических кругов, но и свидетельствует о различных направлениях, существовавших в рамках ленинградской художественной школы в период 1930-1948 годов. Кроме того, можно прийти к умозаключению, что официальной критикой допускалось заимствование эстетики из русской живописи XIX столетия.
Возникает закономерный вопрос: почему все исследователи ленинградской пейзажной традиции не рассматривают интерьерные изображения, созданные в аналогичный период? Надо полагать, что ответ кроется не столько в недоступности и/или неизвестности произведений этого жанра, а в том, что было бы некорректно включать один жанр в другой. Несмотря на это, стоит сделать оговорку касательно места интерьера в творчестве художников 1920 – 1940-х годов. Проблема заключается в том, что, несмотря на всё то, что свидетельствует о жанровой самостоятельности произведений, которые посвящены интерьерам, практически никто из ленинградских авторов не выделял подобные произведения в отдельный ряд, который носил бы программный характер. С другой стороны, стоит отметить, что некоторые авторы, например, В. Н. Кучумов или представители московской школы, посвятили значительное место в своём творчестве именно произведениям такого типа.
Во всём вышеизложенном кроется серьёзная проблема существования не провозглашенного самостоятельного жанра, который продолжил своё развитие, несмотря на резкую смену курса как государственного, так и в творческих кругах.
Таким образом, можно констатировать, что в Ленинграде c 1920-х годов до 1941 года продолжались традиции в изобразительном искусстве, связанные с изображением дворцовых интерьеров. Произведения подобного рода во многом перекликаются с пейзажной традицией обозначенного периода, но остаются самобытными, о чём свидетельствует их эстетическая составляющая. Из чего следует, что использование терминов «ленинградская школа» и «интерьерный жанр» для обозначения вышеописанных явлений корректно.