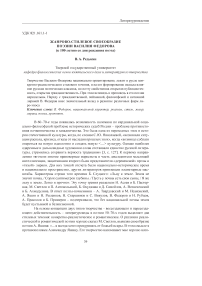Жанрово-стилевое своеобразие поэзии Василия Федорова (к 100-летию со дня рождения поэта)
Автор: Редькин Валерий Александрович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2018 года.
Бесплатный доступ
Творчество Василия Федорова национально ориентировано, лежит в русле конкретно-реалистического стилевого течения, и на его формирование оказала влияние русская поэтическая классика, но поэту свойственна открытая публицистичность, открытая гражданственность. При этом исповедь и проповедь в его поэзии нераздельны. Наряду с гражданственной, пейзажной, философской и интимной лирикой В. Федоров внес значительный вклад в развитие различных форм лиро-эпоса
В. федоров, национальный характер, реализм, стиль, жанр, лирика, поэма, хронотоп
Короткий адрес: https://sciup.org/146281288
IDR: 146281288 | УДК: 821.161.1-1
Текст научной статьи Жанрово-стилевое своеобразие поэзии Василия Федорова (к 100-летию со дня рождения поэта)
В 60–70-е годы появилась возможность полемики по кардинальной социально-философской проблеме исторических судеб России – проблеме противостояния почвенничества и западничества. Это была одна из переходных эпох в истории отечественной культуры, когда, по словам С. Ю. Николаевой, «возникали ситуации раскола, кризиса, отказа от наследия прошлых эпох», когда «возникал соблазн опереться на новую идеологию и создать новую <…> культуру. Однако наиболее одаренные и дальновидные художники слова отстаивали единство русской литературы, стремились сохранить верность традициям» [3, с. 127]. К первому направлению тяготели многие правоверные марксисты и часть диссидентски мыслящей интеллигенции, защитниками второго были представители «деревенской» прозы и «тихой» лирики. Для них точкой отсчета были национально-историческое время и национальное пространство, других литераторов привлекали планетарные масштабы. Характерны строки того времени Б. Слуцкого: «Льну к земле. Земля не значит почва, / Сорок сантиметров глубины. / Пусть у почвы есть свои сыны, / Я же льну к земле. Легко и прочно». Эту точку зрения разделяли Н. Асеев и Б. Пастернак, М. Светлов и П. Антокольский, Б. Окуджава и Д. Самойлов, А. Вознесенский и Б. Ахмадулина. В ответ поэты-почвенники – А. Твардовский и М. Исаковский, А. Яшин и Н. Рыленков, Н. Старшинов и С. Викулов, В. Федоров и Н. Рубцов, А. Прасолов и Б. Примеров – подчеркивали, что без национальной почвы земля будет пустынной и безжизненной.
На основе концепции двух типов творчества – воссоздающего и пересоздающего действительность – литературоведы в поэзии 50–70-х годов выделяют два стилевых течения: конкретно-реалистическое и романтическое. О различии реалистической и романтической поэзии хорошо сказал М. Светлов, выявляя своеобразие поэзии А. Яшина: «…я всегда хотел прикуривать от божьей искры. В этом смысле я противоположен Александру Яшину. Его творчество напоминает мне хорошо нато- пленную печь, где с каждым годом все лучше и лучше выпекается свежий пахучий хлеб советской поэзии» [6, с. 6].
Творчество Василия Дмитриевича Федорова (1918–1984) национально ориентировано, лежит в русле конкретно-реалистического стилевого течения, и на его формирование оказала влияние русская поэтическая классика, но ему свойственна открытая публицистичность, открытая гражданственность. При этом исповедь и проповедь в его поэзии нераздельны. Конечно, поэта можно упрекнуть в чрезмерной идеологической направленности ряда произведений, но в то же время у него явно преобладают не классовые, а национальные приоритеты. И когда он пишет, что «Сердца, не занятые нами, / Не мешкая, займет наш враг», – это тревога за будущее России, которая позже была высказана В. Соколовым и Н. Рубцовым. Опираясь на известные строки С. Есенина и намекая на правителей, которые любили себя называть слугами народа, В. Федоров обозначает свою, предельно честную позицию: «Отдам народу сердце, руки, / Но только пусть не говорят, / Что я слуга народа… / Слуги всегда с хозяином хитрят». Откликов на первые поэтические сборники поэта почти не было. И. Денисова объясняла такое равнодушие прессы тем, что «автор приехал из далекой Сибири, где формировалась его самобытная поэзия, отчасти особенностями его творчества, начисто лишенного спекулятивных элементов, демагогических приемов и конъюнктурщины» [2, с. 16]. Но дело не только в этом. Он воплотил в своем творчестве яркий, самобытный русский национальный характер, прямой и непримиримый ко лжи, лицемерию и несправедливости. Да и социальная направленность была у него особая, сердечная. «По тому, как людям любится, здоровье мира узнают», – считал он и боролся «за красоту времен грядущих».
Для лирики Федорова характерны мотивы утверждения долга, совести и красоты в единстве её духовного и физического начал как высшей ценности человека, природы, искусства. Его лирическим формам присущи особая доверительность, интимность и в то же время интеллектуальное напряжение. Эта апелляция и к уму и к сердцу читателя проявились в книгах «Не левее сердца» (1960), «Книга любви» (1963).
Поэт сохраняет традицию не только в идеалах, лирическом характере, но и в образной системе, структуре стиха, воссоздает национально-историческое время и пространство. Его творчество коренным образом отличается от творчества поэтов, в стихах которых явно проявляются лжепафос и псевдонародность. О произведениях таких авторов С.Ю. Николаева писала: «Читаешь эти страницы, и остается впечатление утрированной народности, лубочного патриотизма, суррогата поэзии» [4, с. 77].
В стихах, связанных с проблемой «человек и природа», Федоров близок поэтам конкретно-реалистического стилевого течения – В. Соколову, В. Фирсову, Е. Исаеву, Н. Рубцову. В этих стихах человек не выделяет себя из мира природы, а это характернейшая черта народного творчества. В пейзажной лирике Федорова воплощается его концепция мира. Это одна из ведущих традиций русской классики. К нему можно отнести слова, сказанные о пейзаже Л. Толстого: «Смысловое ударение в этой картине природы падает на слова, обозначающие нравственно-этические понятия, – красота, радость, веселье, мир, согласие, любовь, благо, солнце как источник тепла, света и самой жизни» [6, с. 79]. Одухотворяя природу, он так передает своё восприятие природного мира в стихотворении «Осенний лес»: «В лесу светло. / Березкам-белоножкам / Укрыться бы за хвойной темнотой. / Подружки озадачены немножко / И смущены своею наготой. / Как девушкам, / Им не во что убраться, / Как модницам, / Обидно им до слёз: / Они вчера разделись покупаться, / А ветер взял и платья их унёс» [7, с. 177].
Преклонение перед красотой природы сочетается в поэзии Федорова с поэтизацией достижений современной науки и техники. Сказать о металле: «И звезды осыпаются с его короны золотой», о темпах нашего времени: «Наш век ревет, и винтовая лопасть несет, несет… Эй, осторожно! Пропасть…» – это значит скрепить мир природы и мир материальных ценностей в единый образ.
Позиция поэта в понимании красоты остро полемичная, направленная против как бездушной косности официального искусства, так и выхолощенной революционности авангарда: «Мы спорили / О смысле красоты, / И он сказал с наивностью младенца: / – Я за искусство левое. А ты? / – За левое… / Но не левее сердца» [Там же, с. 194].
По мнению поэта, в искусстве через сердце творца должны пройти все боли мира. Выступая за социальную справедливость, он не мог не бороться против равнодушия сложившейся социальной системы к конкретному человеку. Все окружающее он пропускает через свою совесть. В маленькой поэме «Хозяйка» поэт вспоминает, что «мальчишкою в году тридцатом» он агитировал за будущую жизнь деревни и подводит итог: «Я шел и мучился внутренней виной, что нет в моей деревне счастья, в тот год обещанного мной». Виноваты в этом отнюдь не крестьяне. Вопреки официальной точке зрения, героиня стихотворения рассказывает, что «… жизнь в деревне стала плоше, / Что хлеб попрел, / Раздельно скошен». Обо всем она судит «без утайки», по сути, осуждая власть, «сельхозначальство и райком»: «Кольнула областное око, / Бросала и повыше взгляд – / На тех, кто учит издалека / Доить коров, / Поить телят» [8, с. 108]. С точки зрения автора, народ в любых социальных условиях остается носителем правды и нравственности.
Разрабатывая тему искусства, Федоров утверждает единство эстетического и нравственного идеала. Так, он поэтизирует трагический образ Бетховена – подлинного борца со злом: «Зло изощрялось / В хитрости, / В коварстве – / В искусстве добром изощрялся он». Даже тогда, когда от великого композитора отказываются его друзья, уходит любимая, когда «отрекается» сама природа и исчезают её звуки, великий композитор находит в себе силы, чтобы победить: «По знаку / Бурное его творенье / Со злом / За счастье / Начало боренье, / За чистоту, / За красоту страстей, / С жестокостью, / С пороками людей» [Там же, с. 266].
Преклоняясь перед подлинной народностью А.С. Пушкина, его эстетической мощью, В. Федоров высоко оценивает еще одну, близкую ему самому грань таланта великого художника. По его словам, «в силу особенностей пушкинского гения ему, как никому другому, посчастливилось высветить нравственную основу любви, если хотите – её философию» [9, с. 206]. В. Федоров вошел в литературу как автор прекрасных стихов о чистой и одухотворенной любви. Хрестоматийными стали его стихи из «Книги любви»: «Все речи, да речи…», «По главной сути жизнь проста…», «Любовь мне – как блистание…», – где он бичевал ханжество и поэтизировал вечную женскую красоту, сопрягал в поэтической строке земную страсть с высоким духовным подъемом. Мало кому из его современников удавалось так тонко и откровенно, но без пошлости, передать «великое сумасшествие торжествующей плоти»: «Нежность / До первозданного / Побледнения лика, / До глухого гортанного / Лебединого крика… / Лебедь / Крылья разбросила, / Замедляя движение… / Как на заводи озера, / Ты – моё отражение» [7, с. 318].
Поэт стремился передать глубоко противоречивое психологическое состояние влюбленности с трагическим оттенком: «Влюбленных шумно / Легок воз, / Зато любовь влюбленных тихо – / Как горе горькое без слез, / Как боль, болящая без крика». Поэт высмеивает тех, кто «составляет длинный список своих <…> побед» («Угар любви мне мил и близок…»), прославляете красоту женщины («О женщина, краса земная…», «Если б Богом я был, то и знал бы, что творил: женщину!»). Эта глубоко интимная лирика не замкнута в себе. В ней нет субъективных, затемняющих смысл ассоциаций. Запев Федорова к его «Книге любви» прямо определяет тех, кому обращены стихи: «А мои всего нужней / В горький час супружества. / Пусть коснется / Прядки прядь / Над моим пророчеством. / Моё горе повторять / Людям не захочется» [Там же, с. 303].
К концу 60-х годов образ возлюбленной меняется. «Полунебесная, стоящая на облаке» женщина спустилась с небес «на землю грешную». «Мой вкус перемещается от Рафаэля к Рубенсу», – декларирует поэт в книге «Третьи петухи»». Из всего того, / Чем люди дышат, / Что не дает / Качнуться и упасть, / Есть красота, / Она из благ всех выше, / А выше красоты / Лишь страсть», – подводит итог своим философским поискам идеала поэт в сборнике поэтических миниатюр «Заметы».
Наряду с гражданственной, пейзажной, философской и интимной лирикой Федоров внес значительный вклад в развитие различных форм лиро-эпоса. Он создал как малые формы поэмы, так и повести, и романы в стихах, как эпические, так и лирические её модификации. При этом они проникнуты как трагическим и драматическим пафосом, так и сатирическим. Его маленькие поэмы обычно насчитывают от 80 до 150 строк. Эпическая повествовательность присуща таким его маленьким поэмам, как «Карой Лигети», «Птичий сад», «Гамлет в совхозе», «Свадьба», «Пролог», «Хозяйка», «Человек». Художественное пространство маленькой поэмы слишком ограниченно, чтобы вместить в себя цепь событий, схему-пунктир реального времени, неоднократную смену места действия. Конечно, можно пойти по пути простого сокращения количества эпизодов, добиться краткости их описания, взять за основу одно-два места действия. В. Федоров идет другим путем, добиваясь драматизма, остроконфликтности и лаконизма решения идейно-художественной проблематики в маленькой эпической поэме. Основа хронотопа его маленьких поэм – это точка пересечения двух времен или двух пространственных плоскостей, их взаимодействие или столкновение.
В поэме «Гамлет в совхозе», с одной стороны, изображается реальное время и место действия, где «еще не старая, но седая сельчанка» смотрит кино в совхозном клубе, с другой – это время и пространство, отраженное, связанное с событиями, происходящими на экране. Но хотя в первой и последней строфах говорится, что Гамлет страдает на киноэкране, эти страдания выглядят как вполне реальные (мотивировка – наивный реализм восприятия крестьянки). Шесть строф посвящены времени Гамлета. Они объединяются анафорой «Страдает Гамлет…», с которой начинается каждая строфа. Все это происходит как будто в настоящее время, «теперь»: «Страдает Гамлет… / Золото венца, / Отечески светившее / Для принца, / ТЕПЕРЬ, / Когда живет / Лишь тень отца, / Блестит все так же / На его убийце» [8, с. 113].
При этом три строфы из шести соединяют два хронотопа. Здесь определяется точка наблюдения повествователя. Он воспринимает и свет, идущий из глубин веков, и в нем скорбящее лицо седой сельчанки. Четыре следующих строфы объединяются анафорой «Что Гамлет ей…». Здесь речь идет о времени жизни героини, хотя в двух строфах еще сохраняется время Гамлета. Как миллионы других советских женщин, она «дышала адом, прошла войну, со смертною бедой», пережила трагедию родной земли в послевоенное время.
Предпоследняя строфа противопоставлена предыдущим и звучит как итог: «Но с высоты страданья своего, с вершины веры, что неугасима…». С помощью пространственных образов (высота, вершина) поэт показывает величие героини, величие её времени и величие её страдания. Здесь окончательно сливаются проблемы двух исторических времен и судьбы героев на единой общечеловеческой основе. Простая русская сельчанка смотрит на Гамлета, как мать на сына. Два разных, далеко отстоящих друг от друга времени едины в поэме. Этим обусловлена и её кольцевая композиция. Единство при кажущейся несовместимости символически подчеркивается в названии «Гамлет в совхозе».
В поэме, где лиризм является структурообразующим, не смена (столкновение) событий, а смена переживаний играет главную роль в конструкции хронотопа. Пространство воспринимается обычно лирически-обобщенно, а время лирически-субъективно, события играют роль реалистической (в реалистической поэме) мотивировки переживаний, пространственные образы выполняют эмоциональную роль, а время приобретает условный характер. В поэме «Совесть» время переживаний и раздумий – время перерыва в пути. Это показывает кольцевая композиция. «Упадет голова – не на плаху, на стол упадет…» – так начинается поэма. «Упадет голова – не на плаху, на тихую грусть…» – так она заканчивается. Все, что происходит между этими точками, – происходит в сознании: «В темноте головы моей тихая всходит луна…». Пространственный образ голубой дороги символизирует жизненный путь человека. Из прошлого, «из могилы восставши», и в то же время из пространственной дали, «через тысячи верст, через реки, откосы и рвы» движется к поэту его мать, олицетворяющая совесть. С помощью субъективированных пространственных метафор выражается внутренний мир героя.
Здесь, как и в эпической поэме, прошлое сталкивается с настоящим, но это столкновение условное, оно происходит в сознании героя, который задает себе мучительные вопросы («Ну, а если я мир не избавил от слез, не избавил родных, то зачем же я, мама?»), горько сетует на то, что еще никого на земле «не сделал счастливей», прямо признается: «Значит, делаю что-то не так, значит, что-то со мною неладно» [9, с. 102]. За исключением первой и последней строф, время в поэме является психологическим, но в целом мы можем говорить о лирически трансформированном времени, о лирическом хронотопе.
Хотя хронотопы эпической, лирической и лиро-эпической поэм различны, все маленькие поэмы Федорова имеют в своей структуре общее, связанное с их жанровыми и стилевыми особенностями. Лаконизм изложения, одноконфликтность, узкий круг героев (обычно два) и проблем – все это черты маленькой поэмы. При этом если в поэмах средней и большой формы происходит движение сюжета, смена изображаемых картин, что связано с развитием времени среды («Проданная Венера», «Седьмое небо») или с развитием времени человеческой жизни («Белая роща», «Золотая жила», «Бетховен», «Аввакум»), то в маленьких поэмах оно статично или же амплитуда его развития очень мала. Если даже идет речь о создании природой человека, этот огромный период берется как одна эпоха, а вся история человечества – как другая.
В поэмах средней и большой формы тоже пересекаются и сопоставляются времена, но если даже их два, все равно они состоят из нескольких отрезков, то есть дискретны. Пунктирное движение времени в прошлом или настоящем характерно для поэм «Обида», «Золотая жила», «Белая роща» и др. Сложная и многократная смена времен лежит в основе «Проданной Венеры» и особенно поэмы романного типа «Седьмое небо». «Хронотоп как формально-содержательная категория определяет (в значительной мере) и образ человека в литературе; этот образ всегда суще- ственно хронотопичен» [1, с. 235]. С этой точки зрения следует отметить диалектическое единство позиции лирического героя в современном мире и авторских оценок, близость черт характера лирического героя и главных ролевых: отца («Отец»), Бетховена («Бетховен»), Аввакума («Аввакум»), Василия Горина («Седьмое небо»), деда Харитона («Золотая жила») и т. д. При этом характеры своих героев поэт обобщает, типизирует, иногда подчеркивая это прямо. «Сто разных вздохов, как её дыханье, и, как одно лицо её, сто разных лиц…» – говорит он, например, о героине поэмы «Гамлет в совхозе». Цельность и единство человека Федорова в его исторической конкретности, современности, в его национальной укорененности.
Диалектически един и изображенный автором мир. Реалистическая конкретность характерна для изображения как времени, так и пространства. Не случайно в поэмах Федорова указывается географически точное место, прикрепляющее, как правило, события и героя к родной стороне: родной деревне Марьевке («Муза», «Хозяйка», «Золотая жила»), родному краю («Пурга», «Белая роща»), Сибири («Дуся Ковальчук», «Пролог», «Обида», «Первые слезы»), Родине – России («Седьмое небо», «Проданная Венера» и т. д.) и Родине – всей Земле («Человек», «Бетховен»). Это не признак родства поэмы Федорова с идиллией (не идиллическая жизнь изображается в поэмах), а признак кровной связи автора с национальным пространством, принадлежности его к определенной общности: национальной, а через неё – общечеловеческой.
Характерно, что родной край изображается с помощью описания природы-тайги, названий пород деревьев, сурового климата (пурга, метель, трескучий мороз), мотива отдаленности, описания бытовых подробностей. В таком произведении, как «Свадьба», национальное пространство воссоздается самим свадебным обрядом, с плясовыми ритмами, народной речью, вышитой рубахой жениха и дедом на печи. В поэме «Птичий сад» его символизирует «иволга с Волги», а в поэме «Гамлет в совхозе» прямо говорится о трагедии родной земли. Пространство родины проникает и в лирический хронотоп: мотив сибирской дали и таежных вековых лесов органично входит в поэму «Совесть», а в поэме «Я – словно дом» его символом становится дом – деревянный с бревенчатыми венцами и русской печью.
Единство стиля проявляется и в том, что Федоров стремится ритм поэм (а ритмическая единица – единица времени изложения) привести в соответствие с временем изображенных событий или размышлений. Вот наглядный пример из поэмы «Муза»: «Миг – / Что зерно. / Вся жизнь в том миге» [8, с. 77].
«Миг» – строка из одного слога, одно ударение, «жизнь» – строка из пяти слогов, при этом четыре из них ударные. Или в поэме «Человек»: для природы, создающей человека, периоды, эры, века мгновенны, и каждое из этих слов составляет строку. «Мгновение в жизни должно быть мгновенным и в стихе» [9, с. 158], – заявляет сам автор и рассказывает, как проверял, вписываются ли его стихи в поэме «Седьмое небо» в то короткое время, в течение которого горит бикфордов шнур и происходит взрыв [2, с. 86]. В то же время у В. Федорова нет и не может быть натуралистического копирования реального времени, тем более ритм и интонация несут на себе и иные выразительные и композиционные функции.
Итак, в поэзии В. Федорова время жизни личности неотрывно от времени жизни народа, художественное пространство неотделимо от национального пространства. Духовный мир лирического героя В. Федорова богат, многоцветен и прекрасен. Это умный, волевой, сознающий свое достоинство, полный сил и внутреннего очарования человек.
GENRE AND STYLISTIC ORIGINALITY OF THE POETRY OF VASILY FYODOROV
Список литературы Жанрово-стилевое своеобразие поэзии Василия Федорова (к 100-летию со дня рождения поэта)
- Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Худож. лит., 1975. 504 c.
- Денисова И. За красоту времён грядущих. Поэзия Василия Фёдорова. М.: Моск. рабочий, 1971. 136 с.
- Николаева С. Ю. Концепт «степь» в коммуникативном пространстве поэзии П. Н. Васильева//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2011. № 3. Вып. 1. С. 127-138.
- Николаева С. Ю. Новые тенденции в поэтическом творчестве Николая Капитанова и Владимира Львова//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2017. № 1. С. 68-79.
- Николаева С. Ю. О символике пейзажа в «Воскресении» Л. Н. Толстого//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2013. № 10. Вып. 3. С. 78-84.
- Светлов М. В ночь под пятьдесят//Яшин А. Бессонница. Лирика. М.: Сов. Россия, 1967. 126 с.
- Федоров В. Д. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. М.: Молодая гвардия, 1975. 496 с.
- Федоров В. Д. Собр. соч.: В 3 т. Т. 2. М.: Молодая гвардия, 1975. 464 с.
- Федоров В. Д. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. М.: Молодая гвардия, 1976. 624 с.