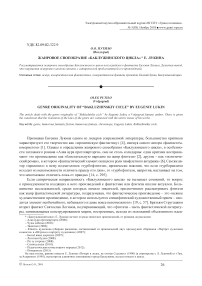Жанровое своеобразие "Баклужинского цикла" Е. Лукина
Автор: Путило Олег Олегович
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Лингвистика и филология
Статья в выпуске: 5 (58), 2018 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается жанровое своеобразие Баклужинского цикла волгоградского фантаста Евгения Лукина. Делается вывод, что нарушения жанровых канонов связаны с сатирической проблематикой его произведений.
Жанр, юмористическая фантастика, юмористическое фэнтези, хронотоп, евгений лукин, баклужинский цикл
Короткий адрес: https://sciup.org/148310958
IDR: 148310958 | УДК: 82.09:82-322.9
Текст научной статьи Жанровое своеобразие "Баклужинского цикла" Е. Лукина
Признавая Евгения Лукина одним из лидеров современной литературы, большинство критиков характеризуют его творчество как «ироническую фантастику» [4], именуя самого автора «фантастом-юмористом» [1]. Однако в определении жанрового своеобразия «Баклужинского цикла», в особенности заглавного романа «Алая аура протопарторга», они не столь солидарны: одни критики воспринимают это произведение как «блистательную пародию на жанр фэнтези» [2], другие ‒ как «политический роман», в котором «фантастический элемент оказался в роли памфлетного антуража» [6]. Сам же автор «прилепил» к нему подзаголовок «турбофэнтези», иронически пояснив, что если «турбореализм исходит из невозможности отличить правду ото лжи», то «турбофэнтези, напротив, настаивает на том, что невозможно отличить ложь от правды» [14, с. 295].
Если сатирическая направленность «Баклужинского цикла» не вызывает сомнений, то вопрос о принадлежности входящих в него произведений к фантастике или фэнтези вполне актуален. Большинство исследователей, среди которых немало писателей, предпочитают рассматривать фэнтези как жанр фантастической литературы, подразумевая, что фантастическое произведение – это «всякое художественное произведение, в котором используется специфический художественный прием – вводится элемент необычайного, небывалого и даже вовсе невозможного» [19, с. 57]. Братьям Стругацким вторит фантаст Святослав Логинов, подчеркивающий, что «фэнтези – часть фантастической литературы, занимающаяся конструированием миров, построенных, исходя из положений объективного идеа- лизма» [11]. Ошибочное мнение, что фэнтези не имеет никакого отношения к фантастике, возникло в результате отождествления рядом читателей и литературоведов понятия «фантастика» с одной лишь ее разновидностью – фантастикой научной (science fiction). Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что фантастика понимается исследователями как более широкое явление, включающее в себя ряд направлений и жанров. Именно поэтому логичнее будет противопоставить фэнтези рациональной фантастике. Таким образом, определенная нами проблема может быть конкретизирована в виде вопроса: относится ли произведения «Баклужинского цикла» к юмористической фантастике или к юмористическому фэнтези?
Введенное в отечественное литературоведение понятие «рациональная фантастика» более точно передаёт специфику фантастической посылки текстов, которые «отличает логичность, целостность, мотивированность, соотнесенность с современной научной картиной мира. В рамках рациональной фантастики выделяют строго “научную”/“научно-техническую” и “социальную”/“социально-фило-софскую” разновидности» [8, с. 546]. Фэнтези же, по мнению Т.А. Чернышёвой, ‒ это сказка, «в которой мы встречаемся с волшебниками, феями, говорящими животными, инопланетянами и т. п.» и которую можно назвать «игровой фантастикой или повествованием сказочного типа» [24, с. 74].
Первоначальная попытка разграничить рациональную фантастику (в первую очередь, представленную science fiction) и фэнтези основывалась на разнице в содержании. По мнению Т.А. Чернышевой, в фантастическом произведении изображаются «возможные (курсив наш. ‒ О. П.) в будущем перемены, открытия, возможные в галактике миры и цивилизации, в то время как фэнтези отображает нечто заведомо невозможное (курсив наш . ‒ О. П.) » [Там же, с. 53]. Сразу же была выдвинута версия, гласящая, что «космические корабли, технические изобретения безоговорочно относились к научной фантастике, в то время как в фэнтези действовала магия, здесь герои вооружены не бластерами и формулами, а мечами и заклинаниями» [5, с. 40]. Конечно, тексты, в которых фэнтези и рациональная фантастика объединяются, – не редкость. «В первом случае авторы рисуют два мира – условно говоря, мир магии и мир высоких технологий. В таком случае миры противопоставляются друг другу, а главные герои оказываются между ними. Второй тип синтеза – создание техномагических миров. В пространстве подобных текстов техника функционирует благодаря магии (например, гоблины толкают ракету, а демоны ведут самолет)» [22, с. 19]. В «Баклужинском цикле» есть свои примеры интеграции фэнтезийных и рационально-фантастических элементов: засевший в бардачке «мерседеса» рыжий наглый гремлин и управляющая моторной лодкой моторыжка, «нечисть бывалая, многое повидавшая» [17, с. 59], привычная к загибам русского мата, ‒ явные проявления технофэнтези. Чаще всего такие образы, иллюстрирующие тесную взаимосвязь техники и магии, характеризуют пространство Баклужино, в котором правит партия «Колдуны за демократию», в то время как в других городах-государствах сверхъестественные явления либо объясняются народной верой (Лыцк), либо отсутствуют вовсе (Суслов, Понеропль, Сызново, Гоблино). Единичные случаи проявления содержательного синкретизма определяются не столько тенденциями, возникшими в литературе последних десятилетий, когда инопланетяне и космические полеты, бывшие чертой исключительно научной фантастики, все чаще появляются в сказках, а волшебство вместе с приставкой «пси» приобретает научное обоснование [24, с. 380], сколько юмористическим пафосом произведений Е. Лукина.
Отсутствует в «Баклужинском цикле» и такое обязательное для классического фэнтези жанровое требование, как противостояние сил Добра и Зла. По словам В. Гончарова, в романе Е. Лукина «почти нет плохих людей, все герои не только обаятельны, но и по-своему честны, искренни, а главное – добры» [6]. Ни Глеба Портнягина, ни протопарторга Африкана нельзя однозначно ассоциировать с той или иной стороной вечного конфликта. Их вражда обусловлена не различными мировоззренческими позициями, а рациональным расчетом: «Да на хрен ты мне здесь нужен в друзьях? <...> Ты мне там!.. Там во врагах нужен! – И Президент неистово ткнул в сторону Лыцка. – Пока ты там – ты страшилище! Тобой в Америке детей пугают!.. Им же против тебя союзник позарез необходим!.. А союзник – это кто? Это – я!.. Это – Баклужино!.. Значит, гуманитарная помощь, значит, вступление в НАТО!.. Займы, инвестиции, черт побери!» [13, с. 218]. Подмена понятий создаёт определенный комический эффект, переходящий в философскую сентенцию: «Враг – это вам не друг <...> Вообще нужно быть очень наивным человеком, чтобы, попав в беду, кинуться за помощью к друзьям. Друзья скорее всего пошлют вас куда подальше, а вот враги – навряд ли. Конечно, при условии, что вы себе выбрали умных врагов. В остальном же и те, и эти удивительно схожи между собой» [Там же, с. 219]. В конечном итоге Глеб отдаёт протопарторгу чудодейственную икону и оказывает максимальную помощь для возвращения в Лыцк, на что Африкан отвечает ответной услугой, запуская боевую ракету-«пустышку» по Президентскому Дворцу. Несомненно, между властями Баклужино и Лыцка нет большой разницы: и те, и другие, манипулируя народным сознанием, плетут интриги ради достижения своих целей. Этический релятивизм, определяющий основной конфликт в цикле, не только является самобытной чертой элитарного, неподражательного отечественного фэнтези, в котором «чёткое деление на “тёмных и светлых” в романах российских авторов стало явным признаком бульварщины» [11], но и добавляет вымышленному миру реалистичности, подтверждая авторское определение жанра. По мнению Б. Завгороднего, «сам Евгений Лукин признается, что давно уже не видит разницы между вымыслом и реальностью» [9].
В решении вопроса о жанровой специфике цикла Е. Лукина более четким является критерий, связанный с системой посылок (или допущений). Если «в рациональной фантастике посылка тщательно “вписывается” в действительность, совмещается с нею» [10, с. 88], то в фэнтези «фантастические события подаются как “естественные” для данной модели мира» [Там же], В отличие от фэнтези, рациональная фантастика, даже изображая нечто, лежащее за пределами нашего опыта, делает это в согласии с законами реальной действительности, по крайней мере, не противоречит им [24, с. 53].
«Как правило, произведениям Лукиных присуще минимальное фантастическое допущение, в них описываются наш мир и общество, вне зависимости от того, где и когда происходит действие» [8, с. 547]. В «Баклужинском цикле» ведущим допущением служит пространство бывшей Сусловской области. Топонимы маленьких провинциальных городков (Баклужино, Лыцк, Суслов, Сызново и т. д.) в целом не содержат сверхъестественных элементов и вполне отвечают требованиям рациональной фантастики, оставляя незыблемой материальную основу мира и не пытаясь всеобъемлюще преобразить мир [10, с. 103–104]. Гораздо ближе к фэнтезийной традиции второе допущение цикла – заселенный мистическими сущностями (барабашками, домовыми, угланчиками, страшками и т. п.) астральный план, в котором путешествуют герои книги «Портрет кудесника в юности». Эти неомифологические иллюстрации свидетельствуют о влиянии, которое оказал на цикл Е. Лукина жанр городского фэнтези, где в основе сюжета «лежит идея двоемирия: мира таинственного, населенного не-людьми, и мира профанного, повторяющего повседневность читателя» [23, с. 131–132].
Астрал живет по своим законам, не имеющим рационального обоснования. Даже для такого маститого колдуна, как Ефрем Нехорошев, он остается загадкой: «– Слушай, Ефрем, – сказал Глеб. – Астрал – он ведь один? Или много их? – Да Бог его знает… – расстроенно молвил колдун. – Тут с физическим-то миром хрен разберёшься…» [16, с. 170]. Известно, что реалистичность рациональной посылки в научно-фантастическом произведении должна подкрепляться «установкой на достоверность» [24, с. 295–296], часто предстающей в виде подробного объяснения принципов устройства вымышленного элемента. Например, «если фантастика обращается к магии, то чаще всего это объясняется так: у некой группы существ есть паранормальная способность, обусловленная радиацией, генетической предрасположенностью и т. д. Затем следуют правила и законы, по которым эти существа могут применять эти сверхъестественные способности» [7, с. 27–28]. Отсутствие рационального объяснения принципов «работы» астрала можно объяснить не столько влиянием фэнтези, где допущение принимается на веру таким, какое есть, сколько предрасположенностью современной фантастики к редуцированию мотивировки небывалого и невозможного: «После того, как у фантастики появился опытный читатель, фантасты стали вместо придумывания развернутых мотивировок фантастического ограничиваться общим указанием на “мифологическое”, или вернее фантастическое, пространство, в котором царит соответствующая атмосфера сказочной вседозволенности. В этих условиях фантастам стало гораздо проще сознательно использовать мотивы старых сказок и само “сказочное пространство”» [21, с. 46]. После подробных описаний тонких миров в околонаучной и мистической литературе конца ХХ в., «всеобщего помешательства на мистике и эзотерике, охватившего страну под занавес перестройки» [3], идея астрала не нуждается в доказательной аргументации и развернутой мотивировке. К началу ХХI в. она уже давно была «зарегистрирована» памятью читателей научной фантастики [24, с. 40], закрепилась и стала «привычной обиходному сознанию» [Там же, с. 298].
Астральный план в цикле в большинстве случаев остается в пределах категории фантастического: читатель вслед за героями часто испытывает сомнение, является ли происходящее реальностью или сном, правдой или иллюзией, вмешательством сверхъестественного или же стечением необычных обстоятельств [20]? По-разному могут быть истолкованы такие события, как отвалившееся напротив краеведческого музея левое переднее колесо, заклинивший на мосту пулемет, обыскивающий дерево пограничник и т. д. Более того, сами колдуны иронически подчеркивают, что существование астрала недоказуемо: «– А не выходим мы в астрал! – развязно объявил Глеб. – И не выходили никогда… Кто докажет? Глюки у нас, Ефрем! Глюки! Справочку только от психиатра надо будет выправить…» [16, с. 170].
Выбор в пользу фантастического-чудесного или фантастического-необычного определяется конкретным сатирическим замыслом: по одному лишь слову Никодима Людского, будущего протопарторга Африкана, обыскивающего рынок в поисках вора, «шапки на продавцах и на покупателях задымились, а затем вспыхнули разом» [15, с. 233], а основой чуда, остановившего шестой флот США, и вовсе становится «народная стихия». Не могут колдуны справиться с не верящими в колдовство налоговой и милицией, атеистами и набожными. В рассказах «Понарошку», «Рекомендация», «Тридцать три головы молодецкие», «Цирк боевых действий» магия астрала оборачивается обманом, мистификацией или тонким психологическим расчетом. Победоносное «воскрешение» Африкана было инспирировано спецслужбами Баклужино и не имело ни малейшей сверхъестественной составляющей.
Итак, поскольку «любая система жанровой классификации способна дать четкое определение лишь “ядру” литературного направления, но никак не бесчисленным пограничным течениям» [18], жанровая принадлежность произведений, входящих в «Баклужинский цикл» не может быть определена однозначно. Творения Е. Лукина носят метажанровый характер, включают элементы технофэнтези и городского фэнтези, позволяющие усилить достоверность «за счет приведения названий мест, топонимов, четкого указания на место действия» [23, с. 131]. Использование подробной топологии городского пространства способствует «узнаваемости мира», «спонтанно повышает интерес к повествованию, дополняя авторские арсеналы прекрасным инструментом для художественного исследования актуальных проблем человечества» [18]. Таким образом, читатель опознает не только элементы пространства, но и разворачивающиеся в их пределах комичные ситуации.
Мнение, что произведения Е. Лукина представляют собой пародии на фэнтези или мистический реализм, представляется нам не совсем обоснованным, поскольку нарушения жанровых канонов служат не целям насмешки над жанром, а передают сатирическую проблематику текстов. Часть произведений, входящих в цикл («Чушь собачья», «Понерополь», «Педагогическая поэма второго порядка», «Звоночек», «По ту сторону», «Лечиться будем»), определенно относится к юмористической фантастике: фантастическое ограничивается в них единственным допущением – хронотопом бывшей Сусловской области, выстраиваемом в логике рациональной фантастики.
В то же время роман «Алая аура протопарторга» может быть определен как прекрасный образчик юмористического фэнтези, жанровые нарушения в котором способствуют усилению комического элемента. Хотя сам Е. Лукин не считает свой роман сатирой, отмечая, что ему «показалось забавным слить в один флакон политику, мистику, фольклор» [12], она тем не менее присутствует в тексте, подчиняя своим правилам жанровое своеобразие, чтобы подчеркнуть беспринципность всякой власти, стремящейся манипулировать народным сознанием.
Список литературы Жанровое своеобразие "Баклужинского цикла" Е. Лукина
- Анисимов С.В. Кудесник из национал-лингвистской партии [рецензия на кн.: Лукин Е. «Портрет кудесника в юности»] // Книжная витрина. 2005. № 5(170). С. 7.
- Бор А. О творчестве Евгения Лукина [Электронный ресурс] // Фантаст. 2001. № 3. URL: http://lukiny.rusfforum.org/ index.php?action=vthread&forum=4&topic=10 (дата обращения: 07.07.2018).
- Владимирский В.А. «Скажи мне, кудесник, любимец богов…» [рецензия на кн.: Лукин Е. «Портрет кудесника в юности» [Электронный ресурс] // Мир фантастики. 2004. № 11. С. 12-13. URL: http://old.mirf.ru/Articles/art493.htm (дата обращения: 07.07.2018).
- Владимирский В.А. Кудесник, несущий свободу [рецензия на кн.: Лукин Е. «Портрет кудесника в юности». [Электронный ресурс]. URL: https://www.ozon.ru/context/detail/id/3134771/ (дата обращения: 07.07.2018).
- Гаков В. Мудрая ересь фантастики: предисловие // Другое небо: сборник / сост. В. Гаков. М.: Изд-во полит. лит- ры, 1990. С. 8-42.