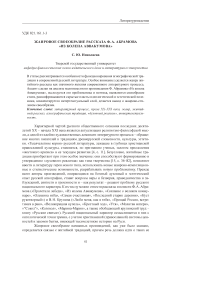Жанровое своеобразие рассказа Ф. А. Абрамова "Из колена аввакумова"
Автор: Николаева Светлана Юрьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности функционирования агиографической традиции в современной русской литературе. Особое внимание уделяется жанру житийного рассказа как значимого явления современного литературного процесса. Акцент сделан на анализе малоизвестного произведения Ф. Абрамова «Из колена Аввакумова», исследуется его проблематика и поэтика, выявляется своеобразие стиля, расшифровываются скрытые пласты идеологической и эстетической полемики, комментируется интертекстуальный слой, делается вывод о жанрово-стилевом своеобразии.
Литературный процесс, проза xx-xxi века, жанр, житийный рассказ, агиографическая традиция, "духовный реализм", интертекстуальность
Короткий адрес: https://sciup.org/146122082
IDR: 146122082 | УДК: 821.161.1-3
Текст научной статьи Жанровое своеобразие рассказа Ф. А. Абрамова "Из колена аввакумова"
Характерной чертой русского общественного сознания последних десятилетий XX – начала XXI века является актуализация религиозно-философской мысли, а одной из идейно-художественных доминант литературного процесса – обращение многих писателей к традициям древнерусской словесности, культуры, эстетики. «Тысячелетние корни» русской литературы, лежащие в глубинах христианской православной культуры, становятся, по признанию ученых, залогом преодоления «жестокого кризиса» в ее текущем развитии [4, с. 11]. Безусловно, житийные традиции приобретают при этом особое значение: они способствуют формированию и утверждению «духовного реализма» как типа творчества [15, с. 36–82], позволяют ввести в литературу героя нового типа, использовать новые жанрово-композиционные и стилистические возможности, разрабатывать новую проблематику. Прежде всего авторы произведений, опирающиеся на богатый духовный и эстетический опыт русской агиографии, ставят вопросы веры и безверия, праведничества и заблуждений, святости и греховности и – как результат – решают проблему русского национального характера. К их числу можно отнести рассказы и повести Ф. А. Абрамова («Пролетали лебеди», «Из колена Аввакумова», «Сказание о великом коммунаре», «Олешина изба», «Самая счастливая», «Последний старик деревни», «Куст рукотворный») и В. Н. Крупина («Люби меня, как я тебя», «Прощай Россия, встретимся в раю», «Великорецкая купель», «Крестный ход», «Утя», «Молитва матери», «“Сокол”», «Колокол», «Марина-Марин», а также обобщающий крупинский труд – книгу «Русские святые»). Русский национальный характер осмысливается в них с онтологической точки зрения, с учетом христианской (православной) системы ценностей и законов бытия, имеющей тысячелетнюю историю на Руси.
Жанровое своеобразие названных произведений, как уже было сказано, определяется связью с житийной традицией, причем речь должна идти о таких ее разновидностях, как проложная (более строгая и учительная), минейная (в большей мере беллетризованная и потому пространная), патериковая (новеллистическая). К первому разряду явно тяготеют абрамовские «Сказание о великом коммунаре» и «Куст рукотворный», крупинские «Марина-Марин» и «Утя», ко второму – «Из колена Аввакумова» Ф. А. Абрамова и «Русские святые» – своеобразные «Четьи-Ми-неи» В. Н. Крупина. «Последний старик деревни», «Молитва матери», «“Сокол”», «Колокол» – эти шедевры воспринимаются как патериковые новеллы и действительно воспроизводят соответствующую жанровую структуру с ее «чудесами», «видениями», «явлениями», «случаями».
Более того, следуя классификации житий по типу героя, предложенной В. В. Кусковым, можно в современной прозе обнаружить соответствующие модификации жанра, и тогда «Олешина изба» будет рассматриваться как житие столпника, «Пролетали лебеди», «“Сокол”» и «Марина-Марин» – как жития юродивых, «Из колена Аввакумова» – как мученическое житие, «Молитва матери» – как житие исповедническое. Типология средневековых житийных героев и персонажей современного житийного рассказа обладает общностью не только и не столько эстетической или идеологической, сколько духовной (религиозной) и нравственно-психологической: перед нами проходят русские мученики и исповедники, юродивые и отшельники, каждый из которых олицетворяет собой особую, отдельно воплощенную грань русского национального характера.
Воспользовавшись термином «житийный рассказ», можно увеличить объем и содержание этого понятия и предложить такое определение: «житийное повествование». Ведь не вызывает сомнений художественное родство значительных по объему крупинских повестей («Люби меня, как я тебя», «Прощай, Россия, встретимся в раю», «Великорецкая купель», «Крестный ход») с краткими житийными рассказами писателя. Потребность во введении таких терминов обусловлена невозможностью и неисторичностью использования слов «житие» и «агиография» при описании современной жанровой системы.
В начале 1980-х годов литературоведы попытались обосновать правомерность вычленения особой внутрижанровой разновидности – «житийного рассказа» – в современной русской новеллистике, учитывая прежде всего такие ее жанровые признаки, как конфликтообразующая антиномия «человека» и «судьбы», широкий пространственно-временной охват событий, протяженный во времени и сжатый в коротком повествовании «сюжет-судьба», преобладание сюжетного авторского повествования над другими речевыми структурами, эпическая точка зрения повествователя [6, с. 17]. Справедливо отмечено, что современный житийный рассказ не следует считать прямым и непосредственным продолжением агиографической традиции (это влияние опосредовано промежуточными звеньями в истории жанра). Однако очевидна неправомерность научного подхода, который абсолютизирует различия между содержанием современного житийного рассказа и тематикой средневековой агиографии [Там же, с. 8–9]. Это происходит потому, что исследователь избегает обсуждения вопросов религиозного сознания и национальной русской ментальности, а ведь именно они в первую очередь обусловливают связь старинной и современной русской «житийной» литературы.
Более того: по нашему мнению, термин «житийный рассказ» мог бы использоваться более плодотворно (ведь он призван описывать вполне сложившийся идейно-художественный феномен), если бы он был корректнее и теснее соотнесен с понятием «агиография». Как известно, житие – далеко не всякое жизнеописание, в котором раскрывается и реализуется антиномия «человека» и «судьбы», но прежде всего это жизнеописание святого, праведника, это произведение, отстаивающее христианские нравственные ценности, и судьба в нем осмысливается не как цепь случайностей на жизненном пути героя, а как «суды Божии неиспытуемые», Божье произволение, которому подчиняется истинно русский человек.
В основе житийной структуры лежит архетип судьбы Иисуса Христа, повествование о его земной жизни. Каждое житие – это «благая весть» о том или ином праведнике, о его борьбе за веру и во имя веры, это история жизни идеального, «положительно прекрасного» человека, который на своем примере показывает действенность православной этики и напоминает о Христе. Поэтому непременными атрибутами житийного рассказа, его жанрообразующими признаками должны быть особая образная система, включающая в себя тип героя-защитника веры или героя-богоискателя, образы священнослужителей, церкви, Бога, приметы религиозного быта, формы воплощения или даже непосредственного олицетворения понятий добра и зла, особый сюжет с элементами фантастического, основанный на некоем «чуде» или «знамении».
Отыскивая в современной действительности героя, достойного стать действующим лицом житийного рассказа, писатели глубоко проникают в структуру русского национального характера и в эпоху господства различных разрушающих этот характер сил пытаются выявить и закрепить в сознании читателя некие его доминанты. Такими доминантами следует считать аскетизм и самоотверженность русской женщины («Марина-Марин», «Колокол» Крупина, «Самая счастливая» Абрамова), способность трудиться на благо людям вопреки людскому непониманию и осуждению («Сказание о великом коммунаре» и «Куст рукотворный» Абрамова), бескорыстие и сила любви («Люби меня, как я тебя» Крупина, «Последний старик деревни» Абрамова), «широкость» натуры русского человека, готового проповедовать «идеал Мадонны» с «идеалом содомским» (выражения Достоевского), сочетание в нем крайностей, противоположностей, сомнений и веры («Олешина изба» Абрамова, «Колокол», «Утя» Крупина).
Собственно говоря, историческая дистанция между каноническим житием и современным житийным рассказом обусловлена особенностями религиозного (или безрелигиозного) сознания писателя (впрочем, следует признать, что житийные рассказы как в XIX, так и в XX вв. создавали в основном художники верующие или ищущие веру), степенью беллетризации жанра и принципами новой и новейшей характерологии. Произведения писателей Нового и Новейшего времени более беллетризованы, более психологичны, в большей мере учитывают научный, материалистический характер сознания читателя, нежели традиционная агиография [7]. Но на уровне жанровой структуры, композиции сюжета, пространственно-временной структуры и авторского мировосприятия и мироотношения связь современного житийного рассказа с житием выглядит более тесной, чем представляется в цитированной выше работе Н. Ф. Локтева [6].
Показательным в данном отношении представляется рассказ Ф. А. Абрамова «Из колена Аввакумова» (1978), занимающий особое место как в творчестве самого писателя, так и в контексте новейшей русской литературы в целом, хотя в критике и литературоведении он обойден вниманием, недооценен и лишь упоминается как пример, иллюстрирующий разнообразие жанров в прозе Ф. Абрамова [1, с. 156]. Между тем благодаря тонкому и глубокому художественному анализу феномена русской веры и русской святости этот рассказ является истинным шедевром.
Он повествует о подвиге веры, совершенном обычной русской женщиной («обычной русской святой»), и содержит в себе ключевые жанровые признаки жития.
Как известно, герой жития происходит от благочестивых, верующих родителей и с юных лет проявляет стремление к служению Богу, а если же какой-либо из этих признаков отсутствует, то это толкуется автором как еще одно важнейшее доказательство его святости, которая формируется вопреки неблагоприятным обстоятельствам, или как повод для обращения героя в христианскую веру. В истории жизни и судьбы абрамовской Соломеи (Соломиды) точкой отсчета стал случай, произошедший с нею в молодости: после тяжелой крестьянской работы на сенокосе за сорок верст от дома она согрешила «похвальным словом» и побежала на «игрище», за что и была наказана тяжелой болезнью – обезножела: «Вот как меня господь-то Бог за похвальное слово наказал» [Там же, с. 453]. Заметим, что этот недуг один из наиболее типичных, которыми страдают обычно персонажи житийных повестей, повестей об иконах и совершаемых ими чудесах.
Условия исцеления, выдвинутые лекаркой Марьей-постницей перед Соло-мидой, – это фактически «маркеры» житийного жанра, которые направляют повествование в русло традиционной агиографии, превращая героиню в святую: Соло-мида должна оставить навсегда гулянки и игрища, то есть отрешиться от мирской жизни, перейти в «старую», то есть истинную, по мнению рассказчика, веру и, наконец, совершить паломничество в Пустозерье, за 500 верст от Пинеги, к «святому великомученику Аббакуму» и поклониться его кресту. Героиня эти условия принимает и исцеляется не только телом, но и духом, так как на избранном пути терпеливо, с опорой на божье слово, сносит все испытания: «Сподобилась принять крещение морозами да снегами. Страсть, страсть эти хивусати тамошние – метели-то да бураны снежные. Как задует, задует , ни земли, ни неба не видно, по пяти ден из кушни, лесной избы, выбраться не можем. Все угорим , все облюемся – о беда . Але темень-то эта тамошняя. У нас о ту пору, возле Рождества, свету немного бывает, а там день-то – как зорька сыграт, а то все ночь, все темень кромешная. Мужики звезды в небе ищут, по звездам едут, а я крестом себе дорогу освещаю» ([Там же, с. 452]; здесь и далее курсив мой – С. Н.). Сама стилистика рассказа Соломиды (отмеченные в тексте повторы и восклицания) близка к стилистике «Жития» «огнепального протопопа», последовательницей которого ей довелось стать. Преемственность духовного поиска Аввакума и абрамовской героини «из колена Аввакумова», защита своей веры в любых самых страшных обстоятельствах – вот что делает Соломиду святой. Как диктует житийный канон, прежде всего люди подтверждают это – они идут к ней со всей Пинеги, чтобы услышать ее рассказ и тем самым прикоснуться, ощутить свою причастность к святыням своей веры.
Несомненны аллюзии и реминисценции из «Жития» Аввакума и в воспоминаниях Соломиды о лагере, в котором она сидела «за веру», и о «карьцере»: «… зуб на зуб не попадат. Руки коченеют. О, думаешь, хоть бы щепиночку какую дали, я бы и то обогрелась. А потом думаю: а слово-то божье мне зачем дадено? Помолюсь, раскалю себя молитвой, вспомню про праведника Аббакума, как его в яме-то, в подземелье гноили да холодами пытали, голой сидел, мне и теплее станет. Словом, словом божьим обогревалась» [Там же, с. 455]. Стилистические приемы подкрепляют очевидность сюжетных параллелей между абрамовским рассказом и «Житием» Аввакума, достаточно вспомнить: «Осень была, дождь на меня шелъ, всю нощъпод капелию лежал. Какъ били, так не болно было с молитвою тою <…>. Сверху дождь и снегъ, а на мне на плеча накинуто кафтанишко просто; льетъ вода по брюху и спине, – нужно было гораздо <…>. Грустко гораздо, да душе добро: не пеняю уже на Бога вдругорят <…>. Его же любитъ Богъ, того наказуетъ; биет же всякаго сына, его же приемлет <…>. И сидел до Филипова поста в студеной башне, – тамъ зима в те поры живетъ – да Богъ грелъ и без платья!» [12, с. 364].
Еще один фрагмент рассказа содержит явные житийные признаки. Речь идет о замужестве и бесплодном браке Соломиды. И вновь она выдерживает посланное ей испытание, осознав, что «се от Бога», и обратившись к молитве [1, с. 453]. Вновь Бог помогает ей, исцеляет ее мужа.
Святость героини проявляется в ее необычайных способностях. Она сумела своего мужа, избитого до смерти, «божьим словом из мертвых воскресить» [Там же], могла «животину строптивую» укрощать – например, коня у Фокти-барышника [Там же, с. 454]. Сама Соломида прекрасно понимает, что благодаря «божьему слову» причастна к высшим силам: «Святые-то угодники, в пустошах которые жили, какие чудеса в старину творили! Льва и медведя укрощали» [Там же]. Подтверждает особую связь старухи с окружающим миром Божьим и рассказчик, описывающий «молоденькую овечку», доверчиво ткнувшуюся в ее колени [Там же, с. 449].
Вера составляет главный смысл и содержание жизни Соломиды, и во всем она видит Промысел Божий. Об этом свидетельствует и ее объяснение своей репутации «икотницы» (муж в молодости пригрозил драчунам: «Я на вас икот напущу», отсюда и ненависть людей: «Вот ведь как к бесам-то взывать, а не к Богу-то» [Там же, с. 453].), и сцена ее противостояния «иродам»-односельчанам, решившим погубить ее и мужа: «Разве у смертного человека хватило бы силы одной на супостатов пойти, крест из кола поднять да огонь из себя родить?.. Тогда ведь и спичек не было…» [Там же].
Финал жизни Соломиды традиционно-житийный: она не только с удивительной и устрашающей других людей точностью предсказывает свою смерть, собрав в нужный момент старух и баб для прощания, но и оправдывается перед миром своей легкой смертью, подтверждает свою правоту, свое праведничество: «Что ты, как не святая. Икотницы-то помирают – по целым дням кричат да корчатся, бесы мучают. А тут ведь как голубок вздохнула» [Там же, с. 457].
Повествователь делает вполне определенный и оправданный вывод о судьбе Соломиды, а тем самым и о жанре своего рассказа: «Да, бабушка, …не жизнь у тебя, а целое житие» [Там же, с. 456]. Заметим, что это «житие» изложено самой Соломи-дой, то есть духовный опыт Аввакума преломлен и усвоен ею полностью.
Следует отметить, что художественный замысел Ф. Абрамова интересен и сложен. Достаточно сказать, что литературными источниками для писателя послужили «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное», а также, по-видимому, апокриф о Соломее и повесть о Соломонии бесноватой.
Соломея – образ двойственный. С одной стороны, это мать апостолов Иакова и Иоанна Богослова, то есть праведница. С другой стороны, это дочь Иродиады, жены Ирода Антипы, потребовавшая по наущению своей матери голову Иоанна Крестителя [13, стлб. 2095]. Героиня абрамовского рассказа по сути своей праведница, святая, претерпевшая множество страданий за свою веру, однако в восприятии людей она, хоть и вследствие клеветы, но злая «икотница», ворожея, грешница. Абрамовская Соломея не виновата в приписываемом ей грехе, но невольно становится объектом народного гнева и возмущения, народная молва осуждает ее за умение «насылать» тяжкую болезнь «икоту», подобно тому как в апокрифе дочь Иродиады поневоле участвует в зарождении мирового «вихря»,
«лихорадки», «плясавицы», «трясавицы». В своей переработке соответствующего апокрифа именно такой смысловой акцент сделал А. Ремизов, характеризуя свое «смутное» время [2, с. 54–55], а Ф. Абрамов использовал эту систему образов в описании жития своей Соломеи, современницы коллективизации, репрессий и других трагических событий XX века. Абрамовская героиня живет своей внутренней жизнью, обособленной и отгороженной от жизни односельчан, но вместе с тем она роковым образом вовлечена в круговорот истории в том смысле, что общественное мнение избирает ее на роль виновницы всего происходящего, на нее возлагается ответственность за все те беды и страдания, которые выпадают на долю русского народа. И удивительно, что Соломея терпеливо несет свой нелегкий крест, искупая грех своего мужа (легкомысленное слово), а также грехи многих других людей. Осознать сущность текущего исторического момента и истоки совершающейся на глазах национальной трагедии (гибель деревни, разрушение русского традиционного бытового уклада, утрату веры) простой народ не может в силу различных социальных, психологических, идеологических причин, ему гораздо легче обвинить во всех бедах «злую икотницу». Соломея взваливает на себя непосильную ношу искупления общенационального греха, и это искупление действительно происходит, что подтверждается ее легкой смертью: «Как голубок вздохнула». Посмертное оправдание Соломеи – это оправдание всего народа, который на протяжении XX столетия совершил множество ошибок и грехов, но при этом много страдал и тем самым искупил грехи. Бог не покинул Соломею, а значит, не покинул и ее родную деревню Койду, не покинет и Россию. Так следует понимать финал рассказа, в котором подчеркивается безымянность могилы Соломеи, заброшенность кладбища и самой деревни: на свежем сосновом столбике «не было ни единой буквы, ни единого знака». «Знаки» автору и не нужны, ведь речь идет о любой русской деревне, о России в целом, о тех праведниках, без которых не стоит ни одно село и которыми держится Русская земля.
Вследствие созвучия имен Соломея и Соломония в творческом сознании Ф. Абрамова могли контаминироваться два источника, тем более что в обоих речь идет «о борьбе темных, бесовских и светлых, божественных сил за душу человека» [15, с. 45] и в обоих побеждает христианская мораль, вера. Поэтика повести о Соло-монии бесноватой отразилась в творчестве В. Шишкова [Там же] и, на наш взгляд, в описании болезни «икоты» и смерти «икотниц» у Ф. Абрамова.
Целостное исследование функционирования агиографической традиции в литературе Нового и Новейшего времени, анализ художественного своеобразия и содержания русских житий, их эволюции, изучение феномена «русской святости» – насущная задача современного литературоведения. Эту задачу ставил В. Ф. Переверзев, мечтавший написать монографию о житиях начиная с «Жития Феодосия Печерского» и до «Жизни Клима Самгина», эта проблема стала предметом размышлений В.В. Кускова, утверждавшего, что житийные традиции ярко преломлялись в литературе XVIII–XIX вв. и даже «в лучших созданиях века XX» [5, с. 45]. Но в наши дни, когда современный литературный процесс порождает новые и новые примеры обращения к данной традиции, в исследовательской практике вызревают новые подходы и принципы их анализа.
«Валентностью в литературном процессе обладают не только принципы художественной историософии <….> и приемы типизации в ходе социального анализа <…>, но и способы освоения «чужого слова», особенности интертекста <…>. Многие современные поэты в поисках тем и сюжетов обращаются не к жизни, а к литературе и тем самым обрекают себя на вторичность, литературщину, словесную игру, перепев чужого» [9, с. 78]. Опираясь на древнерусские источники, Ф. Абрамов «работает с прецедентными текстами очень деликатно, вдумчиво, использует их как аргумент в собственных построениях и концепциях» [Там же, с. 79], он не только продолжает житийную традицию, но еще и движется в русле «духовного реализма» таких своих предшественников, как А. Ремизов, В. Шишков и другие авторы, обрабатывавшие те же житийные и апокрифические сюжеты.
«Подлинность, истинность, осуществимость жизни духа» [10, с. 71] героев Ф. Абрамова следует рассматривать и осмысливать в рамках такого типа творчества, как «духовный реализм» (методологический потенциал этого термина широко и плодотворно разрабатывается В.А. Редькиным и рядом других ученых [8; 11; 14; 15; 16; 17; 18]), в связи с этой литературоведческой проблематикой представляется правомерным дальнейшее изучение современного житийного рассказа [7].
Список литературы Жанровое своеобразие рассказа Ф. А. Абрамова "Из колена аввакумова"
- Абрамов Ф. А. Чистая книга. Избранное. М.: Эксмо, 2003. 654 с.
- Грачева А. М. Алексей Ремизов и древнерусская культура. СПб.: PETROPOLIS, 2000. 346 с.
- Зайцев В. А., Герасименко А. П. История русской литературы второй половины XX века. М.: Высшая школа, 2004. 346 с.
- Захаров В. Н. Русская литература и христианство//Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков. Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр: сб. научн. тр. Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского ун-та, 1994. С. 3-15.
- Кусков В. В. Роль православия в становлении и развитии древнерусской культуры//Кусков В. В. Эстетика идеальной жизни. Избранные труды. М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2000. С.41-59.
- Локтев Н. Ф. «Житийный» рассказ в современной русской новеллистике: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01/Н. Ф. Локтев; Моск. обл. пед. ин-т. М., 1981. 24 с.
- Николаева С. Ю. Древнерусские памятники в литературном процессе (от Г. Р. Державина до Ю. П. Кузнецова): монография. Тверь: Тверской гос. ун-т, 2010. 252 с.
- Николаева С. Ю. Духовная реальность в поэмах Ю. П. Кузнецова «Молитва» и «Золотая гора»//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2009. № 23. Вып. 2. С. 109-120.
- Николаева С. Ю. «Когда минет злоба дня и настанет будущее…»: новые книги тверских поэтов и литературный процесс//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2016. Вып. 3. С. 68-81.
- Николаева С. Ю. Новые тенденции в поэтическом творчестве Николая Капитанова и Владимира Львова//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2017. Вып. 1. С. 68-79.
- Николаева С. Ю. О символике пейзажа в «Воскресении Л. Н. Толстого»//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2013. № 10. Вып. 3. С. 78-86.
- Памятники литературы Древней Руси: XVII век: кн. 2. Вып. 11. М.: Худож. лит., 1989. 680 с.
- Полный православный богословский энциклопедический словарь: в 2 т. Т. 2. СПб.: Изд-во П. П. Сойкина, . Стб. 1131-2464, с.
- Редькин В. А. «Былинное поле» А. Ганина как мифологическая поэма//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. Вып. 28 (56). 2007. С. 45-53.
- Редькин В. А. Вячеслав Шишков: новый взгляд. Очерк творчества В. Я. Шишкова. Тверь: Тверское обл. кн.-журн. изд-во, 1999. 152 с.
- Редькин В. А. Наследие Ю. Кузнецова в творчестве тверских поэтов//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2015. Вып. 1. С. 93-101.
- Редькин В. А. Онтологические проблемы в творчестве Сергея Есенина//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. Вып. 14. 2007. С. 52-57.
- Редькин В. А. «Русская идея» Юрия Кузнецова//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2004. № 2 (4). Вып. 1. С. 48-68.