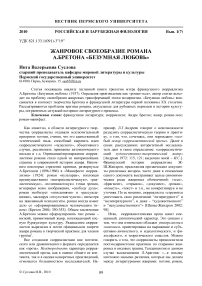Жанровое своеобразие романа А.Бретона «Безумная любовь»
Автор: Суслова Инга Валерьевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Статья в выпуске: 1 (7), 2010 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу заглавной книги трилогии мэтра французского сюрреализма А.Бретона «Безумная любовь» (1937). Определяя произведение как «роман-эссе», автор статьи выходит на проблему своеобразия жанровых трансформаций эпохи модернизма. «Безумная любовь» вписывается в контекст творчества Бретона и французской литературы первой половины ХХ столетия. Рассматриваются проблемы кризиса романа, актуальные для рубежных периодов в истории культуры, пограничных ситуаций историко-литературного процесса.
Французская литература, сюрреализм, андре бретон, жанр, роман-эссе, роман-манифест
Короткий адрес: https://sciup.org/14728830
IDR: 14728830 | УДК: 821.133.1(091)-3??19??
Текст научной статьи Жанровое своеобразие романа А.Бретона «Безумная любовь»
роман-манифест.
Как известно, в области литературного творчества сюрреалисты отдавали исключительный приоритет поэзии, считая, что это единственный эстетический язык, способный выразить идеи сюрреалистического «чудесного», объективного случая, реализовать принципы автоматического письма и т.д. Отрицание/опровержение сюрреалистами романа стало одной из интереснейших страниц в современной истории жанра. Напомним некоторые стратегии критики, развернутые А.Бретоном (1896-1966) в «Манифесте сюрреализма» (1924): роман «вульгарен», воплощая преимущественно «материалистическую», «реалистическую», «позитивистскую» точки зрения, игнорируя волю воображения, «свободу духа»; роман изобилует «описаниями» и «рассуждениями», маскируя «отсутствие чувств»; несмотря на заявленный психологизм, роман всегда имеет дело со «сформировавшимся человеческим типом» [Бретон 2004: 350-353]. Общее заключение А.Бретона можно сформулировать так: роман – низкий, примитивный жанр, воплощающий косную буржуазную культуру. Радикализм сюрреалистов выразился в почти официальном запрете жанра романа в творческой практике для членов группы1.
Все созданное сюрреалистами вне поэтического или драматического формата определяется как «проза». Неоднородность характера сюрреалистической прозы, как в оценке общего ее контекста, так и в оценке конкретных произведений, отмечается большинством исследователей. На- пример, Л.Г.Андреев говорит о невозможности разделить сюрреалистическую теорию и практику, о том, что, сочетаясь, они порождают «особый жанр сюрреалистической прозы». Далее в своих рассуждениях авторитетный исследователь дает и такое определение: «сюрреалистический художественно-теоретический жанр» [Андреев 1972: 115, 121; выделено мной – И.С.]. Французский историк сюрреализма Ж-Ш.Жандрон, представляя прозаические документы различных авторов, часто даже в отношении одного документа выстраивает целые синонимические ряды жанровых обозначений: «эссе», «фрагмент», «отрывок», «документ», «роман», «повесть», «текст» и т.п., не конкретизируя и не уточняя. По ее мнению, сюрреалисты «стремятся уничтожить само различение “литературного” и “нелитературного”, и даже – “художественного” и “нехудожественного”» [Шенье-Жандрон 2002: 98].
Итак, сюрреалистическая проза носит смешанный, синтетический характер. Это связано с тем, что она изначально обладает универсальным значением, ориентирована на выражение и субъективно-личностного, и идеологического, и философского, и теоретического смыслов. Можно говорить о том, что сюрреалисты предвосхитили постмодернистские практики по стиранию жанровых и видовых границ. Тенденциозно в данном случае высказывание Л.Арагона: «...я нахожу ничтожно малыми различия, которые мы делаем между литературными жанрами: поэзия, роман, философия, максимы, – все для меня одинаково слово (tout m'est également parole)» [цит. по: Chenieux-Gendron 1983: 17]. Художественная составляющая крупных прозаических произведений сюрреалистов – жанровые начала романа или повести, а малые произведения соотносимы со стихотворениями в прозе, рассказами. Соотношение «художественного» и «нехудожественного» в каждом конкретном случае индивидуально. Нас в данном исследовании интересует крупная форма с явно выраженным романным началом. Подобных произведений, несмотря на запреты и остракизмы в адрес романа, в период 1920-30-х годов было создано достаточно, но «официальными» сюрреалистическими романистами, как правило, называют Л.Арагона (18971983) и Р.Кревеля (1900-1935).
Прозаическое наследие А.Бретона также весьма внушительно: его составляют манифесты, статьи, открытые письма, исследование культурологического типа («Antologie de l’humour noir», 1940), пространная «искусствоведческая» статья («Le Surréalisme et la peinture», 1928) и др. Однако фундаментальная его часть – трилогия «Безумная любовь» («L’amour fou», 1937). Помимо заглавной (последней), ее составляют книги: «Надя» («Nadja», 1928), «Сообщающиеся сосуды» («Les Vases communicants», 1932), а также присоединенная позднее «Аркан 17» («Arcan 17», 1944). У трилогии особый статус. Во-первых, она излагает историю школы, ее теоретические и философские основы в процессе их становления – 20-е, 30-е, 40-е гг. соответственно. Во-вторых, книги содержательно связаны: им присущ исповедальный пафос, каждая из них посвящена конкретной женщине и обозначает ее роль в личной и творческой судьбе Бретона. Жанровая природа книг трилогии явно неоднородна. Наиболее известной частью в России является «Надя» (опубликована в 1994 г. в переводе Е.Гальцевой), и в российском литературоведении последних десятилетий делаются попытки определения его жанрового статуса [см., например, Швейбельман 2004: 130-138; Суслова 2006: 103-106]. Судьба других книг цикла гораздо менее «благополучна», поэтому данная статья представляет собой опыт жанрового анализа центральной книги – «Безумная любовь».
Во французском литературоведении встречаются, например, такие жанровые характеристики этого произведения: «la forme poétique», «les grandes entreprises narratives», «l’autobiografie», «d’auto-analise» [Chenieux-Gendron 1983], «лирический роман», «лирический текст» [Шенье-Жандрон 2002]. В советском/российском литературоведении используются следующие жанровые обозначения: «роман» [Дубин 1999], «пове- ствовательно-эссеистская книга» [Балашов 1995: 251], «лирическая проза» [Балашова 2006], «эссе», «трактат» [Андреев 1972]. Мы же полагаем, что данная книга – показательный образец сюрреалистического романа-эссе. В творчестве Бретона эта жанровая форма приходит на смену роману-манифесту конца 20-х гг. («Надя»), что означает естественный отход от радикализма и декларативности первого десятилетия сюрреалистической деятельности. Сюрреалистическая идея уже утвердила себя, соответственно меняется пафос. Манифест – программный документ, он утверждает, пропагандирует, определяет. Логическая стройность, декларативность, теоретический прагматизм – обязательные содержательные атрибуты манифеста, тогда как эссе – жанр предельно свободный, рефлективный.
Теории эссе в общепринятом формате не существует, это явно неканонический жанр2. Исследователи склонны обозначать это явление как «наджанровую систему», «сверхжанр», «синтетическую форму сознания» [Эпштейн 1988: 334, 345], «промежуточный жанр» [Зыкова 1980: 19]. В.Е.Хализев, комментируя эссеистику в системе «внеродовых форм», дает ей следующее определение: «...непринужденно-свободное соединение суммирующих сообщений о единичных фактах, описаний реальности и (что особенно важно) размышлений о ней <...> Эссеистика тяготеет к синкретизму: начала собственно художественные здесь легко соединяются с публицистическими и философскими» [Хализев 2002: 356]. Основное качество эссе – направленность на «самораскрытие и самоопределение индивидуальности» [Эпштейн 1988: 335]. Создателем жанра признается М.Монтень (1533-1592), а его «Опыты» («Les essais», 1580-1588) – первым жанровым прецедентом. То, что данный тип книги и, соответственно, образ мысли, формируется в эпоху Возрождения – принципиально. Проблемы Бытия, проблемы истории и культуры исследуются здесь через призму личного опыта конкретного человека, который и является мерой всех вещей. По сути, Монтень излагает философию антропоцентризма: «Вот уже несколько лет, как все мои мысли устремлены на меня самого, как я изучаю и проверяю только себя, а если я изучаю что-нибудь другое, то лишь для того, чтобы неожиданно в какой-то момент приложить это к себе или, вернее, вложить в себя <...> Нет описания более трудного, чем описание самого себя, но в то же время нет описания более полезного <...> Жить – вот мое занятие и мое искусство» [Монтень 1991: 198-199].
«Неканонический», «становящийся» характер объединяет жанры эссе и романа. Сергей Зенкин в размышлениях о новых тенденциях в развитии французской эссеистики отмечает, что «жанр эссе – подобно жанру романа и во многом параллельно ему – в современной французской литературе послужил одной из главных лабораторий, где осуществлялись творческие эксперименты по “отмене” или же “преодолению” литературы» [Зенкин 1995: 798]. С начала ХХ века, в эпоху модернистской трансформации всей жанровой системы, эссеистское начало особенно активно. По мысли М.Эпштейна, эссеизм, «проникая в роман», во-первых, «демифилогизирует его образность, выводит к тем жизненным основаниям, из которых она развилась», во-вторых, «универсализирует эту образность, возводя ее к сверху-дожественным обобщениям» [Эпштейн 1988: 365]. В ключевых произведения литературы ХХ века доля эссеизации предельно велика, в качестве примера можно привести «В поисках утраченного времени» М.Пруста, «Человек без свойств» Р.Музиля, «Иосиф и его братья» Т.Манна.
Роман-эссе синтезирует основные родовые свойства и «романа», и «эссе». Главным его качеством является ослабление художественного начала, но вместе с тем «художественность, включаясь в сверхудожественное целое, вовсе не стирается, а, напротив, резче заостряется в своей специфике, которая фокусируется на контрастном для нее фоне» [Эпштейн 1988: 369]. Для романа-эссе характерен особый тип композиции (важнейшие ее параметры: фрагментарность, произвольность, спонтанность, разомкнутость), особый тип сюжета - он реализует, прежде всего, историю интеллектуального, эмоционального переживания. Традиционную сюжетную прагматику, фабулу роман-эссе упраздняет. Хронотоп романа-эссе измеряется исключительно координатами внутреннего мира повествователя, но обязательна установка на всеобщность, приметы реального мира, реального времени, образ Истории значимы в произведениях этого жанра. Повествование в романе-эссе возможно только от первого лица, от «Я», от субъекта. Субъект повествования автобиографичен («Я, Андре Бретон»), среди персонажей преобладают реальные исторические лица – спутники, соратники, «свидетели Истории». Синтез художественного и нехудожественного, реализуемый в произведениях этого жанра, гармонично соответствует брето-новской доктрине «открытого настежь произведения», которую он выразил еще в 20-е годы («Манифест сюрреализма», «Надя»).
Сюжет романа «Безумная любовь» в равной мере организуют история любви героя-повествователя, осмысление основ сюрреалистической этики (а не утверждение доктрины, как было ранее), обоснование понятий «объек- тивного случая» (hasard objectif), «конвульсивной красоты» (la beauté convulsive), а также самые широкие размышления о современной европейской истории. Важно, что, в отличие от предыдущих прозаических работ и, прежде всего, романа-манифеста «Надя», в «Безумной любви» отсутствуют апелляции к коллективному «Я», к мнению группы3. Повествование сосредоточено исключительно на личности автобиографического героя. Книга состоит из семи фрагментов, все они в разное время, начиная с 1934 г., были опубликованы в сюрреалистической печати. Каждый фрагмент, безусловно, содержательно самостоятелен, как могут быть самостоятельны эссе в сборнике, но, объединившись в книгу, они создают художественное целое, обладающее внутренней логикой и последовательностью. Этот порядок нельзя устранить, не разрушив целое – роман.
Романное начало книги реализуется на уровне повествования об истории любви Андре Бретона и Жаклин Ламба. Эта любовь проходит все фазы развития: предвосхищение/пророчество, мистическая встреча, предсказанная всем опытом жизни и творчества, апогей любви, ее кризис и предчувствие разлуки. Размышления о любви осуществляются в терминологии сюрреалистической теории. «Объективный случай» и «конвульсивная красота» – важнейшие этапы истории любви. Герой-повествователь показан становящимся , изменяющимся , воспитуемым жизнью и любовью. Итоги «безумной любви»: книга и дитя. Союз с Жаклин Ламба оказался недолговечным, Андре Бретон был разлучен с дочерью. Сам факт отцовства и дальнейшие драматические обстоятельства невероятно «очеловечивают» образ «метра сюрреализма». От своей личной истории А.Бретон «перекидывает мосты» к всеобщему в его понимании – к великой Любви, к истории сюрреализма и сюрреалистической идее, к истории мира. Именно на уровне всеобщего (в рассуждениях о всеобщем) осуществляется эс-сеизация повествования.
Роман «Безумная любовь» условно можно разделить на три части. Первая часть – эпизоды с первого по четвертый включительно. Это Введение в историю Безумной любви. Открывается повествование описанием видений, грезой идеальной пьесы, которая явно принадлежит к числу тех, что «предлагает нам интеллектуальный театр». Герой размышляет: «Именно так мне хотелось бы начать пьесу <...> В этой идеальной пьесе, о которой я говорю, занавес опускается после эпизода, играемого почти за сценой или, во всяком случае, в глубине абсолютно пустой сцены. Я твердо убежден, что такая уравновешенная конструкция необходима...» [Бретон 2006: 7].
«Идеальная пьеса» – автобиографический герой («я часто ставил себя на его место»), эпизодная структура, проблемная направленность («любовь», предвосхищение женщины, «лес разных указателей», «конвульсивная красота» и т.д.) – является аллегорическим прообразом всего романа. Важнейший эпизод этой пьесы: то ли за стойкой кафе, то ли на скамейке сидят семь или девять женщин «в светлых, трогательно-нежных платьях», входит мужчина «и узнает первую, вторую... узнает всех: он их любил, и они его любили, с одной его связывали годы, с другой всего день. И сразу наплыв темноты» [Там же: 8]. Данный фрагмент – увертюра к роману, здесь задается весь комплекс проблем самого разного свойства, которые будут осмыслены в дальнейшем. И прежде всего: что есть любовь, возможна ли вечная любовь к единственной женщине? («... l’esprit s’ingéniant à donner l’objet de l’amour pour un être unique alors que dans bien des cas les coduction sociales de la vie font implacablement justice d’une telle illusion » [Breton 1937: 9]). Отчасти данная «увертюра» может быть соотнесена с «Театральным прологом» к «Фаусту» Гете.
В третьем фрагменте развивается концепция объективного случая («ключевой встречи»). Рассказывается о покупке на блошином рынке весной 1934 г. двух «онирических, параноидальных предметов» – металлической полумаски («родственницы шлема») и большой деревянной ложки «удивительно дерзкой формы: когда ложка касалась стола своей выпуклой стороной, ее ручка была приподнята, так как опиралась на изящную туфельку» [Бретон 2006: 24]. Полумаску купил скульптор А.Джакометти, она помогла ему впоследствии завершить работу над женской фигуркой («выражением желания любить и быть любимым», по мысли А.Бретона), туфельку – сам Бретон. Туфелька с каблучком башмачком, пройдя ряд ассоциаций-метаморфоз, явно обнаружила свой сексуальный смысл («туфелька – ложка – пенис – хорошо выполненный муляж пениса»), желание обладать туфелькой «символизировало тоску по женщине – незнакомой, но единственной » [Там же: 29]. Т.о. маска и ложка – это «ультраматериальные формы инстинктов жить и любить», провоцирующие и стимулирующие их.
Собственно история любви («вторая часть») – это четвертый, пятый и шестой эпизоды. Четвертый эпизод повествует об истории знакомства Бретона с Жаклин Ламба: «...возмутительно прекрасная женщина <...> Кажется, я скоро не смогу сделать ни шагу без этой руки, легшей на мой локоть, без пробуждающего меня к жизни волшебного прикосновения ее груди» [Там же: 3637]. Первая встреча, первый опыт общения, пер- вый день любви реализуются как блуждание в открытом пространстве весеннего ночного Парижа: «Улочки все раздваивались, почти необъяснимо – то налево, то направо, в зависимости от капризных петель ее пути». Комментируя свой «первый день», А.Бретон пытается «восславить лирическое поведение» вообще, ибо это одна из главных задач сюрреализма – объяснять законы лирического поведения, разгадывать таинственные соотношения». Сам автор называет пятый эпизод «рассмотрением интеллектуальных истоков этой волшебной встречи». Оказывается, встреча с Жаклин пророческим образом была воплощена еще в стихотворении 1923 г. («Подсолнух»). Эпизод заканчивается констатацией факта: «14 августа я оформил брак с неотразимой Повелительницей ночи подсолнуха».
Пятый эпизод – кульминация истории любви. Гимн, апофеоз. Лиризация повествования достигает высочайшей концентрации. Место действия – Канарские острова (Тенерифе, вулкан Тейде и долины Оротава) – «сверхчувственные зоны земного шара», «страна грез». Буйство, красота, волшебство природы островов рождает ассоциации с Эдемским садом, с миром наивных детских фантазий о «масленичных», «хлебных», «сосисочных» деревьях, о жизни без бремени материальных забот. Возлюбленная вписывается в экзотический природный пейзаж как самый яркий и благоухающий цветок: «Разнообразие столь непохожих цветов – это все ты, – и среди них – в красном пеньюаре, в сером, обнаженную – я тебя, изменчивая, всегда люблю» [Бретон 2006: 63]. Описание природного пейзажа перетекает в описание «пейзажа страсти». Непостоянство природы острова сопоставляется с законами внутреннего мира человека: «в одно мгновение можно все получить, можно все потерять». Тон повествования чрезвычайно возвышен. Описание любви сопровождается рядом высоких аллегорий и метафор. Высока как никогда интертекстуальная насыщенность фрагмента: на поэтическом уровне рассказа о любви выстраиваются аллюзии к Рембо, Кэрроллу, Русселю, Шекспиру, Бодлеру, Руссо, Гете и даже к Святому писанию, на философском и теоретическом – к трудам Маркса, Энгельса, Фрейда, а также физика Жуве, автора книги «Структура новейшей теории физики» (1933). Именно у Жуве Бретон находит подкрепление своей теории «объективного случая», он с удовольствием цитирует физика: «Неожиданность при встрече с новым образом или новой ассоциацией – самый мощный стимул науки: подстегивает логику, заставляет ее искать новые соотношения» [цит. по: Бретон 2006: 65]. Можно предположить, что, по мысли А.Бретона, этот культурный контекст воплощает все богатство мира. Любовь конденсирует и творческую, и интеллектуальную потенцию человека, открывает миры. Идеи «объективного случая» и «конвульсивной красоты» объединяются в апофеозе желания: «Все, что человек хочет знать, светится на экране (человеческого воображения – И.С.) фосфоресцирующими буквами, буквами желания <...> желание единственный двигатель мира, которому человек должен быть послушен» [Бретон 2006: 69]. Заканчивается пятый фрагмент экстатическим обращение к вулкану Тейде: «Teide admirable, prend ma vie!». Огнедышащее жерло вулкана – воплощение тайн земли, женского лона («конвульсивной красоты»), всепоглощающей страсти, творческого усилия.
Шестой фрагмент начинается рассуждениями по поводу мифа о Венере: «Que ce mythe de Vénus est donc à la fois cruel et beau!» Речь здесь идет еще об одном проявлении «объективного случая» – ловушке, расставляемой для влюбленных некими незримыми внешними силами. Место действия – побережье Бретани, пляж «Закрытая гавань». Время действия – 20 июля 1936 г. В отличие от предыдущего фрагмента, природа и пейзаж скудны и однообразны: «Бесцельная ходьба по сухому песку нагнала на меня уныние <...> гнетущее однообразие, слишком неприветливый пейзаж <...> Отчуждение между нами стало еще глубже, подобно тому, как глубже становится русло ручья ближе к скалам» [Бретон 2006: 80]. Впоследствии окажется, что уныние, отчуждение, раздражение были спровоцированы встречей с таинственным домом, где произошло убийство. Провинциальная семейная драма, ос-мысляясь в концепции «объективного случая», мистифицируется, воспринимается как пророчество гибели любви Андре Бретона и Жаклин Ламба («un trouble durable de l’amour ou tout au moins sur sa continuité un doute grave» [Breton 1937; 127]).
Седьмой эпизод («третья часть») представляет собой письмо, обращенное к маленькой (восьмимесячной) дочери «Экюзетт де Нуарей» («Белочке с орешком»). Письмо пишется холодной осенью 1936 г., а должно быть прочитано весной 1952 г., т.е. через шестнадцать лет. Это своеобразный завет отца: «Как я мечтаю, чтобы целью вашей жизни были красота и любовь, как я их понимаю, в полном значении этих слов...». Дочь для повествователя – новое чувство реальности, будущее, залог бессмертия Безумной любви. Пафос этого фрагмента нельзя назвать сентиментальным, но его лиризм и эмоциональность поражают: «С первого дня меня восхитила ваша ручка. Она порхала вокруг возводимых мною интеллектуальных конструкций, ставя на них печать бесполезности. В этом было что-то таин- ственно-чудесное, и мне жаль тех, кому не довелось сохранить след звездочки-ладошки на лучших страницах книг» [Бретон 2006: 91]. Письмо к дочери можно определить прологом к будущему творчеству, переходом к следующей фазе осмысления идеи «L’amour fou».
Все семь эпизодов книги связаны лирическим голосом автора, они повествуют, прежде всего, о кульминационных моментах Безумной любви, задавая тем самым ее этапность. Форма романа-эссе позволяет органично адаптировать сюрреалистическую идею к стихии живого бытия человека в самых значительных его ипостасях – любовь, счастье, отцовство, разлука, смерть и т.д. Сюрреализм предстает здесь не столько доктриной (идеологической, эстетической и т.д.), как было ранее, сколько некой жизненной программой, личностной стратегией человека. Проблема «самоуяснения» (термин Г.К.Косикова), обозначенная в первой части трилогии («Кто я есмь?»), в данном случае достигает интенсивности и экзистенциального накала.
«Безумная любовь» – в полной мере книга «о времени и о себе». «Я» повествователя, прошедшее через горнило любви, не просто ищет выходов в Мир, но соотносит Себя с Миром. Андре Бретон словно отрешается от прагматики и суеты, уясняет мудрость Монтеня: «Этот огромный мир <...> и есть то зеркало, в которое нам нужно смотреться, чтобы познать себя до конца» [Монтень 1991: 130]. Присоединенная к трилогии книга «Аркан 17» рассказывает о следующем шаге в познании Любви и новых испытаниях миром.
-
1Одна из причин разрыва А.Бретона и А.Арагона в 1932 г. заключается в пристрастии последнего к роману. Даже Джойс критикуется Бретоном за то, что последний «искушает миражами романного письма» [цит. по: Шенье-Жандрон 2002: 45].
-
2Об эссеистике как жанре художественной критики и публицистики см., например: [Бочкарева, Пикулева 2009: 61-71; Бочкарева, Загород-нева 2009: 70-83].
-
3Можно вспомнить вступление к роману «Надя»: «Кто я есмь? Может быть, в виде исключения, отдаться на милость известному изречению “с кем поведешься...”; действительно, не свести ли всю проблему к вопросу: “С кем я?” <...> именно в отношении себя с другими людьми я хочу обнаружить если не корни, то хотя бы отдельные черты моего отличия» [Бретон 1994: 190-191; выделено мной – И.С. ].
Perm State University
Список литературы Жанровое своеобразие романа А.Бретона «Безумная любовь»
- Андреев Л.Г. Сюрреализм. М., 1972.
- Балашов Н.В. Андре Бретон и эпилог французского сюрреализма//Французская литература 1945-1990 гг. М., 1995. С.242-265.
- Балашова Т.В. Культ женщины//Андре Бретон Безумная любовь. М., 2006. С.182-189.
- Бретон А. Безумная любовь/пер. с франц. Т.Балашовой. М., 2006.
- Бретон А. Манифест сюрреализма/пер. с франц. Л.Г.Андреева, Г.К.Косикова//Поэзия французского сюрреализма. СПб., «Амфора», 2004. С.347-388.
- Бочкарева Н.С., Загороднева К.В. Эссе «Школа Джорджоне» в контексте эстетической критики Уолтера Пейтера//Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология, 2009, №2. С.70-83.
- Бочкарева Н.С., Пикулева И.А. Жанровый синтез в эссеистике Обри Бердсли («Искусство рекламного щита» и «Проспект для Вольпоне»)//Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология, 2009, №1. С.61-71.
- Зенкин С.Н. Новые тенденции во французской эссеистике//Французская литература 1945-1990 гг. М., 1995. С.797-798.
- Зыкова Е.П. «Опыты» М.Монтеня и проблема зарождения жанра эссе //Филологические науки, 1980, №4. С.14-21.
- Монтень М.Э. де Опыты/пер. с франц. М., 1991.
- Суслова И.В. Роман-манифест как типологическая разновидность «романа о романе» (В.Шкловский «Zоо, или Письма не о любви», А.Бретон «Надя»)//Вестник Красноярского Государственного университета, 2006, №3/1. С.203-206.
- Хализев В.Е. Теория литературы. М., 2002.
- Швейбельман Н.Ф. Поэтика романа А.Бретона «Надя»//Зарубежная литература: историко-культурные и типологические аспекты: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 30-летию основания кафедры зарубежной литературы Тюменского государственного университета, 18-20 октября 2004 г. Тюмень, 2004. С.130-138.
- Шенье-Жандрон Ж. Сюрреализм/пер. с франц. С.Дубина. М., 2002.
- Эпштейн М.Н. Парадоксы новизны. М., 1988.
- Breton A. L'amour fou. P.: Gallimard, 1937.
- Chenieux-Gendron J. Le surrealisme et le roman, 1922-1950. Leausanne, 1983.