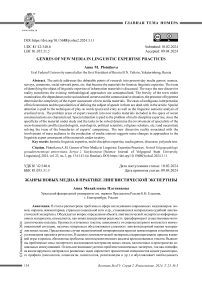Жанры новых медиа в практике лингвистической экспертизы
Автор: Плотникова А.М.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Симулятивные и конфликтогенные речевые практики
Статья в выпуске: 3 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены проблемы в сфере исследования современных медиажанров: мемов, опросов, комментариев, страниц в социальной сети и др., становящихся материалами судебной лингвистической экспертизы. Обсуждается вопрос определения объекта лингвистической экспертизы информационных материалов, осмысляется, как новая дискурсивная реальность трансформирует существующие методологические подходы. Краткость изучаемых текстов, зависимость от социокультурного контекста и коммуникативной ситуации, наличие гипертекста обусловливают сложность лингвоэкспертной оценки материалов новых медиа. Представлены случаи неоднозначной интерпретации кратких комментариев и особенности установления предмета речи в них. В аспекте лингвистической экспертизы охарактеризованы приемы языковой игры и иронии, обозначены проблемы лингвосемиотического анализа креолизованных текстов. Выявлены проблемные зоны экспертного исследования материалов новых медиа, включенных в пространство социальных коммуникаций. Отдельное внимание уделено проблеме комплексных экспертиз, так как специфика анализируемого материала и решаемых задач определяет привлечение специалистов социогуманитарного профиля (психологов, социологов, политологов, религиоведов и др.) и обусловливает необходимость решения вопроса о границах компетенции экспертов. Новая дискурсивная реальность, связанная с вовлечением массовой аудитории в производство медиаконтента, предполагает некоторые изменения в подходах к лингвоэкспертной оценке исследуемых материалов.
Судебная лингвистическая экспертиза, комплексная экспертиза, медиажанры, дискурс, поликодовый текст
Короткий адрес: https://sciup.org/149146316
IDR: 149146316 | УДК: 81’42:340.6 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2024.3.11
Текст научной статьи Жанры новых медиа в практике лингвистической экспертизы
DOI:
В последние десятилетия круг речевых правонарушений увеличивается, что обусловлено как факторами, связанными с расширением коммуникативной деятельности человека вследствие развития и распространения социальных сетей и мессенджеров, так и факторами юридического характера. С каждым годом в уголовном и административном законодательствах возникает все больше новелл, в центре которых речевые правонарушения. Е.И. Галяшина отмечает, что «следы речевой деятельности человека, будучи зафиксированными на любом материальном носителе в любой форме (рукописной, печатной, машинописной, электронной, звучащей), широко вовлечены в сферу судопроизводства. Они фигурируют как документы, вещественные доказательства, иные материалы дела, содержащие вербальные доказательства» [Галяшина, 2020, c. 8]. Речевые правонарушения, у которых в основе объективной стороны состава преступления лежит текст, и неречевые правонарушения, в которых речь и продукты речевой деятельности не являются средством совершения правонарушения, но сопровождают правонарушение, в связи с задачами лингвистической экспертизы рассмотрены, например, в монографии В.О. Кузнецова [Кузнецов, 2021].
При сохранении текста как основной единицы лингвоэкспертного анализа и широком представлении о тексте увеличивается круг объектов судебной лингвистической экспертизы. Систематизируя разные определения объекта лингвистической экспертизы, Е.В. Новожилова предлагает иное, отличное от традиционных понимание: «Общий объект судебного речеведения – это речевое или комбинированное произведение на материальном носителе. Объекты можно классифицировать по двум независимым основаниям: по способу кодирования и передачи значений (письменная речь, статическое изображение, символы, анимированный текст, жестовый объект, динамическое изображение, устная речь, неречевые звуки, тактильный письменный объект) и по виду материального носителя (файлы на предмете-носителе, файлы и необособленные объекты в сети Интернет, объекты на бумаге и на небумажном носителе). Кроме того, объектом судебной экспертизы фонограмм может выступать и записывающее речь устройство» [Новожилова, 2024, с. 123]. В таком делении очевидны внутренние противоречия, поскольку к объектам отнесены и материальные носители (файлы, звукозаписывающее устройство), которые не могут выступать объектами экспертизы, и виды речевой деятельности (устная и письменная речь), и способы восприятия объекта (тактильный письменный объект).
ГОСТ Р 70003–2022 «Судебная лингвистическая экспертиза» называет объектом экспертизы текст, определяя его как «последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой являются связность и цельность» [ГОСТ..., с. 1]. Это наиболее общее и, пожалуй, самое бесспорное из множества определений текста, в котором учтены его знаковая природа и базовые текстовые категории связности и цельности.
Вопрос о том, может ли лингвист исследовать невербальные компоненты текста, в течение некоторого времени был дискуссионным, однако в настоящее время в методиках производства судебных лингвистических экспертиз креолизованный (поликодовый) текст выделяется в качестве самостоятельного объекта исследования. А.Н. Баранов, предлагая методику исследования невербальной составляющей, включает в нее семиотический анализ: «Расширение сферы компетенции лингвистов в связи с исследованием комбинированных текстов, динамических и статичных изображений возможно только на семиотическую составляющую соответствующих феноменов. В этом случае лингвист выступает как специалист по семиотике. Такое расширение вполне правомерно. В то же время понятно, что лингвистический (точнее, семиотический) анализ таких объектов является заведомо неполным. Полное исследование предполагает привлечение представителей других научных дисциплин в зависимости от характера самого объекта – психологов, социологов, политологов, религиоведов, специалистов по культуре, историков и пр.» [Баранов, 2018, с. 31].
В отношении судебной психологической экспертизы по делам о противодействии экстремизму и терроризму используется понятие «информационные материалы» [Кукушкина, Сафонова, Секераж, 2014], которое может быть учтено и при рассмотрении судебной лингвистической экспертизы. В настоящее время оно распространилось и на другие, смежные виды экспертиз, например, экспертизу по делам о реабилитации нацизма, дискредитации специальной военной операции. Это понятие оказывается несколько шире, чем используемое в практике судебной лингвистической экспертизы понятие текста, так как распространяется и на такие материалы, в которых информация организована нелинейно, передается как вербальным, так и невербальным путем. В некотором смысле понятие «информационные материалы», которое не может быть рассмотрено как лингвистический термин, соотносится с лингвистически определяемым понятием дискурса: информационные материалы связаны с общественно-политической ситуацией и не могут быть исследованы без обращения к социокультурному контексту. Например, материалы о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ содержат информацию о конкретных фактах, действиях военных в той или иной ситуации, событиях, которые происходили в разное время и связаны с изучаемыми фактами. Вне социокультурного контекста исследовать такие материалы невозможно, они погружены в жизнь (ср. данное Н.Д. Арутюновой определение дискурса как речи, погруженной в жизнь).
Следовательно, в соответствии с выделением в судебной экспертологии общего и специального объекта судебной экспертизы для судебной лингвистической экспертизы общим объектом выступает текст. Это родовой (предметный) объект лингвистической экспертизы, определяющий выделение самого вида экспертизы. Специальным объектом лингвистической экспертизы, необходимым для видовой классификации, является дискурс в экспертизе информационных материалов, предполагающей обращение к социокультурному, политическому контексту. Дискурсивные особенности важны при изучении взаимодействия коммуникантов, наличия у них общих фоновых знаний. По словам Т.Г. Скребцовой, «в дискурсивном анализе социальной стороне коммуникации уделяется больше внимания, чем формально-лингвистической. Коммуниканты – не просто носители языка, но непременно члены определенных социальных групп, представители общественных институтов, носители тех или иных культур, социальных ролей и пр.» [Скреб-цова, 2020, с. 45]. В комплексной экспертизе, предполагающей участие лингвиста и религиоведа, лингвиста и политолога, лингвиста и социолога, а также при иных возможных вариантах использования специальных знаний, важно учитывать и фактор институциональной принадлежности коммуникантов к какому-либо объединению, группе лиц, связанность с определенной субкультурой.
Дискурсивные факторы оказываются значимыми и при рассмотрении жанров новых медиа, таких как пост в социальной сети, комментарий, демотиватор, мем, стрим (транслируемый в сети диалог, разговор с подписчиками канала) и т. д. Поиск основания для классификации жанров в целом труден, но применительно к интернет-жанрам он осложняется постоянными трансформациями уже существующих жанровых форм и появлением новых, которые плохо встраиваются в какую бы то ни было заранее заданную классификацию. Необходимо иметь в виду и тот факт, что за счет гиперссылок может происходить расширение исходного текста, а репост материала в контексте с какими-то другими материалами способен внести в исходный текст новые смыслы.
В статье представлены результаты обобщения практики лингвистической экпертизы жанров новых медиа, сложившейся в последние годы. Цель статьи – очертить круг экспертных задач, которые решаются в рамках проведения судебной лингвистической экспертизы новых медиажанров, сформулировать специфику экспертного подхода к таким жанрам с учетом их поликодового характера и особенностей дискурсивной организации, обусловленной социокультурными факторами, вне которых исследование медиажанров оказывается невозможным.
Материал и методы
В качестве материала исследования избраны тексты новых медиажанров, ранее становившиеся объектом лингвистических экспертиз и соответственно попадающие в сферу юридических конфликтов. Тексты использованы исключительно в качестве материала исследования. Мнение авторов статьи не совпадает с мнением авторов высказываний, размещенных в сети Интернет.
Не претендуя на исчерпывающее описание жанровой системы медиа, охарактеризуем некоторые жанры, связанные с интернет-коммуникацией и представляющие интерес для лингвоэкспертной практики. Отметим, что материалом исследования стали текстовые, а не речевые жанры, поэтому в статье не рассматриваются жанрообразующие признаки, параметры речевого жанра, особенности, оформляемые в анкету или паспорт жанра.
При рассмотрении медиажанров использовались традиционные для лингвистической экспертизы семантические методы, позволяющие установить значение слова или выражения, эксплицировать содержание сказанного, характеризовать особенности контекста, а также семантико-прагматические методы, использующиеся для установления типа речевого акта и особенностей его языкового оформления. В тех случаях, когда исследуемый объект представляет собой поликодовые тексты, используется лингвосемиотический анализ, включающий анализ невербального компонента текста и его взаимодействия с вербальным. Проблемы метаязыка описания невербального компонента относятся к дискуссионным в лингвоэкспертной практике, и основным приемом анализа при исследовании поликодового текста является вер- бализация невербального компонента, то есть его «перевод» в текстовый вид.
Результаты и обсуждение
Представим опыт лингвоэкспертного анализа некоторых медиажанров.
Мем. К мемам обычно причисляют по-ликодовые тексты, которые неоднородны по типу взаимодействия вербального и визуального ряда, по источнику возникновения и структуре. М.Р. Бабикова, рассматривая мемы в националистическом дискурсе, отмечает, что они оказываются привлекательными «их формой, идеальной для меткого, метафорического, короткого, но при этом предельного ясного и емкого выражения ценностных ориентиров, политических предпочтений и мировоззрений националистов (что является мощным орудием воздействия на мировосприятие и сознание как отдельных личностей, так и целых групп)» [Бабикова, 2019, с. 72]. Анализируя медиамемы политического характера, И.С. Кузнецов выделяет мемы-агрессоры, мемы-защитники, мемы-аттракторы [Кузнецов, 2022]. Однако в ряде случаев в политическом меме преобладает креативная составляющая, определяющая рассмотрение политического деятеля или события через призму смеховой культуры.
Например, мем, на котором изображено крупным планом антропоморфное существо, в котором черты животного (кота) в верхней части лица соединены с лицом человека (внешне напоминающего Р. Кадырова) в нижней части лица. Несмотря на отсутствие вербальной составляющей, в основе объединения кота и Р. Кадырова лежит прием словообразовательной контаминации, основанный на объединении слов кот и Кадыров, в результате такой контаминации возникает бленд – слово, образующееся путем склейки двух слов. Подпись к данному фото отсутствует, но сама идея контаминации находит отражение в фотографии. При помощи игрового приема, когда фотография фактически представляет собой склейку двух изображений, аналогичных двум фонетически сходным частям слова (кот – Котыров – Кадыров), формируется значение мема. Комический эффект основан на приеме языковой игры, и хотя не получает вербализа- ции, закрепляется в графическом образе. Контаминация антропонима Кадыров и апелля-тива кот в силу семантики слова кот и его коннотативного фона в русском языке не направлена на выражение негативного отношения, понижения социального статуса Р. Кадырова, поэтому нет оснований для того, чтобы соотносить значение мема со значением унизительной оценки лица.
Опрос. К известным жанрам, которые оказывались в поле зрения экспертов, можно отнести опросы. Например, они широко обсуждались в медийной повестке в этических координатах в связи с вопросом, размещенным на сайте известной радиостанции, о возможности публикации книги Гитлера. Объектом лингвистической экспертизы по делу о дискредитации ВС РФ был организованный владельцем кафе опрос в социальной сети, в котором он спрашивал подписчиков, указывая на сидящего в кафе человека в футболке с символикой «Z»: Плюнуть в коктейль? Безусловно, при сомнительности такого комментария с позиций этики в нем отсутствует какая-либо фактологическая информация о действиях Вооруженных сил РФ.
Комментарий. Сложность экспертного исследования комментария в социальной сети обусловлена, во-первых, его очевидной краткостью, не всегда позволяющей прийти к однозначному положительному или отрицательному выводу. Например, комментарий Брентон Таррант – герой нашего времени включен в объемный ряд других комментариев, в которых предметом становится австралийский террорист Брентон Таррант. В комментариях обсуждается личность террориста и сделаны попытки объяснить мотивы его поведения. В интересующем нас комментарии использовано прецедентное выражение герой нашего времени, реализующее значение: «о наиболее типичном или передовом представителей своего времени». Контексты указывают на то, что ироническое значение обычно сопровождается заключением этого словосочетания в кавычки. Обращение к Национальному корпусу русского языка ( также подтверждает эту закономерность. Словосочетание используется для обозначения либо типичного представителя поколения, либо лучшего пред- ставителя. Следовательно, обозначая Брентона Таррента героем нашего времени, говорящий считает допустимым его поведение, при этом он необязательно считает Таррента лучшим представителем поколения, какой-либо группы, однако автор высказывания полагает, что поведение Таррента не выходит за пределы нормы, оно приемлемо. Возникает вопрос: можно ли рассматривать такую оценку как содержащую признаки оправдания террористических действий? В силу некоторой неопределенности оценки прецедентного выражения дать категорический положительный вывод затруднительно.
Однако в ряде случаев категорический положительный вывод возможен, даже если комментарий оказывается совсем лаконичным. Например, комментарий является реакцией на фотоизображение, сопровождающееся текстом: Раввины в концлагере Освенцим, который в 1939 году был присоединен к территории Третьего рейха . Комментатор пишет: «прекрасное заведение» было . Ничем не мотивированная положительная оценка места, в котором совершались преступления, были убиты и сожжены в камерах тысячи людей, служит признаком демонстрации мнения о том, что совершенные преступления, осужденные Нюрнбергским трибуналом, могут быть оценены иначе, охарактеризованы положительно. Следовательно, в данном тексте содержатся лингвистические признаки оправдания действий, совершенных фашистской Германией в годы Второй мировой войны.
В другом случае комментарий пользователя социальной сети Почему у нас нет своего Брейвика? Такой человек очистил бы площадь от нежелательных элементов мотивирован обсуждением в чате празднования Нового года в ледовом городке г. Екатеринбурга. В ходе обсуждения участники инициируют разговор о национальной принадлежности тех, кто пришел праздновать Новый год на площадь. Включаясь в обсуждение этой темы, пользователь социальной сети оставляет комментарий, в котором называет участников празднования нежелательными элементами. Прецедентное имя Брейвик использовано с целью проведения аналогии между действиями террориста и возможными действиями, которые видятся комментатору целесообразными. Следовательно, речевая цель, реализуемая в исследуемом комментарии, – информирование о положительном отношении к действиям террориста, убившего множество людей, и приемлемости таких действий для решения задачи уничтожения людей иной национальности.
Приведем еще один пример краткого комментария: Стать бандеровцем легко! Нужно просто любить свою страну больше, чем бояться чужой . Текст представляет собой политический лозунг. На принадлежность политическому дискурсу указывает свойственное политической речи противопоставление «свой-чужой», наличие словосочетания любить страну , выраженное с помощью безлично-предикативной конструкции модальное значение необходимости, общественно-политическая тематика высказывания в целом, а также написание текста на фоне флага. Лозунговый характер создается емкостью, краткостью, выразительностью высказываний. Они вступают между собой в причинноследственные отношения. В первом предложении, являющемся риторическим восклицанием, сообщается о том, что легко стать бандеровцем . Во втором – объясняется, почему это так, и противопоставляется любовь к своей стране и нелюбовь (ненависть) к чужой стране. Автор высказываний выражает положительное отношение к бандеровцам, говоря о них как о людях, которые любят свою страну. При этом в тексте содержится неявный намек на иных людей, которые больше боятся чужой страны, чем любят свою. Этот намек выражен в конструкции с семантикой сравнения: если одни любят страну больше, чем боятся чужой, то соответственно есть иные лица, для которых ситуация имеет противоположный характер.
В исследуемом тексте реализованы следующие речевые цели: 1) информирование читателей о бандеровцах как людях, которых любят свою родину; 2) косвенное побуждение к вступлению в ряды бандеровцев. Это побуждение выражается с помощью риторического восклицания и обоснования данного высказывания патриотизмом бандеровцев; 3) убеждение в том, что любовь к своей родине больше, чем боязнь чужой, – это идеология бандеровцев, которые таким способом представлены как патриоты. Следовательно, в тексте содержатся лингвистические признаки оправдания идеологии украинской националистической организации, к которой принадлежал Степан Бандера.
В ряде случаев текст вообще не может быть понят вне ситуации, в которой происходит оценка. Так, комментарий Я против того, чтобы в городах (в любых) что-то взрывалось и гибли люди, но мне кажется, что всех этих Z-военкоров перещелкают свои же, как когда-то всяких мутных «моторол донбасовичей» . Комментарий относится к убийству Владлена Татарского и должен рассматриваться именно в этом социальном контексте. Для обозначения принадлежности Татарского к политическим пропагандистам использована форма, называемая в лингвистике формой пейоративного множественного числа: всех этих Z-военкоров . Посредством компонента всех этих выражается значение отчуждения, презрительного отношения к той группе лиц, которая видится автору чуждой. Сущность пейоративного отчуждения заключается в том, что говорящий, отрицательно оценивая тот или иной объект, доводит эту отрицательную оценку до предела тем, что исключает объект из своего ценностного мира и, следовательно, отчуждает его, характеризуя как элемент другой, чуждой и враждебной ему (объективно или субъективно – в силу собственной враждебности) культуры, другого – чуждого мира. Эта же форма пейоративного множественного использована в конструкции всяких мутных «моторол донба-совичей» , а выбор глагола «перещелкать» мотивирован пренебрежительным отношением к убийству всех тех, кого автор называет «Z-военкорами».
Страница пользователя социальных сетей. К текстам крупных медиажанров в практике лингвистической экспертизы относится страница пользователя социальных сетей, которая может содержать значительное количество текстов, иногда это серия постов, посвященных одной теме, и в этом случае каждый отдельный пост ориентирован ретроспективно и способен задавать возможные перспективы развития события.
Например, информация о долге, о котором шла речь в других постах, помещена в иронический контекст: Алмаз моего измученного сердца, Ольга Юрьевна не ответила на нежнейшую просьбу договориться об отсрочке по долгу в 20 000 000 рублей, которые она когда-то взяла взаймы и до сих пор почему-то не вернула. Ну что же поделать. Творческие люди бывают выше низменной житейской суеты. Всю ночь думал, как быть. Под утро придумал. Здесь ироническое отношение выражено с помощью нескольких приемов: 1) переноса конкретной ситуации отсутствия ответа в плоскость обобщенного суждения, близкого к афоризму; 2) использования мнимого комплимента: автор называет адресата человеком «творческим», поэтому иронизирует по поводу ее невнимания к просьбе. Как указывает О.П. Ермакова, «оценка, выраженная иронией, не заключена в самом материале, используемом для семантической инверсии, она скрыта под маской одобрения, похвалы, либо под маской осуждения. В иронии нет определенности оценки. Как уже отмечалось, одно и то же ироническое высказывание может быть оскорбительно насмешливым и добродушно снисходительным и в своей небуквальности даже шутливо одобрительным» [Ермакова, 2011, с. 31]. Сказанное справедливо для данного материала, в котором автор постоянно балансирует между легкой насмешкой и злой шуткой. При этом, утверждая факт долга, автор сосредоточен над тем, как посмеяться над должником. Это обнаруживается и в следующем посте:
Есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно:
-
1. Как Ольга Юрьевна распускает волосы.
-
2. Как Ольга Юрьевна в шестой раз за пять лет переименовывает свою компанию, чтобы избавиться от необходимости выполнять взятые на себя обязательства.
-
3. Как Ольга Юрьевна собирает волосы.
Прецедентная ситуация, то есть ситуация известная, узнаваемая («три вещи, на которые можно смотреть бесконечно…»), использована в отношении лица, называемого «Ольга Юрьевна». В кольцевой композиции сюжета незначимая с деловой точки зрения прическа Ольги Юрьевны важна лишь как обрамление актуального для автора (актуальность в данном случае определяется на осно- вании предшествующих фрагментов, где тема долга также была ключевой) сообщения, заключенного во второй пункт. Несмотря на иронический контекст, в который включено высказывание во втором пункте, и использование автором типичной для выражения иронического отношения образа восторженного человека, в нем сообщается, что Ольга Юрьевна в шестой раз за пять лет переименовывает свою компанию, чтобы избавиться от необходимости выполнять взятые на себя обязательства.
При исследовании медиажанров чрезвычайно важны рассмотрение текста как единицы интеракции, то есть в связи с другими предшествующими комментариями и в его отношении к исходному тексту, учет социокультурного контекста.
Следует также отметить, что если журналистский текст в традиционных средствах массовой информации написан профессионалом, человеком с достаточно высоким уровнем речевой культуры, кроме того, он проходит все этапы редакторской подготовки, то материалы новых медиа зачастую являются неподготовленными текстами, в которых выражение эмоционального отношения доминирует над фактологическим содержанием. Это особенно заметно при исследовании видеосюжетов, записанных различными общественными деятелями, которые не всегда оказываются способными четко, ясно и точно выразить ту или иную позицию, поэтому квалифицировать произнесенные высказывания как утверждения, соотносить их с имеющимися диагностическими комплексами оказывается крайне затруднительно.
Вопрос о комплексных экспертизах материалов новых медиа
Анализ материалов новых медиа иногда предполагает наличие у экспертов знаний в области политологии, истории, религиоведения, что обусловлено предметной отнесенностью материала, характером вопросов, подлежащих установлению. При назначении комплексных экспертиз по некоторым категориям дел (экстремизму и терроризму, дискредитации СВО, реабилитации нацизма) судебные и следственные органы руководствуют- ся необходимостью привлечения специалистов разных областей знания. Обобщение судебной практики позволяет прийти к выводу о том, что чаще других назначается комиссионная психолого-лингвистическая экспертиза, что легко объясняется наличием сложившихся методологических подходов.
В системе экспертиз, проводимых государственными судебно-экспертными учреждениями, появилась религиоведческая экспертиза, ранее ее отсутствие становилось основанием для оспаривания использования в качестве доказательства по делу религиоведческих исследований. Необходимость учета политического контекста определила возникновение политологической экспертизы, формируется также эти-коведческая экспертиза. В связи новыми видами экспертиз остро стоят вопросы границ компетенции экспертов и правил их взаимодействия. Модели интеграции специальных знаний в разных типах комплексных экспертиз представлены в статье Т.Н. Секераж, которая выделяет параллельные и последовательные комплексы психолого-лингвистической экспертизы, а также рассматривает понятие комплекса экспертиз [Секераж, 2021].
Применительно к новым видам комплексности знаний в экспертизах гуманитарного профиля в настоящее время преимущественно преобладает комплекс экспертиз, когда каждый эксперт проводит самостоятельное исследование, а синтезирующая часть отсутствует. Например, эксперт-социолог определяет принадлежность материала к криминальной субкультуре АУЕ *, а эксперт-лингвист выявляет лингвистические признаки пропаганды жестокости и насилия среди несовершеннолетних. Фактически каждый из экспертов мог выполнять самостоятельную экспертизу, так как социолого-лингвистическая экспертиза при такой постановке задач характеризуется нулевой комплексностью, если использовать термины судебной экспертологии, представленные в работе А.И. Усова и соавторов [Усов и др., 2015].
Положение дел в судебно-экспертной практике и практике назначения судами комплексных экспертиз свидетельствует о том, что назрела необходимость описания всех видов взаимодействия экспертов социальных и гуманитарных специальностей и выработки методических рекомендаций с указанием возможных типов комплексных экспертиз, обоснованием теоретической базы и созданием методик анализа материалов новых медиа.
Заключение
Дискурсивная реальность, определившая появление современных жанров новых медиа, разнообразие возникших в интернет-среде медиаформатов, возросшая роль поликодовых текстов, распространение сетевых коммуникативных практик потребовало некоторых уточнений в определении объекта лингвистической экспертизы. Считая текст общеродовым объектом судебной лингвистической экспертизы, полагаем, что исследование жанров новых медиа с учетом социокультурных, политических, этических факторов, требует расширения видового объекта экспертизы информационных материалов, особенно в тех случаях, когда проводится комплексная экспертиза с участием психологов, религиоведов, политологов и других специалистов. Новые медиа становятся пространством социальной коммуникации, поэтому вполне закономерным видится использование элементов дискурсивного анализа в лингвоэкспертной практике данных материалов.
Жанровый репертуар современной коммуникации, естественно, расширяется и будет расширяться и за счет усложнения форм диалогического взаимодействия, вовлечения массовой аудитории в создание медиаконтента, и под влиянием новых технологических вызовов, в частности, развития технологий искусственного интеллекта. Соответственно перед судебной лингвистической экспертизой встанут задачи создания инструментария для исследования новых медиажанров.
Список литературы Жанры новых медиа в практике лингвистической экспертизы
- Бабикова М. Р., 2019. Жанровые разновидности интернет-мемов в современном националистическом дискурсе // Известия Уральского федерального университета. Серия 1, Проблемы образования, науки и культуры. Т. 25, № 2 (186). С. 67–73.
- Баранов А. Н., 2018. Метаязыки описания невербальной составляющей комбинированных текстов для целей лингвистической экспертизы // Коммуникативные исследования. № 3 (17). С. 9–36. DOI: 10.25513/2413-6182.2018.3.9-36
- Галяшина Е. И., 2020. Судебное речеведение. М.: Норма: ИНФРА-М. 319 с.
- ГОСТ Р 70003–2022. Судебная лингвистическая экспертиза. Термины и определения, 2022. М.: Рос. ин-т стандартизации. 7 с.
- Ермакова О. П., 2011. Ирония и ее роль в жизни языка. М.: Флинта. 201 с.
- Кузнецов В. О., 2021. Судебная лингвистическая экспертиза. М.: РФЦСЭ при Минюсте России. 352 с.
- Кузнецов И. С., 2022. Мемы. Научный взгляд на феномен поп-культуры, захвативший мир. М.: Эксмо. 208 с.
- Кукушкина О. В., Сафонова Ю. А., Секераж Т. Н., 2014. Методика проведения комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы по делам, связанным с противодействием экстремизму и терроризму. М.: РФЦСЭ. 98 с.
- Новожилова Е. В., 2024. Объекты судебного речеведения // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. № 1. С. 118–124.
- Усов А. И., Эджубов Л. Г., Микляева О. В., Карпухина Е. С., 2015. Проблемы комплексности в теории и практике судебной экспертизы (теоретический анализ). М.: ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России. 131 с.
- Секераж Т. Н., 2021. Модели интеграции психологических и лингвистических знаний в судебных комплексных экспертизах // Теория и практика судебной экспертизы. Т. 16, № 4. С. 72–82. DOI: https://doi.org/10.30764/1819-2785-2021-4-72-82
- Скребцова Т. Г., 2020. Лингвистика дискурса: структура, семантика, прагматика. М.: ЯСК. 312 с.