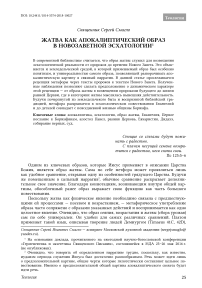Жатва как апокалиптический образ в новозаветной эсхатологии
Автор: Священник Сергей Смагло
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 2 (79), 2018 года.
Бесплатный доступ
В современной библеистике считается, что образ жатвы служил для возвещения эсхатологической реальности от пророков до времени Нового Завета. Это объясняется и земледельческой средой, в которой применяемый образ был особенно понятным, и универсальностью самого образа, позволяющей разворачивать апокалиптическую картину в связный нарратив. В данной статье прослеживается рецепция метафоры через тексты пророков к текстам Нового Завета. Полученные наблюдения позволяют сделать предположение о динамическом характере этой рецепции — от образа жатвы в возвещении пророками будущего до жизни ранней Церкви, где в категориях жатвы мыслилась нынешняя действительность. Будучи почерпнутой из земледельчекого быта и воспринятой библейской традицией, метафора раскрывается в эсхатологическом повествовании Евангелий и до деталей совпадает с повседневной жизнью общины Коринфа.
Aпокалиптика, эсхатология, образ жатвы, Евангелия, Первое послание к Коринфянам, апостол Павел, ранняя Церковь, Евхаристия, Дидахэ, собирание верных, суд.
Короткий адрес: https://sciup.org/140223380
IDR: 140223380 | DOI: 10.24411/1814-5574-2018-10027
Текст научной статьи Жатва как апокалиптический образ в новозаветной эсхатологии
Сеющие со слезами будут пожинать с радостью.
С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои.
Пс 125:5–6
Одним из ключевых образов, которые Иисус применяет в описании Царства Божия, является образ жатвы. Сама по себе метфора может проявляться лишь как удобное сравнение, открывая одну из особенностей грядущего Царства. Будучи же помещенным в цельный нарратив2, обычное сравнение раскрывает дополнительное свое значение. Благодаря коннотациям, возникающим внутри общей картины, обособленный ранее образ выражает свою функцию как часть большого повествования.
Поскольку жатва как физическое явление необходимо связана с предшествующими ей процессами — посевом и возрастанием, — метафорическое употребление образа часто сопряжено с образами указанных действий и воспринимается как одно целостное явление. Очевидно, что образ сеяния, возрастания и жатвы (сбора урожая) сам по себе универсален. Он удобен для самых различных сравнений. Платон применяет такой язык, описывая творение людей Демиургом (Timaeus 41C, 42D), Священник Сергей Иванович Смагло — аспирант Московской духовной академии (sergejsmaglo@ yandex.ru).
а Гиппократ в подобном сравнении излагает сущность медицинского воспитания (Закон, 3). Образ сева и жатвы был очень близким и понятным для людей земледельческой культуры. Для иудеев, главные праздники которых были напрямую связаны с земледельческим циклом3, данная метафора касалась ощутимой части повседневной жизни.
1. Понятие «жатвы»
Слово «жатва» передается в Новом Завете греческим θερισμός. В буквальном смысле глагол θερίζω означает «пожинать, собирать жатву» (напр., Мф 6:26), в переносном — «получать результат, пожинать плоды» (Иак 5:4). В Ветхом Завете и буквальный (напр., Быт 8:22; Руф 2:3), и фигуральный (напр., Иов 4:8, Притч 22:8) смысл аналогичного значения передается корнем 4 קצר. Можно приводить множество примеров, показывающих, насколько употребителен был образ в самых разнообразных ситуациях: от попутных сравнений в книге Притч (напр., 25:13; 26:1) до развернутого нарратива книги Руфи, где жатва происходит паралелльно с историей главных героев, становясь метафорой развития их отношений [Райкен и др., 2005, 315]. Общим для библейских книг является этический принцип соотношения поступков с результатом, образно выраженный ап. Павлом к краткой формуле «что посеет человек, то и пожнет» (Гал 6:7; 2 Кор 9:6).
В большинстве ветхозаветных текстов фигуральное значение, хоть и выходит за рамки бытового, остается все же в пределах обозримой истории [Hauck: TDNT, 3, 132: θερίζω, θερισμός]. Плоды своей жизни человек пожинает в этой жизни (Притч 22:8).
Литература периода Второго Храма содержит примеры употребления образа жатвы по отношению как к настоящему миру (Завещание Левия 13:6), так и к будущему веку (3 Ездр 4:28 и след; II Вар. 70:2 и след.; Мидр. на Песн 8:145). В 3 Ездр, как и в других примерах апокалиптической литературы, образ жатвы описывает этический смысл соотношения поступков в настоящем веке и их результата в будущем [Hauck: TDNT, 3, 133: θερίζω, θερισμός].
2. Эсхатологическое значение понятия в Ветхом Завете
Применение образа жатвы по отношению к эсхатологическому будущему или хотя бы к некоторому исключительному событию, близкому по значению к эсхатону , появляется у пророков.
Согласно пророчеству Амоса, наказание Господне будет выражено в том, что Господь рассыпет «дом Израилев по всем народам, как рассыпают зерна в решете» (9:9). Рассеяние противопоставлено собиранию. Именно последнее часто возвещается как одно из будущих благ. Стих завершается словами о том, что ни одно из рассеяных зерен «не падет на землю», что исключает возможность урожая и, соответственно, жатвы, собирания [Paul, Cross, 1991, 286]. В то же время употребление сита означает разделение на праведных и нечестивых. Важно заметить, что в таком случае рассеяние подразумевает спасение для праведных, поскольку оставшиеся погибнут от меча (9:10). Таким образом, в самом процессе просева через сито и рассеяния содержится мысль о будущей жатве, в которой обнаружится заданный изначально результат: оставшееся непросеянным погибнет, а павшее в землю получит жизнь.
В пророчестве Амоса6, сразу после обещания восстановить «скинию Давидову» (9:11)7, Господь говорит о грядущих днях, когда Он восстановит Израиль8, в образах урожая и жатвы: «Вот, наступят дни ִהנֵּה יָ ִמים ָבּ ִאים , говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград — сеятеля» (9:13)9. Вводная фраза пророчества часто открывает предсказания как наказания (Ам 4:2; 8:11), так и спасения (Иер 16:14) [Paul, Cross, 1991, 292]. Дискуссия о том, что подразумевает данное пророчество — изобилие урожая или чудесное созревание [Paul, Cross, 1991, 292], — не влияет на значение фразы в целом: жатва будет свидетельством Божественной заботы10.
У Осии (6:11), подобно как и у Иеремии (51:33), под жатвой подразумевается суд, «последние времена» (см. также Ам 8:2, где спелые плоды символизируют «конец народу» Израиля) [Wolff, 1974, 123]11.
У Исаии радость будущих благ и посещения народа Богом высказывается как радость жатвы: «Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться перед тобою, как веселятся во время жатвы…» (9:3). Здесь можно увидеть пример того, как данный образ описывает будущее участие Божие в истории Его народа. В тексте еще нет эксплицитно выраженной эсхатологии, но применение образа жатвы в данном контексте показывает его готовность к такому использованию. Отрывок, в котором содержится данный стих, выражает «конечную цель Бога» [Oswalt, 1986, 241]12 по отношению к народу.
Участь Израиля пророк Исаия описывает как участь виноградника (27:2–11; см. также 5:1–7). Владельцем, хранителем и возделывателем его является Господь (27:3). И когда в винограднике появятся «волчцы и терны», Господь придет выжечь его «совсем» (27:4). «Когда ветви его засохнут, их обломают; женщины придут и сожгут их» (27:11). Критерием разделения в жатве выступает в данном случае избранность Израиля, сыны которого собираются Господом «один к другому», и отверженность народов (Ис 27:12; стих начинается с фразы we-hayyah ba-yom hahu’ , которая часто является вводной для пророчеств об эсхатоне )13.
Пророк Иоиль, возвещая суд над народами, говорит о том, что «жатва созрела» (3:13). По всей видимости, здесь подразумевается сбор винограда14. Народы должны собраться в долину Иосафата, где Господь воссядет для суда. День Господень — это день жатвы. Срезание и топтание в инограда символизирует наказание [Wolff, McBride,
1977, 80]. В книге пророка Исаии Господь описывается как тот, Кто топчет виноград. Запятнанные одежды «топтавшего в точиле» указывают на кровь (речь идет об участи нардов: 63:6): «Я топтал их во гневе Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и я заптянал одеяние Свое; ибо день мщения — в сердце Моем, и год моих искупленных настал» (63:3–4). У пророка Осии событие выходит за пределы обыденного представления о жатве, оно шире горизонтов истории и приобретает характеристику мировой катастрофы, в которой меркнут солнце, луна и звезды (3:15).
Итак, общим для пророчеств является обращение к образу жатвы и связанным с ней смыслам при возвещении грядущих событий. Господь не просто открывает будущее, но являет Себя как непосредственный его участник: Он рассеет Израиль меж народами (Ам 9:9), назначает «жатву» (Ос 6:11), Он является хранителем и возделывателем «виноградника» (Ис 27:3), Он же придет сжечь его (Ис 27:4); а также — собирает Израиль, как маслины с деревьев (27:12), Сам срезает виноград и вытаптывает его (Ос 3:13). Как правило, возвещаемое событие имеет исключительное значение эсхатологического характера. Это может быть возвещение будущего восстановления Израиля (Ам 9:11–15; Ис 9:3) или грядущего суда (Ос 6:11; Иер 51:33; Иоил 3:13; ср. Ис 27:4; Иоил 3:13).
3. Понятие жатвы в Новом Завете
В Новом Завете сохраняется обращение к образу жатвы как к выражению этического принципа. При этом плод поступков пожинается в жизни вечной (ср.: Гал 6:7–9). Вместе с таким употреблением появляется и в определенном смысле уникальное значение, подразумеваемое под образом жатвы, — это жатва как момент эсхатона. С одной стороны, в таком значении образ встречается уже у пророков, возвещающих конечные события и суд. С другой же, тексты Нового Завета свидетельствуют об ином отношении и понимании знакомого ранее образа. Изменяется не само значение понятия, а ситуация, в котором оно воспринимается. Провозглашение жатвы перестает быть риторическим приемом и становится очень близкой действительностью. Обращение к образу жатвы в Новом Завете отличается тем, что время провозвещенного суда неминуемо приближается (Мф 9:37; Ин 4:35) [Hauck: TDNT, 3, 133: θερίζω, θερισμός]. Более того, есть определенные признаки, что она началась.
Жатва стоит в одном ряду с предшествующими ей действами и завершает их: событию жатвы должны предшествовать посев и возрастание. Эти два образа — посева и жатвы — часто присутствуют неразрывно (см. 4 Ездр; Ис 61:11; 2 Апок. Вар 22:5–6) [Stone, Cross, 1990, 94]. Именно на основании такой последовательности строятся сюжеты притч. По этой причине рассматривать стоит не только места с буквальной отсылкой к жатве, но и те, где она подразумевается (напр., притча о сеятеле, где о будущем сборе урожая прямо не говорится). Главным образом следует обратить внимание на те отрывки из Евангелий, которые наиболее тесно соотносят образ жатвы с темой суда. Именно эта особенность может свидетельствовать о преемственной связи метафоры с традицией, засвидетельствованной у пророков .
Одним из примеров, где образ посеянной пшеницы объясняет существование верных перед лицом грядущего эсхатона, является притча о сеятеле, изложенная, в частности, в Мк 4:3–9. По всей видимости, она имеет риторическое предназначение, что подразумевает совершенно определенную ситуацию [Collins, Attridge, 2007, 242]15. Ближайшей литературной аналогией указанной притчи является отрывок из 3 Ездр (8:41) [Collins, Attridge, 2007, 243]16, где в категориях посева и жатвы ангел открывает
Ездре будущее Израиля. Отвечая на вопрос Ездры, ангел говорит: «Как земледелец сеет на земле многие семена и садит многие растения, но не все посеянное сохранится со временем, и не все посаженное укоренится, так и те, которые посеяны в веке сем, не все спасутся» (8:39).
Все описанное в притче у евангелиста Марка происходит в обстановке, заявленной в самом начале служения Иисуса Христа: время «исполнилось» и «приблизилось Царствие Божие» (Мк 1:15). Последние дни — это время особого кризиса [Collins, Attridge, 2007, 244]. Критерий, по которому происходит разделение на погибшие зерна и принесшие плод, — принятие услышанного слова Божия (Мк 4:20). Подобно тому как, согласно 3 Ездр, данный Богом Закон должен принести плод и прославить Израиль, действует и возвещенное общине слово Божие (τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ; ср. Кол 1:5–6 — «истинное слово благовествования» пребывает у верных и «приносит плод и возрастает»).
Дополнительный контекст для понимания сюжета о сеятеле можно найти в 1 Енох (67:7–8)17, где насаждение «общины избранных и святых» отнесено к будущему веку [Collins, Attridge, 2007, 243]18. Как замечает Я. Коллинз, контекст данного фрагмента предполагает, что «община святых и избранных будет учреждена в начале нового века, когда откроется Сын Человеческий» [Collins, Attridge, 2007, 243]. В соотношение с изложенными в данном фрагменте представлениями, реальность Нового Завета происходит в новом веке, где насаждение уже произошло и наступает жатва. В образах насаждения мыслит свою миссию к коринфянам ап. Павел. Не случайно он называет себя в этом отрывке «соработником Богу», Который является сеятелем Cвоего народа19.
В образах возрастания описывается община Кумрана (1QH 14:14–16).20 Здесь община уже насаждена, а ее возрастание становится надеждой будущего [Collins, Attridge, 2007, 244]21. Чтобы быть участником будущего процветания, необходимо было оставаться верным общине и данному ей откровению [Collins, Attridge, 2007, 244].
В притче о семени в Мк 4:29 (ср. Иоил 3:13 [Rowe, 2002, 124–125]) Царство Божие уподобляется человеку, посеявшему семя. Акцент делается на том, что оно произрастает само по себе. И лишь когда приходит время жатвы, сеятель берется за серп. Из прозвучавшей раннее притчи следует, что сеятель — Сам Бог. Исходя из того, что Слово Божие в Евангелии провозвещается Иисусом Христом, можно заключить, что в притчах именно Он подразумевается как сеятель. Царство Божие, явленное в Иисусе Христе, возрастает тайно. Евангелие от Марка делает на этом особый акцент. Притча продолжает и объясняет действие этой тайны: даже участники грядущего Царства, последовавшие за Христом, «не могут контролировать проявление Царства, ни усилить его» [Collins, Attridge, 2007, 254]22.
Подобная мысль содержится в 3 Ездр, где в своей первой речи ангел Уриил объясняет Ездре его ограниченность в познании «путей Всевышнего» в истории (4:1–12). Эсхатологические события Уриил объясняет образами беременности и рождения. Подобно тому как после скрытого периода беременности наступают роды, так же, по словам Уриила, «обиталища душ в преисподней… спешат отдать вверенное им».
Таким образом, притча о сеятеле продолжает ветхозаветную традицию, в которой Господь изображается сеющим Свой народ 23. Община Церкви как новый народ Божий принимает слово Божие и должна принести плод. Особенность данного сюжета в том, что сеется и возрастает не сама община, а посеянное в ней Слово. Акцент делается не на будущем суде, а на принятии услышанного слова (Мк 4:3–9, что приобретает важность, впрочем, только перед лицом эсхатона ). На примере этой притчи можно увидеть, что обращение к образу посева и произрастания может прямо не выражать идею жатвы. При этом потенциально она подразумевается, поскольку речь идет о принесении плода (7–8 стт.). В притче о семени акцент делается на скрытности процесса возрастания в приближении к жатве (см. Мк 4:29, где жатва прямо упоминается как конечное событие).
Итак, эсхатологическое значение, выражаемое в образе жатвы, выявляется в нескольких значениях: как личное возрастание для плода в жизни вечной (Гал 6:7–9), как посеянное слово Божие, которое должно принести плод (Мк 4:3–9), как Царство Божие, созревающее к жатве незаметно для верных (Мк 4:26–29). Сами верные становятся участниками процесса, который должен закончиться сбором плодов.
Более эксплицитно образ жатвы связан с темой суда в Евангелии от Матфея. Cлужение Того, о Ком возвещает Иоанн Креститель, описывается в категориях Божественных обещаний Ветхого Завета. Он соберет избранных («соберет пшеницу в житницу Свою»), отделит от них недостойных («а солому сожжет огнем неугасимым») (Мф 3:12). «Очищение» (διακαθαρίζω) означает, что мякина будет отделена от пшеницы24. Так изображено здесь «эсхатологическое истребление»25. Как замечает Луц, данный образ «хорошо вписывается в богословие Матфея». В соотнесении с предшествующим стихом, согласно которому Сильнейший будет тем, кто отделяет пшеницу от соломы, «Церковь уже вовлечена в данную картину» [Luz, Koester, 2001, II, 253]. Присутствие в общине «плевел» и дальнейшее отделение описывает общину как corpus permixtum (13:40–43; 22:11–14).
Особенно интересной в плане образного ряда и сюжета является притча о пшенице и плевелах в Мф (13:24–30, 36–43)26. Пшеница и плевелы, как два противопоставленных образа, присутствуют в иудейских притчах, обозначая народ
Израиля27. В своем ситуативном значении притча (Мф 13:28–30), по всей видимости, выражает призыв быть терпеливыми в ожидании Царства28. Анализ притчи с точки зрения истории традиции представляет несколько вариантов декомпозиции и решения происхождения. Неточности в вопросах агрокультуры (Мф 13:30) делают реконструкцию изначальной формы более проблематичной. Предложение работников выполоть плевелы до жатвы соответствует земледельческим представлениям29, но в притче оно отвергается хозяином. Жатва30, как и выкорчевывание31, — распространенный символ суда, тогда как жнецы могут олицетворять карающих ангелов32. По всей видимости, «притча не стремится описать обычный земледельческий процесс» [Luz, Koester, 2001, II, 254]33. Метафора жатвы выходит за пределы той действительности, которая изначально легла в основу образа. Трудно сказать, случилось ли это в ситуации отдаленности от изначального земледельческого контекста, в котором происходило истолкование притчи, или же детали образа не имели значения уже на первом этапе традиции.
Если предположить, что в основе данной притчи лежит Мк 4:26–29, то ее происхождение объясняется последующим углублением и расширением34. По словам Луца, «старая история функционировала как своего рода матрица, которая вызывала к жизни новый смысл»35. Евангелист Матфей излагает притчу, акцентируя другую сторону образа: вместе с засеянным «добрым семенем» произрастают и плевелы. Согласно некоторым интерпретациям, плевелы в притче изображают враждебно настроенную ко Иисусу часть Израиля, тогда как Луц предпочитает видеть здесь «появление зла внутри общины» [Luz, Koester, 2001, II, 255].36 Опыт ранней Церкви совпал в этом пункте с жизненным опытом земледельцев.
Таким образом, изначальная форма притчи, лаконично умещавшаяся в сюжет, подобный притче у Мк 4:26–29, выявила потенциал к аллегорической интерпретаци-и.37 Автор комментария останавливается именно на этом варианте, обосновывая его соблазнительной простотой [Luz, Koester, 2001, II, 254].
Выраженное в Мф 13:30 хорошо соотносится с Мф 3:1238: предсказанное словами пророка Иоанна Крестителя применяется к ситуации, описанной в притче [Luz, Koester, 2001, II, 254]. Поскольку за актуализацией притчи стоит, вероятно, ситуация в раннехристианской общине (или общинах), следует сделать вывод, что здесь пророческое высказывание (Мф 3:12) применяется к конкретной жизненной ситуации. При этом целокупное исполнение отнесено к будущему (Мф 13:29–30).
История, изложенная в притче о пшенице и плевелах, соткана из библейских метафор. Все образы собраны в один сюжет. Господь — Хозяин жатвы. Он приходит на жатву, поскольку, как мы знаем из пророков, Он ее насадил, хранил и взращивал. Образ Господа, сеющего Свой народ, присутствует у пророков (Ос 2:21–23). Господь засевает «дом Израилев и дом Иудин», обещая в будущем «наблюдать за ним, созидая и насаждая» (Иер 31:27–28; см. также Иез 36:8–11). В Зах 10:9–11 возвращению и собиранию народа предшествует «насаждение» его Господом «между народами». Именно поэтому Он приходит с «лопатой в руке» и имеет власть собирать пшеницу в житницу, а мякину или плевелы предавать огню. Служение Иисуса Христа продолжает действие Бога Израилева, собирающего Свой народ.
4. Первое послание к Коринфянам: жатва в ранней Церкви
Послания ап. Павла свидетельствуют о присутствии образа жатвы в богословии ранней Церкви. Помещаясь в реальность «реализованной эсхатологии», метафора открывается с особой силой, выявляя совпадения настоящей жизни с апокалиптической действительностью, изложенной в ощутимых жизненных понятиях. Одним из наиболее ярких оттисков жизни верных ранней Церкви является Первое послание к Коринфянам. Жатва уже началась, и Христос — первый плод жатвы (ἀπαρχή: 1 Кор 15:20, 23). Такое сравнение отсылает к ветхозаветным образам (LXX: Исх 23:19; Лев 23:10; Втор 26:10)39. Очевидно, в 1 Кор присутствует наслоение образов. Вместе с указанием на Христа как на первый плод жатвы, ап. Павел называет Его пасхальной жертвой (1 Кор 5:7). Возможно, значение имеет и то, что празднование Пасхи с ее жертвой было связано у иудеев с началом жатвы40. Первый сноп ячменя священник возносил «на другой день праздника ( ha-shabbat )» (Лев 23:11). Вероятно, под «субботой» здесь имелась в виду именно пасхальная суббота. Именно в пасхальный период начиналась жатва ячменя 41, тогда как пшеницу собирали в период Пятидесятницы.
Если образ первого плода жатвы был для ранней Церкви заметным и узнаваемым, то сторонники «реализованной эсхатологии» могли видеть в нем подтверждение. Учитывая, что в контексте 1 Кор жатва имеет коннотации воскресения (15:20, 23), в которое, вслед за «первенцем»-Христом должны последовать другие, можно уяснить основу и логику верования в то, что «воскресение уже было» (см. 2 Тим 2:18). Как замечает Дж. Данн, «нет никакого промежутка времени между первым снопом и остальной жатвой; aparchē — это начало всей жатвы» [Dunn, 2003, 869].
Община Коринфа уже «насаждена» ап. Павлом и «взращена» Богом (1 Кор 3:6). Действие насаждения в действительности является Божественной привилегией. Поэтому апостолы буквально являются соработниками Богу. Понятия насаждения и возрастания очень хорошо вписываются в библейскую традицию.
В общине можно разглядеть присутствие имплицитного разделения на «пшеницу и плевелы». Говоря о разделениях на Вечере Господней, апостол касается понятия
αἵρεσις, которое якобы «должно быть» среди верующих (δεῖ γὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι). И причина (αἵρεσις — «разномыслия»), и результат (обнаружение «испытанных» — οἱ δόκιμοι) происходящего вписываются в контуры апокалиптической карти-ны42. Здесь открывается эсхатологическая перспектива, в которой признаки эсхатона можно было соотнести с нынешней реальностью. По словам Концельмана, «действительные плоды этих разделений заключаются в видимом отделении пшеницы от плевел» [Conzelmann, 1975, 192].
Община Коринфа испытывает не только апокалиптическое разделение, навлекающее суд. Верные уже собираются. Единство в Теле Христовом достигается на Вечере и является ее результатом (1 Кор 10:17). Собирание есть момент жатвы. Образ жатвы может подтверждаться здесь тем, что единение происходит в «одном хлебе». Более ясно земледельческая метафора проявляется в дальнейшей традиции ранней Церкви, засвидетельствованной в Дидахе (10). В Дидахе 9:4 (ср. 10:5) верующие молятся Отцу Небесному о том, чтобы как хлеб, собранный (συναχθὲν) из зерен, «стал одним» (ἐγένετο ἕν), так была собрана (οὕτω συναχθήτω) и церковь в Божие Царство (εἰς τὴν σὴν βασιλείαν) [Смагло, 2015, 155]. По словам Нидервимера, здесь «эсхатологическое воссоединение разделенного связано с совершением трапезы» [Смагло, 2015, 155]. О мякине и плевелах ничего не говорится, однако очевидно, что хлеб составляют только «зерна», а то, что может «стать одним», остается вне собрания верных (Дидахе, 10:6). Итак, ранняя Церковь, в частности община Коринфа, мыслила свое существование как участие в эсхатологических событиях, выраженных в категориях разделения, собирания и суда, что в целом вписывалось в развернутый образ жатвы.
Возвращаясь к 1 Кор, следует отметить важный момент. Ап. Павел указывает на смерть верных из общины как на действие суда (1 Кор 11:30, 31). Если единение в хлебе и осуждение разделений внести в единый образ жатвы, то смерть в общине, как ее описывает апостол, можно описать как проникновение качества метафоры в повседневность. Апокалиптическая картина совпадает с жизнью общины и в определенных фрагментах становится неотличимой от нее. Верные, по научению апостола, должны были мыслить смерть некоторых своих собратьев как вторжение суда, который только предстоит. Идея наказания свыше не была чем-то новым для иудеев или язычников того времени. Но объяснение внутри эсхатологической картины с единением в хлебе и разделениями проясняет особое мироощущение среди членов общины43. Вместе с апостолом они должны были осознавать себя участниками «последних веков» (1 Кор 10:11), а значит — испытывать на себе их признаки.
Выводы
Итак, будучи изначально почерпнутым из земледельческого быта, образ жатвы описывал отношения Бога со Своим народом и предвозвещал эсхатологические представления. В Ветхом Завете о жатве говорилось преимущественно как о будущем.
В Новом Завете продолжается традиционное для Ветхого Завета, в особенности для пророков, употребление метафоры как обозначение эсхатона. В этом смысле жатвой — пшеницей и плевелами — обозначается община ранней Церкви. В Мф все характеристики, подразумевающиеся за образом, собираются в одном сюжете — притче о пшенице и плевелах. В сущности, она становится целостным нарративом, в котором разрозненные элементы ариткулируются вместе. Здесь есть и Бог — Господин жатвы и Судия, и жатва — народ Божий, и жнецы-ангелы, и судное разделение на пшеницу и плевелы, и собирание пшеницы, и огонь как наказание.
Христос возвещает наступление жатвы и Сам становится первым ее плодом (1 Кор 15:20 «первенец» — первый плод жатвы). Именно в таких категориях ап. Павел мыслит происходящее на Вечере Господней. Очевидно, что Вечеря Господня — особое место. Здесь предвосхищается то, что еще не явлено в обычной истории. Верные за Вечерей Господней уже собираются , но и участь плевел тоже становится реальностью.
Конкретная ситуация из раннехристианской жизни открывается в 1 Кор. В жизни ранней Церкви метафора жатвы перестает быть обычным сравнением. Здесь образ жатвы применяется для описания повседневной реальности вплоть до видимого проявления его качеств в жизни общины. Апокалиптический сюжет, изложенный, к примеру, в притче о пшенице и плевелах, не излагается. Другие образные элементы этого сюжета тоже отстутствуют. При этом только наличие такой парадигмы позволяет соединить отдельные характерные особенности жизни общины в целостную картину. Исходя из этого, следует сделать предположение, что жизнь в раннехристианской общине мыслилась в апокалиптических категориях, которые в библейской традиции выражались, в частности, в образах жатвы и связанных с ней действиях.