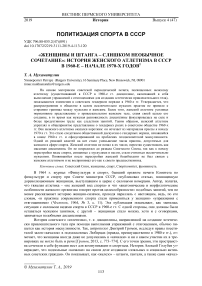"Женщины и штанга - слишком необычное сочетание": история женского атлетизма в СССР в 1960-е - начале 1970-х годов
Автор: Мухаматулин Тимур Анварович
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Политизация спорта в СССР
Статья в выпуске: 4 (47), 2019 года.
Бесплатный доступ
На основе материалов советской периодической печати, посвященных женскому атлетизму (существовавшей в СССР в 1960-е гг. дисциплине, включавшей в себя выполнение упражнений с отягощениями для создания эстетически привлекательного тела), показываются изменения в советском гендерном порядке в 1960-е гг. Утверждается, что распространение в обществе в целом исключительно мужских практик не привело к стиранию границы между мужским и женским. Более того, женский атлетизм усиливал нормативное представление о привлекательном женском теле, ставя своей целью его создание, в то время как мужская разновидность дисциплины фокусировалась на силе и более продуктивном труде как следствии занятий. Таким образом, женский атлетизм укреплял и общепринятое представление о гендерных ролях в советском обществе 1960-х гг. Век женского атлетизма оказался коротким: он исчезает из материалов прессы к началу 1970-х гг. Это стало следствием общественной дискуссии о гендерных нормах, начавшейся в конце 1960-х гг. и сфокусированной на проблемах позднесоветской маскулинности. Одной из реакций властей на нее стало уменьшение числа практик, допустимых для женщин в сфере спорта. Женский атлетизм не попал в их число, перестав существовать как массовая дисциплина. Он не возродился до развала Советского Союза, так как к началу перестройки виды спорта, связанные с мускулами и весом, стали считаться исключительно мужскими. Появившийся после перестройки женский бодибилдинг не был связан с женским атлетизмом и не воспринимал его как к своего предшественника.
Советский союз, женщины, спорт, спорткомитет, феминность
Короткий адрес: https://sciup.org/147245259
IDR: 147245259 | УДК: 796.88-055.2(47)(091) | DOI: 10.17072/2219-3111-2019-4-113-120
Текст научной статьи "Женщины и штанга - слишком необычное сочетание": история женского атлетизма в СССР в 1960-е - начале 1970-х годов
В 1964 г. журнал «Физкультура и спорт», бывший органом печати Комитета по физкультуре и спорту при Совете министров СССР, опубликовал статью, посвященную дореволюционным женщинам, выступавшим в цирке с силовыми номерами. Автор, полагая, что тяжелая атлетика – «не женский вид спорта» и что «анатомические и морфологические особенности женского организма говорят против целесообразности» подобных занятий, тем не менее рассказывает историю женщин-силачек, проводя параллель с настоящим, ведь, по его словам, «в практике современного спорта стали применяться у женщин» «упражнения с отягощениями» (Чесноков, 1964, № 3, с. 11). Эта публикация показывает, как менялась ситуация с силовыми видами спорта в СССР в 1960-е гг. С одной стороны, они должны были оставаться мужским занятием, с другой – женщинам стало можно, хотя и с оговорками, заниматься подобными дисциплинами.
История советского «атлетизма», т. е. дисциплины, направленной на создание эстетически привлекательного тела при помощи выполнения упражнений с отягощением, обычно пишется как история маскулинности. Так, антрополог Дмитрий Громов, исследуя нравы посетителей залов-«качалок» в подмосковных Люберцах (правда, преимущественно в 1980-е гг.), отмечает, что женщины иногда даже не допускались в «качалки» и ни о каком участии их в тренировках не могло быть и речи [ Громов , 2013, с. 773–774]. С его точки зрения, эти пространства сочетали в себе функции мест для коммуникации и спортзала. Историк Алексей Голубев утверждает, что подпольные «качалки» на самом деле создавали «лояльных и социально активных советских граждан». Он показывает, как «железо» – штанги, гантели, а также сами «качал-
ки» – играли ключевую роль в этом процессе. По мнению Голубева, критики и сторонники дисциплины спорили в первую очередь о том, является ли получившееся тело нормативным или девиантным [ Golubev , 2016, p. 172–208]. В его исследовании, однако, все участники дискуссий о советском атлетизме и их объекты – мужчины.
Маскулинный образ дисциплины вошел и в популярные описания: их авторы концентрировались на образе юноши или молодого мужчины из рабочего района, который в «качалке» готовился к защите себя на улице2. Вместе с тем в материалах, опубликованных в журнале «Спортивная жизнь России», а также в советской прессе 1960–1970-х гг. в целом, показывается, что атлетизмом занимались и женщины, для которых он не был запрещенной и общественно осуждаемой активностью.
Существование женского атлетизма как практики в советском обществе 1960-х гг. позволяет рассматривать его в более широком контексте позднесоветской гендерной истории. В данном случае я следую концептуализации, предложенной Анной Темкиной и Еленой Здравомы-словой. По их мнению, в 1950–1980-е гг. «общество ставит под сомнение официальные советские представления о мужественности и женственности… происходит ослабление государственного контроля над частной жизнью граждан вообще и контроля сексуальной жизни в частности» [ Здравомыслова, Тёмкина, 2006, с. 59]. Существует целый ряд работ, как исторических, так и социологических, которые опираются на эту идею, однако они сосредоточены преимущественно на сферах женской сексуальности и роли, которую женщина играет в организации семейной жизни и семейного быта [ Стяжкина, 2013; Чуйкина , 2002]. Специфически «женские», но внесемейные практики позднего социализма оказываются, как правило, вне внимания исследователей, при том, что аналогичные работы о мужском мире эпохи «позднего социализма» существуют. Так, Этан Поллок рассматривает баню как особое гомосоциальное пространство, в котором могла реализовываться позднесоветская маскулинность [ Pollock , 2010]. Таким образом, изучение женского атлетизма не только закрывает историографическую лакуну, но и позволяет показать, как менялись представления о «допустимых» и «недопустимых» женских практиках в 1960-е гг. и как ставшая «допустимой» телесная практика сочеталась с установившимися представлениями о феминности.
Первые материалы о женском атлетизме появились в журналах примерно в то же время, что и материалы о мужском, – в начале 1960-х гг. Их авторы настаивали на доступности дисциплины для обоих полов (Добро пожаловать…, 1963, № 2, с. 21). Тренеры убеждали: несовместимость женщин с силовым спортом – мнимая. Так, один из основателей ленинградского атлетизма, тренер Ф. Манько признавал, что «женщины и штанга – слишком необычное сочетание», однако в дальнейшем он своё мнение изменил, увидев в атлетической гимнастике «вернейшее средство» для выработки осанки и грациозности, ( Манько , 1969, № 9, с. 30). Активисты рекламировали дисциплину разными способами: так, врач из Свердловска Н. Ходаков устроил цикл лекций об «атлетической гимнастике», среди которых была лекция «Для вас, женщины» ( Ходаков , 1964, № 1, с. 20).
С середины 1960-х гг. появляются специальные группы «атлетизма» или «атлетической гимнастики» для женщин, которые, если верить воспоминаниям, пользовались популярностью. Основатель тюменского клуба «Антей» Евгений Колтун, когда проходил первый набор в женскую группу, был уверен, что «по объявлению придут не более двух-трех – всех и запишем. Но в назначенный день их появилось видимо-невидимо. Пришлось предложить всем пройти основательное медобследование. В итоге первую экспериментальную группу составили 25 любительниц атлетической гимнастики» ( Белов , 2012). В конце 1960-х гг. энтузиасты все чаще организовывали соревнования среди женщин. В 1966 г. они прошли в Ленинграде, в клубе «Спартак» (Тэнно, 1967, № 6, c. 16–17). В 1968 г. в Тюмени прошёл Второй всесибирский конкурс атлетизма, в котором принимали участие и спортсменки, занимавшиеся в клубе «Антей». Они, как писал корреспондент, «спорили в искусстве прохождения бревна, количестве приседаний с гимнастической палкой в руках, акробатических прыжках и вольных упражнениях» ( Кричевский , 1969, № 2. c. 26–27).
В 1970 г., однако, по женскому атлетизму, как и по мужскому, был нанесен удар со стороны государственных органов. В январе этого года появился приказ председателя Комитета по физической культуре и спорту при Совете министров СССР (Спорткомитета) «О пропаганде атлетизма на страницах журналов ″Спортивная жизнь России″ и ″Физкультура и спорт″», в котором говорилось, что «увлечение упражнениями ради "культуры тела" прививает чуждые советским людям качества, как эгоизм, самолюбование, узость интересов» (ГАРФ. Ф. 7576. Оп. 31. Д. 390. Л. 72). Более того, в проекте приказа журналы критиковались, в частности, за использование запрещенных приемов при пропаганде «атлетизма» среди женщин: «…Журнал бил читателя по самолюбию, затрагивая самые тонкие струны. Обращаясь к женщинам, один из авторов журнала писал: "Многие женщины бывают недовольны формой своего бюста. Это естественно. Слабые дряблые мышцы груди способны свести на нет впечатление от фигуры…"» (ГАРФ. Ф. 7576. Оп. 31. Д. 390. Л. 76).
Начиная с 1970 г. материалы о женском атлетизме исчезают из печати. В следующих «антиатлетистских» постановлениях руководящих общесоюзных и республиканских органов, курирующих спорт, упоминаний об атлетизме среди женщин нет (ГАРФ. Ф. 7576. Оп. 31. Д. 1519. Л. 12–17; Д. 3328. Л. 93–97). Нет информации о занимающихся атлетизмом женщинах и в критических публикациях газет, в первую очередь «Советского спорта». Не было речи о возрождении женского атлетизма и в конце 1980-х гг., когда атлетизм был легализован и институционализирован. Так, в ходе дискуссий при создании Федерации атлетической гимнастики СССР в 1987 г. говорили лишь о женской тяжелой атлетике: глава федерации заявил, что «мы дали задание проверить ее влияние» (ГАРФ. Ф. 7576. Оп. 34. Д. 2224. Л. 91). Проходившие в последние годы под эгидой этой федерации СССР общесоюзные и республиканские соревнования также были исключительно мужскими (LCVA. F. 982. Op. 1. D. 9781. L. 1–3; ГАРФ. Ф. 7576. Оп. 34. Д. 3988. Л. 10–25).
Таким образом, женский атлетизм как дисциплина существовал в СССР меньше десятилетия, в 1960-е гг. Его история стала отражением гендерной либерализации, которую советское общество переживало с середины 1950-х гг. [ Лебина , 2014, c. 8]. Спорт не мог стать зоной, свободной от подобных процессов. С конца 1950-х гг. в Советском Союзе начинает развиваться такой контактный вид спорта, как женский гандбол. Появляются материалы о женском хоккее с мячом, развивавшимся в стране до конца 1930-х гг. Автор статьи об этом виде спорта в 1964 г. замечает, что «сейчас женский хоккей исключен из календаря соревнований», но в ходе матчей «проявлялись, казалось бы, противоречивые качества: женственность и мужество», что легитимизировало женскую игру ( Бородина , 1964, № 3. с. 9).
Вне спорта женщины добиваются права носить брюки не только на работе, но и в обычной жизни. Меняется отношение к женскому курению: оно осуждается, но уже не так активно. В литературе появляются положительные курящие героини, к примеру, в прозе Василия Аксенова [ Лебина , 2014, c. 170–172, 176–177). Эти новые практики иллюстрируют тезис об ограниченной либерализации гендерных ролей в 1950–1960-е гг.
Еще одним свидетельством либерализации стала допустимость создания спортивного, нормативно красивого тела «просто так», а не для решения функциональных задач. Прогрессивная женщина 1960-х должна была заниматься спортом не ради рекордов: неудивительно, что в фильме «Кавказская пленница» (1967) героиню Натальи Варлей Нину характеризуют как «спортсменку» наряду с «комсомолкой» и «красавицей».
Атлетизм понимался, таким образом, как одна из возможностей для переделки и улучшения собственного тела. Однако красивое тело должно было быть естественным [ Лебина , 2014, 96–113]. Иллюстрацией этого тезиса стала фотография, опубликованная в журнале «Смена». На ней изображена женщина, выполняющая упражнение с гимнастической палкой за плечами. Фотографию сопровождает подпись: «Красивую фигуру в косметическом кабинете не сделаешь» (Тэнно, 1966, № 5, с. 102). В ходе занятий атлетизмом, как подчеркивали его сторонники, достигалась именно «натуральная» красота. Как отмечалось в редакционной статье, «всегда с сожалением смотришь на женщин, прозябающих в очередях у дверей косметических кабинетов. Если бы время, затрачиваемое на это, посвятить не маскам, массажам и краскам, а атлетической гимнастике, катку или купанию, лыжам или туризму, право, женщины были бы куда красивее, а цвет их лица здоровее и значительно ярче» (За красоту…, 1964, № 5, с. 18).
Связь между атлетизмом и красотой неоднократно подчеркивалась авторшами писем в «Спортивную жизнь России». Рассказывая о своих успехах, женщины подчеркивали, что дисциплина помогла им создать нормативное тело. Так, Светлана С-кая считала, что атлетизм –
«верное средство в борьбе за здоровье и красоту», сообщала читателям новые параметры своего тела, а именно размеры бедер и талии ( Странская , 1966, № 10, с. 19). Валентина А-ва «приобрела хорошую осанку» вдобавок к тому, что «перестала уставать после трудного рабочего дня» ( Симакова , 1969, № 1, с. 31). Прогрессивная мама с помощью занятий в секции атлетической гимнастики помогла дочери избавиться от лишнего веса ( Таратута , 1969, № 10, с. 30). Особого внимания заслуживает публикация «Открытое письмо женщине, не любящей спорт». В ней читательница из Челябинска жаловалась на то, что ее мать не даёт ей заниматься атлетизмом, в то время как ее «брат тоже занимается атлетической гимнастикой, и мама не мешает ему это делать». В ответе на письмо тренер А. Медведев обвинял противников женской атлетической гимнастики в ретроградстве: говоря о полноте, возникающей в отсутствие занятий спортом, он сообщал, что «дебелость, чрезмерная округлость форм» были идеалом «купеческой» красоты, а современная женщина должна быть спортивной ( Медведев , 1968, № 12, с. 31).
Таким образом, женский атлетизм в СССР, хотя и был новой практикой, допустимой для женщин, укреплял общепринятые представления о феминности, в том числе о необходимости создавать и поддерживать нормативную привлекательность женщины. Более того, активистки дисциплины часто противопоставляли свои занятия мужским. Так, в 1966 г. Нелли К-ва рассказав об опыте женской группы атлетизма, организованной при Московском энергетическом институте, объяснила, что проблемы со здоровьем исчезли после начала регулярных тренировок. При этом она отказалась выполнять упражнения с тяжёлыми гантелями: «Мышц наращивать не хочу» ( Колесникова , 1966, № 4, с. 21). Тренер секции «Чайка» Е. Рысина рассказывала, что на работу «с весами» тратится не более 40% времени, остальное же расходуется, в частности, «на элементы художественной гимнастики, балета» (Студия «Чайка»…, 1968, № 1, с. 26–27). Достойно внимания то, что существование новой активности риторически оправдывается близостью с уже существующими, признанными дисциплинами, которые считались и обществом, и властями «женскими».
Мужчины же должны были заниматься атлетизмом для улучшения трудовых показателей и излечения от болезней, а увлечение достижением внешних эффектов, например, наращиванием мышц, официально не поощрялось. Так, автор одного из писем в журнал сообщал о том, как атлетизм помог избавиться от последствий ранений в годы Великой Отечественной войны ( Бабкин , 1966, № 11, с. 18-19). А Д. В-ов из Горького излечился с помощью занятий от алкоголизма ( Виноградов , 1967, № 2, с. 18-19). Как утверждалось в одной из редакционных статей, «атлетизм нужен нам не для того, чтобы красоваться на пляжах, а для того, чтобы стать здоровыми, сильными, лучше трудиться, в любую минуту быть готовыми к защите Родины» ( Зернов , 1965, № 11, с. 19).
Доступный небольшой объём информации о женских соревнованиях по атлетизму также позволяет утверждать, что формат соревнований упрочивал нормативные представления о советской женственности. Так, участницы соревнований выглядели скромно , например, на групповой фотография спортсменки, соревновавшиеся в Ленинграде в 1968 г., одеты в одинаковые черные купальные костюмы. Не удалось найти фотографии позирующих женщин, в то время как атлетов-мужчин часто запечатлевали позирующими с выделяющимися мускулами, что было похоже на западные образцы (Длугаг , 1969, № 9, с. 30; Балдин и др., 1968, № 3, с. 26-27). Сохранившийся отчет о турнире по атлетизму в Ленинграде показывает, что в женских соревнованиях «позирования» вообще не было, его заменяло выполнение «вольных упражнений» с гантелями. Таким образом, советские сторонники дисциплины отделяли атлетизм от «конкурсов красоток», которые описывались как нескромные и преследующие «чисто рекламные цели» ( Балдин , 1968, № 6, с. 27).
Можно сказать, что развитие советского женского атлетизма пошло путем, противоположным западному женскому бодибилдингу. В США эта дисциплина стала символом нарушения границ между маскулинным и феминным. Мэри Лоу показывает сочетание мускулистости, ассоциирующейся с мужским телом, и феминных элементов, таких как макияж, причёска, маникюр, у спортсменок. Тем не менее, по мнению Лоу, эти женщины воспринимались за пределами нормы. Их либо называли «мужеподобными», «лесбиянками», «неженственными», либо предлагали «переделать», чтобы они соответствовали патриархальным представлениям о феминности [ Lowe , 1998, P. 10].
Ничего подобного в советском атлетизме не наблюдалось: все имеющиеся визуальные материалы не позволяют судить об избыточном использовании косметики. Для советского женского атлетизма были неактуальны и попытки изменить ситуацию, в которой спортсменок тренируют и оценивают исключительно мужчины [ Castelnuovo, Shutrie , 1998, р. 1–31, 49–67]. Конечно, арбитрами на немногочисленных соревнованиях по женскому атлетизму были мужчины, и они зачастую оценивали спортсменок с учетом «гармоничности и пропорциональности сложения» ( Балдин , 1968, № 6, с. 27). Среди тренеров же женщины были представлены, некоторые из них, например, Э. В-цева из Ленинграда, вели занятия в женской и мужской группах ( Манько, 1967, № 6, с. 16–17).
Таким образом, советский женский атлетизм как спортивная дисциплина способствовал укреплению нормативной феминности в течение 1960-х гг. Однако уже в начале 1970-х ситуация изменилась, и группы женского атлетизма перестали существовать. Ответ на вопрос о причинах исчезновения этого вида спорта, как кажется, следует искать в истории позднесоветской маскулинности, в частности, в ее предполагаемом «кризисе».
В конце 1960-х гг. началась дискуссия, спровоцированная выходом статьи демографа Бориса Урланиса «Берегите мужчин», опубликованной в «Литературной газете». В ней говорилось о «кризисе», признаками которого среди прочего назывались заметный разрыва в продолжительности жизни мужчин и женщин и распространение среди первых самодеструктивных практик [ Здравомыслова, Темкина, 2001]. Соблазнительно считать, что государство было готово бороться с этим кризисом, прибегнув к более жесткому гендерному разграничению практик, в том числе обозначив любые силовые активности как мужские.
Стоит заметить, что спорт стал не единственным полем, в котором государство решило укрепить «гендерный порядок». В конце 1960-х гг. началась активная атака на внешний вид в стиле «унисекс», включавший в себя прически, одежду, манеры. Так, сатирический журнал «Крокодил» регулярно публиковал карикатуры, обыгрывавшие маскулинизированных женщин (обычно курящих) и феминизированных мужчин (обычно носящих длинные волосы). Так, на одной из карикатур два одинаковых человека (длинные волосы, брюки, сигареты) различимы только благодаря медальону (Знаки отличия, 1969, № 26, обложка). В спорте это выразилось в осуждении женского футбола и женских секций единоборств, зафиксированном в постановлении Спорткомитета «О некоторых фактах неправильного развития отдельных видов физических упражнений и спорта» от 24 января 1973 г. В нем было отмечено, что игра в футбол «для женщин противопоказана, она вредна для женского организма», а в секциях самбо «пропагандируется так называемое "равноправие" в занятиях физическими упражнениями», при том, что «занятия борьбой не решают и эстетических задач и не позволяют женщинам широко и полно проявить и развить качества, дарованные ей природой» (ГАРФ. Ф. 7576. Оп. 31. Д. 1519. Л. 14–15). Таким образом, под выдавливание женщин из любых силовых активностей подводится научная база: разделение видов спорта на мужские и женские природно обусловлено, и нарушение этой границы – это нарушение естественности, даже если участницы и участники не претендуют на разрушение существующего гендерного порядка. Подобное разделение в начале 1970-х гг. доходило до абсурда. Так, журналистка «Советского спорта» Елена Рерих отмечала в статье, что не могла писать отчеты о хоккейных матчах, так как «мои коллеги-мужчины, видимо, считают, что хоккей и женщина … – это несовместимо». Она сослалась и на коллегу из Чехословакии, которая «гандбол за его близость к хоккею разлюбила. То, что украшает хоккей – силовая борьба, жесткость – совсем не подходит гандболу, когда в него играют женщины» (Рерих, 1973, 13 апр.). Слкдовательно, оппозиция «мужское – женское» в советском спорте 1970-х гг. стала жестче, что не позволяло женщинам заниматься атлетизмом даже в облегченном варианте.
Признание атлетизма исключительно «мужским» видом спорта предсказуемо способствовало усилению в нем силового компонента. «Выдавливание» советских женщин из атлетизма привело к гипермаскулинизации дисциплины, не готовой к новому приходу туда женщин. Мир атлетизма в период перестройки иллюстрирует тезис Темкиной и Здравомысловой о том, что установившийся тогда гендерный порядок в каких-то сферах имел тенденцию к архаизации и маскулинизации. В результате появившийся на постсоветском пространстве бодибилдинг не стал массовым женским занятием «для красоты», заняв нишу спорта высших достижений.
Таким образом, короткая история советского женского атлетизма показывает, что в 1960е гг. границы «допустимого» в спорте для женщин расширились. Занятие атлетизмом, хотя и ограниченно, разрешалось государством. Важно отметить, что в отличие от западных практик советский атлетизм укреплял существующие нормативные представления о феминности, а не разрушал их. В конце 1960-х гг. эта практика перестала быть допустимой. Как кажется, это было связано с общим курсом государства на признание любых силовых активностей как мужских в рамках дискуссий о гендерном порядке.
Список литературы "Женщины и штанга - слишком необычное сочетание": история женского атлетизма в СССР в 1960-е - начале 1970-х годов
- Громов Д.В. Качалка - место не для девчонок: Организация мужского пространства на примере люберецких качалок 1980-х годов // Российская повседневность в зеркале гендерных отношений (под ред. Н.Л. Пушкаревой). М.: НЛО, 2013. С. 773-774.
- Здравомыслова Е., Темкина А. Кризис маскулинности в позднесоветском дискурсе. URL: http://www.owl.ru/win/books/articles/tz_m.htm (дата обращения: 4.11.2019).
- Здравомыслова Е., Темкина А., История и современность: гендерный порядок в России // Гендер для "чайников". М.: Звенья, 2006. С. 59.
- Лебина Н.Б. Мужчина и женщина. Тело, мода, культура. СССР - оттепель. М.: НЛО, 2014. 208 с.
- Стяжкина Е.В. Женская и мужская повседневность в условиях смены гендерных контрактов второй половины ХХ века // Российская повседневность в зеркале гендерных отношений (под ред. Н.Л. Пушкаревой). М.: НЛО, 2013. С. 650-701.
- Чуйкина С. "Быт неотделим от политики": официальные и неофициальные нормы "половой" морали в советском обществе 1930-1980-х годов // В поисках сексуальности (под ред. Е. Здравомысловой и А. Темкиной). СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. С. 99-128.
- Castelnuovo Sh., Guthrie Sh. Feminism and the Female Body: Liberating Amazon from Within. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998. 181 p.
- Golubev A. Elemental Materialism: Objectifying Power and Selfhood in the Late USSR, 1961-1991: Ph.D Dissertation. Vancouver: University of British Columbia, 2016. 276 p.
- Lowe M. Women of Steel. Female Body-Building and the Struggle for Self-Definition. New York: NY University Press, 1998. 206 p.
- Pollock E. "Real Men Go to The Bania": Postwar Soviet Masculinities and the Bathhouse // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2010. Vol. 11(1). P. 47-76.