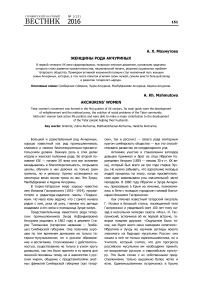Женщины рода Акчуриных
Автор: Махмутова Альта Хазеевна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Конференции, семинары
Статья в выпуске: 1 (23), 2016 года.
Бесплатный доступ
В первой четверти XX века сформировалось татарское женское движение, основными задачами которого стало развитие просветительства, национальной печати, решение социальных проблем татарского общества. Примером активной жизненной позиции стал жизненный путь женщин семьи Акчуриных, которые, в том числе помогая усилиям своих мужей, сумели внести большой вклад в развитие татарского народа.
Симбирская губерния, зухра акчурина, махбубджамал акчурина, хадича акчурина
Короткий адрес: https://sciup.org/14114300
IDR: 14114300
Текст научной статьи Женщины рода Акчуриных
Большой и разветвленный род Акчуриных, хорошо известный как род промышленников, славился и своими благотворительно-просветительскими делами. Важную роль в этих делах играла и женская половина рода. Во второй половине XIX — начале ХХ века они все активнее вкладывались в благотворительность, открывали школы, обучали в них девочек не только азам грамоты, но и ремеслу. Кратко остановимся на некоторых вехах жизни троих из них. Это Зухра, Махбубджамал и Хадича Акчурины.
В тюрко-татарском мире хорошо известно имя Исмаила Гаспринского (1851—1914), просветителя и редактора-издателя газеты «Терджи-ман». Но мало кому ведомо, что с самого начала рядом с ним, рука об руку, главное его детище создавала и его жена и помощница Зухра-ханум.
Представительница известного рода татарских промышленников Зухра Асфандияровна Акчурина родилась в 1862 году в деревне Старое Тимошкино (татарское название — Зияба-ши) Симбирской губернии. Она получила хорошее по тем временам домашнее не только татарско-мусульманское, но и русское образование и воспитание. Столкновение с действительностью, существование не только в узком кругу домашних, как это было принято в то время для женской половины татар, но и знакомство с русским миром, общение с представителями знатных фамилий Симбирской губернии (как татар- ских, так и русских) — своего рода элитарным кругом симбирского общества — все это способствовало развитию ее неординарного ума.
Активное участие в становлении взглядов девушки принимал и брат ее отца Ибрагим Ку-рамшевич Акчурин (1859 — начало 30-х гг. ХХ века), который был всего на три года старше Зухры. Не нужно забывать, что взросление молодых людей пришлось на эпоху, когда просветительские идеи завоевывали умы значительной части молодежи. В 1880 году Ибрагим и Зухра Акчурины, приехавшие в Крым на лечение, познакомились в Ялте с молодым городским головой Бахчисарая Исмаилом Гаспринским.
Как отмечал известный татарский писатель Г. Исхаки в большой статье, посвященной чете Гаспринских и увидевшей свет 100 лет тому назад в нескольких номерах газеты «Иль», И. Гас-принский, вспоминая об их первой встрече, говорил позднее друзьям: «Ощущение было такое, как будто всего меня ошпарили кипятком». Ибрагима и Зухру же изумили взгляды нового знакомого на будущее мусульман России: они нашли в нем не только единомышленника, но и Учителя, который считал, что для прогресса российских мусульман им необходимо принять на вооружение русскую и европейскую культуру. Это было схоже с их собственными представлениями, только выражено более четко и ясно. Единомышленники встречались в Крыму несколько раз, обсуждали многие вопросы, касающиеся судеб российских мусульман.
Завязалась и переписка. Исмаил-бей, задумавший начать свою просветительскую деятельность с создания собственной типографии, делился планами с молодой девушкой. Обсуждалась ими и проблема выпуска газеты на тюрко-татарском языке, которой «горел» в то время молодой и энергичный городской голова. В своих письмах он подробно рассказывал Зухре-туташ о предпринимаемых им шагах, о трудностях, встречавшихся на каждом шагу, о волоките в чиновничьих кабинетах. Девушка же всемерно поддерживала в нем веру в правоту начатого им дела, укрепляла его решимость в достижении поставленной цели. Так через письма произошло сближение двух сердец, двух душ. И в 1881 году они решили объединить свои судьбы.
Известный татарский ученый-просветитель Р. Фахретдинов в работе «Знаменитые женщины», назвав Зухру-ханум жемчужиной среди татарских женщин, так оценил это событие: «Стать спутницей жизни человека, у которого в действительности не было богатства, имущества, кроме его пера, — свидетельство преданности просветительским идеям. По рассказам, это ее желание было так сильно, что она, несмотря на сопротивление отца и других родственников, оставила свою родину — Симбирскую губернию и уехала в Крым, в Бахчисарай». В 1883 году И. Гаспринский, наконец, добился разрешения на издание газеты на русском и татарском языках. Зухра-ханум полностью поддерживала начинания своего мужа не только морально, но и материально, отдав на издание газеты приданое и украшения. Все еще у них было впереди: общность идеалов и надежды на будущее, трудности различного характера, связанные с выпуском газеты, создание круга читателей и последователей, признание, слава… И всюду рядом с мужем была Зухра-ханум.
И Р. Фахретдинов, и Г. Исхаки очень высоко оценивали роль Зухры-ханум в становлении Гаспринского как просветителя. «Зухра-ханум в ту пору была самой большой опорой Исмагил-бека, — подчеркивал Г. Исхаки. — Для него, ринувшегося на общественную арену с возгласом «Моя нация!» в то время, когда весь тюркотатарский мир был покрыт темным покрывалом невежества, жена была человеком, благодаря поддержке которого он не свернул с намеченного пути, остался верным своим идеалам в окружении множества врагов. Они вместе одолели и голод, и холод. Она всегда находила тепло сердца для того, чтобы согреть оледеневшую на улице душу Исмагил-бека, давала надежду и силу, когда он, устав от одиночества, нужды и бедности, готов был уступить безнадежности».
У Гаспринских было пятеро детей — дочери Шафика и Нигяр и сыновья Рефат, Айдар и Мансур. Это была большая дружная семья, в которой царили любовь и уважение друг к другу. Двери их просторного дома в Бахчисарае были открыты для всех: и для родственников и друзей, и для единомышленников, и для зачастивших в Бахчисарай представителей разных тюркоязычных народов, которые хотели рассеять сомнения, услышать от редактора-издателя ответы на встававшие перед ними вопросы, своими глазами увидеть издание газеты, будоражившей их мысли. Весной 1893 года исполнилось 10 лет со дня выхода первого номера газеты. В Бахчисарае состоялись торжества по этому поводу. Гаспринских засыпали поздравлениями, цветами, подарками. Городской голова Бахчисарая Мустафа Давидович в своей приветственной речи особенно проникновенно отозвался о деятельности Зухры-ханум, назвав ее первой журналисткой среди мусульманок России.
Зухра-ханум не была бы собой, если бы остановилась на достигнутом. Как только газета встала на ноги, появились сотрудники, могущие заменить ее, она, передав помощникам часть обязанностей по газете, решила приступить к изданию газеты для женщин. Получив отказ от правительственных органов, она не стала предаваться унынию, а занялась новым для нее делом — созданием школы для девочек. В 1893 году она создала на свои средства женскую школу, в которой обучала девочек не только грамоте по новому методу, но и ремеслам, чтобы они могли обеспечить себе безбедное существование в дальнейшем.
Зухра-ханум умерла от тифа 13 апреля 1902 года на 41-м году жизни. На имя И. Гаспринского пришло около трехсот писем и телеграмм соболезнований со всех уголков России. В некрологе, написанном другом И. Гаспринского, городским головой Мустафой Давидовичем, дается такая оценка Зухре-ханум: «Покойная была правой рукой своего мужа по издательству “Переводчикаˮ, особенно в первые, очень трудные годы существования этой газеты. Хорошо грамотная по-мусульмански и достаточно по-русски, покойная ханум в течение первых 5—6 лет издания вела всю конторскую и экспедиторскую часть дела... Но еще большая заслуга покойной заключается в том, что она служила великой нравственной поддержкой своего мужа-редактора. Ее упорная и глубокая преданность газетному и просветительскому делу, редкая скромность при любви к тру- ду была для мужа ее тем, что принято называть «ангелом-хранителем» [3, 1902, 15 мая].
Короткий рассказ о Зухре-ханум хочется завершить словами хадиса, которыми Р. Фахретди-нов в своем очерке оценил эту незаурядную женщину: «Возьмите и прочитайте биографию любого великого человека. Всегда рядом с ним Вы увидите Женщину, готовившую дорогу к вершинам, наполнявшую его душу радостью и мужеством». Именно такой женщиной была и Зухра-ханум.
Вторая героиня — Махбубджамал Акчурина (1869—1948), представительница саратовской ветви многочисленного рода. Родилась она в 1869 году в семье муллы и мударриса Ахмера бине-Хасан Акчурина в деревне Дема Кузнецкого уезда Саратовской губернии. Первоначальное образование получила у своего отца, затем всю жизнь занималась самообразованием. С юных лет Махбубджамал начала заниматься обучением девочек своей родной деревни, получая первый педагогический опыт. В 1892 году ее выдали замуж в деревню Савинка Самарской губернии. И здесь она продолжала учить девочек и учиться сама, получая частные уроки у разных лиц, обратив особое внимание на изучение русского языка и литературы.
Среди тех женщин, которые пришли в татарскую литературу под влиянием революции 1905—1907 гг., Махбубджамал Акчурина занимала особое место. Ее литературная деятельность охватывала разные аспекты. В ее произведениях, отражавших прогрессивные взгляды эпохи, особое внимание уделялось нравственным и общественным проблемам, волновавшим тогдашнее татарское общество, — воспитанию детей, положению женщины в обществе, социальному неравенству. Ее имя стало известно татарской общественности прежде всего через публикации в издававшемся в Оренбурге журнале «Шура», редактором которого был Ризаэддин Фахреддинов. В 1909—1915 гг. в этом весьма солидном издании нашлось место как для ее статей, посвященных проблемам воспитания детей, гигиены семьи и жилища, так и очерков, рассказов, эссе. Печатались ее произведения и в издававшемся в Казани журнале для женщин «Сююмбика», выходили они и отдельными изданиями.
Интересен очерк Махбубджамал Акчуриной «Наша древняя литература», увидевший свет в 1911 году в журнале «Шура». Аналилизируя здесь такие памятники древней литературы, как «Тахир-Зухра», «Сайфульмулюк», писательница одной из первых в татарском литературоведении поставила проблему поиска, сбора и изучения произведений устного народного творчест- ва и древнего рукописного наследия. «Так же, как любое наше дело идет не так, как у других, и наша литература не может избавиться от этой привычки. Другие народы день ото дня выказывают все больше уважения древним авторам. У нас же все больше увеличивается число обвинителей наших древних писателей. На какую бы статью, написанную молодыми, мы не бросили взгляд, обязательно найдем места, задевающие старые книги», — отмечала она.
«Мы должны быть бесконечно благодарны нашим древним писателям. Так же, как должно хранить, не выбрасывая, найденные под землей каменные топоры и молотки, на нас лежит обязанность сохранить и эти [литературные памятники]», — подчеркивала Махбубджамал-ханум. Она резко выступила против уничижительного отношения к памятникам старины, волновавшим многие поколения читателей и слушателей. Писательница особо подчеркивала нравственную ценность подобных произведений, дающих молодому поколению, да и в целом всему народу, этикоэстетическое воспитание. «Если мы совсем бросим старое, следуя принципу “Кинь старую шапку в печь, принесу новуюˮ, не останемся ли мы и без старого, и без нового?» — так ставила вопрос М. Акчурина, выражая сомнение в будущем литературы, отрицающей древнее наследие.
Ее беспокоило то, что издревле существовавшие в народе легенды, сказания, мунаджаты с их уникальными мелодиями постепенно теряются, забываются. Она выказывала опасение: «Существует вероятность, что произведения со специальной для каждого мелодией, передаваемые от матери к дочери, из уст в уста, в какое-то время могут исчезнуть». Махбубджамал-ханум подчеркивала, что каждое древнее произведение имело свойственную только для него мелодию, и была уверена, что это доказывает существование музыки и пения у татар. «Я не сомневаюсь, что если исполнить песни из произведения «Тахир-Зухра» на мелодии, которые дошли до нас из древности, то у обвинителей старины смягчатся сердца и по их спинам побегут мурашки, — отмечала она. — И еще: из этих обоих произведений [«Тахир-Зухра» и «Сай-фульмулюк»] ясно видно, что в древности у нас была музыка. Так как в нашем народе сильна привычка отвращать от всего, говоря — это нельзя, то нельзя, отрицали и музыку. Осуждая музыку, в конце концов совсем ее потеряли: не осталось ничего, кроме скрипки, играющей на свадьбах перед водкой, да тридцати-сорока-копеечных гармоней». И тут же она выражала надежду: «Хотя у нас и достаточно тех, кто хо- тел бы совсем выкинуть эти книги, нельзя терять надежду; будем надеяться, что в будущем в мусульманских операх [театрах] будет поставлен «Сайфульмулюк» (напомню, что это дастан — сказание любовно-романтического характера, написанное в XV веке хорезмийским поэтом Маджлиси и по сюжету восходящее к восточным сказкам «Тысяча и одна ночь»; оно было широко распространено у татар, отрывки из него нередко исполняются доныне как старинные песни)».
Будем надеяться, что наших современных композиторов, музыкантов, либреттистов, режиссеров, артистов заинтересуют эти древние произведения, и они, взяв пример со своих предшественников начала ХХ века, показавших на сцене драму «Тахир-Зухра», воплотят в жизнь мечту Махбубджамал-ханум.
Среди художественных произведений М. Акчуриной особое место занимают рассказы «Картина из жизни мишарей» и «Жестокий отец, или Жизнь мишарей», увидевшие свет в 1914 году (первый — в журнале «Шура», второй — отдельным изданием). В них она дала реальные картины жизни татарской (мишарской) деревни, сумела отобразить угнетенное положение женщины, ее тяжелую судьбу, показать, как под беспощадными ударами невежества и фанатизма, веками господствовавшего в мишарской деревне, унижалась женщина. Ее публицистика привлекала читателей серьезной постановкой актуальных не только для начала ХХ века нравственно-этических проблем воспитания подрастающего поколения.
После революций 1917 года Махбубджамал-ханум постепенно отошла от литературнопублицистического творчества. В 1929 году она переехала в Баку, где и жила до своей кончины в 1948 году.
Третья представительница рода Акчуриных — это первая среди татарок художница Ха-дича туташ. Она родилась в 1893 году в семье механика суконной фабрики Мубина Акчурина. Детство ее прошло в родовом гнезде Акчуриных — деревне Старое Тимошкино. Первоначальное образование она получила там же в женской новометодной школе. Происходившие в начале ХХ века изменения в татарском обществе открыли Хадиче дорогу к светскому образованию. В годы Первой российской революции ее отдали в Симбирскую женскую гимназию. Окончив четыре класса этой гимназии, двадцатилетняя Хадича туташ в 1913 году поступает в Московское высшее Строгановское училище, открытое еще в 1825 году графом С. Г. Строгановым и готовившее художников декоративно-приклад- ного искусства. Девушка, увлекавшаяся рисованием с детства, уже в годы учебы в знаменитой Строгановке привлекла к себе внимание общественности. В № 5 за 1915 год журнала «Аң (Сознание)», выходившего в Казани, появилась небольшая заметка «Национальный шаг на пути изящного искусства (в связи с рисунками Хади-чи туташ Акчуриной)». Здесь же были помещены и четыре рисунка Хадичи туташ.
Рисунки отображают жизнь татарского общества. Первый из них — это виньетка, где изображена девушка-татарка, сидящая перед зеркалом. На втором нарисована девушка-мишарка в национальном костюме. На третьем показана женщина, слушающая азан, доносящийся из мечети, которая видна из открытой двери. А четвертый рисунок посвящен четырем увлеченно играющим девочкам. Хадича туташ стала известна как автор станковых живописных композиций, пейзажей с силуэтами татарских мечетей, этюдов, графических рисунков.
Хадича туташ сотрудничала и с выходившим в 1913—1916 годах в Казани журналом для детей под названием «Ак юл (Светлая дорога)». В частности, заставка, получившая постоянное место на обложке журнала, приписывается ее перу. На ней изображен мальчик в татарском национальном костюме, стоящий на проселочной дороге и смотрящий из-под ладони на восходящее солнце. Впервые опубликованный в № 3 за 1913 год журнала, этот рисунок стал его эмблемой, узнаваемым брендом. Неизвестный автор статьи, помещенной в журнале «Анг», высоко оценивал творчество Хадичи туташ. Он писал, что «татарская нация возлагает на нее большие надежды». К сожалению, сведений о ней дошло до нас очень мало. К сказанному можно добавить лишь, что свои рисунки она подписывала монограммой «Х. А.» или «Г. А.». Еще одна весточка о ее судьбе, приведенная в «Литературном словаре» И. Рамеева: в годы Первой мировой войны она отправилась на Кавказский фронт сестрой милосердия и пропала без вести в годы Гражданской войны.
-
1. РГИА. Ф. 776. Оп. 12-1887. Д. 54, 87.
-
2. НАРТ. Ф. 186. Оп. 1. Д. 2.
-
3. Тәрҗеман (Переводчик). 1883—1902.
-
4. Фәхреддин Р. Мәшһүр хатыннар. Оренбург, 1903. 209—211 б.
-
5. Исхакый Г. Исмәгыйль бәк, Зөһрә ханым Гас-принскийлар. Ил. 1914. № 41—44, 47.
-
6. Шура. 1911. № 16. 508—510 б.
-
7. Милләт аналары: тарихи-документаль һәм биографик җыентык / төзүче-автор А. Х. Мәхмүтова.
Список литературы Женщины рода Акчуриных
- РГИА. Ф. 776. Оп. 12-1887. Д. 54, 87.
- НАРТ. Ф. 186. On. 1. Д. 2.
- Тэржеман (Переводчик). 1883-1902.
- Фэхреддин P. Mamhyp хатыннар. Оренбург, 1903. 209-211 б.
- Исхакый Г. Исмэгыйль бэк, 3ehpa ханым Гасприн-скийлар. Ил. 1914. № 41-44, 47.
- Шура. 1911. № 16. 508-510 б.
- Миллэт аналары: тарихи-документаль hэм биографик жыентык/тезуче-автор A. X. Мэхмутова.