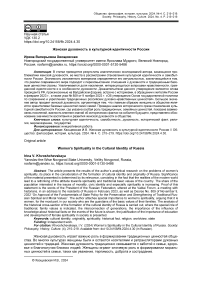Женская духовность в культурной идентичности России
Автор: Хвощевская И.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 4, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье приводятся результаты аналитических исследований автора, касающихся проблематики женской духовности, ее места в рассмотрении становления культурной идентичности и самобытности России. Значимость изложенного материала определяется его актуальностью, заключающейся в том, что реалии современного мира подводят к переосмыслению отношения к духовности и традиционным базовым ценностям страны. Увеличивается доля населения, интересующегося вопросами нравственности, гражданской идентичности и в особенности духовности. Доказательством данного утверждения являются слова президента РФ, произнесенные на Валдайском форуме, встрече с историками, в обращении к жителям России в феврале 2023 г., а также указ № 809 от 9 ноября 2022 г. «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Большое значение автор придает женской духовности, аргументируя тем, что главным образом женщины в обществе являются хранителями базовых ценностей своих семей. Проведен анализ исторического среза становления культурной самобытности России, где указана особая роль традиционных, семейных ценностей, показана взаимосвязь поколений, важность влияния знаний об исторических фактах на события будущего, представлено обоснование значимости воспитания и развития женской духовности в обществе.
Культурная идентичность, самобытность, духовность, исторический факт, религия, мировоззрение, государство
Короткий адрес: https://sciup.org/149145007
IDR: 149145007 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2024.4.30
Текст научной статьи Женская духовность в культурной идентичности России
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Великий Новгород, Россия, ,
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Veliky Novgorod, Russia, ,
Помимо прочего, женская духовность имеет неразрывную связь с природой и окружающей средой; во многих древних и современных культурах образ женщины ассоциируется с землей и естественными циклами жизни. Однако следует отметить, что роль женской духовности в формировании традиционных ценностей может быть различной в разных культурах и обществах. В некоторых культурах женщины имеют ограниченный доступ к образованию и ресурсам, что может снижать их способность влиять на формирование ценностей общества. Также существуют культуры, где женщины занимают лидирующие позиции в управленческой среде, но при этом традиционное понятие феминности в таком обществе оказывается деформированным.
Для того чтобы рассмотреть концептуальное ядро понятия «женская духовность» и определить его сущностные черты в контексте формирования аксиологических основ российского общества, требуется понять, что именно следует называть духовностью в принципе. Категория «духовность» в современной философии, психологии, культурологии и иных областях гуманитарного знания является одной из наиболее размытых, противоречивых и сложных.
Категории «дух», «душа», «духовность» волновали философов с древности: трактаты на эту тематику можно найти среди трудов Аристотеля, Платона, у известнейших церковных деятелей и теологов Августина, Ф. Аквинского, у исследователей последующих эпох – Р. Декарта, Дж. Локка, И. Канта (Кожина, 2001: 44). Европейская философская мысль Нового и Новейшего времени свелась в результате научных изысканий к тому, что духовность необходимо понимать с позиций трех измерений – ума, чувства и воли.
Носители религиозного сознания ограничивают духовность исключительно проявлением в человеке высшей Божественной реальности, вне приобщения к которой он априори не может считаться духовным. Подобные интерпретации духовности А.В. Иванов и С.М. Журавлева именуют «религиозно-культурологическим и религиозно-философским креном»; духовность, по их мнению, нельзя сковывать рамками конфессии, ведь в таком случае отношение к этой категории со стороны светского сообщества будет явно негативным (2021: 15). В связи с этим в отечественной и зарубежной науке предпринимаются многочисленные попытки обозначить границы понятия «духовность» в отрыве от религиозных дефиниций. Е.Д. Руткевич говорит о том, что в глобализованном обществе получает популярность «духовность никаких» – т. е. лиц, которые отказываются позиционировать себя как личность в рамках религиозной этиологии (2020: 31).
Сопоставительный анализ западных и российских исследований в области духовности позволяет сказать, что в западной философской традиции духовность является понятием, отождествляемым с религиозностью и даже с «мистической настроенностью» (Иванов, Журавлева, 2021: 16), тогда как в отечественном научном и обиходном сознании данное понятие более тесно сопряжено с категориями нравственности и морали (хотя религиозный компонент духовности также остается значимым).
Обзор современных литературных источников и публикаций в периодических изданиях позволяет прийти к выводу, что проще всего духовность определять посредством отталкивания от обратного – давая определение бездуховности. А.В. Иванов и С.М. Журавлева, например, указывают на наличие в российском обществе индикаторов бездуховности (кризиса духовности), так как позиции эталонов, «человеческих образцов» и ролевых моделей все чаще занимают «удачливые предприниматели… крикливые шоумены и эпатажные блогеры», сознательно и демонстративно отвергающие духовное начало в человеке (2021: 15).
Нельзя сказать, что духовность соотносится исключительно со сферой нематериального: одухотворенный человек, безусловно, преображает и материальный мир вокруг себя. Кроме того, следует согласиться с К.А. Бирюковой в том, что границы между духовной и материальной сферами бытия условны и относительны: «станок материален, но он был бы только грудой металлолома, если бы в нем не были воплощены мысль конструктора, таланты, навыки рабочих, изготовивших его» (2016: 133).
Л.А. Кожина говорит о том, что духовность есть трехкомпонентная ментальная формация, состоящая из познавательного, нравственного и эстетического компонентов (2001: 46). Кроме того, духовность есть устремленность человека к ценностям, выходящим за пределы витальноутилитарных потребностей. В ряде источников данные ценности именуются «высшими»: добро, красота, истина. Таким образом, в рамках настоящей статьи под духовностью мы будем понимать приобщение к культуре, ее созидание, ценностное отношение к себе, окружающим людям и среде обитания, стремление к порождению конструктивных, положительных ценностей.
Особый интерес представляет то, каким образом духовность преподносится с позиции гендерно-культурологического аспекта, и то, целесообразно ли в принципе оперировать такими оппозициями, как мужская духовность / женская духовность, феминная/маскулинная духовность.
По нашему мнению, понятия феминности и маскулинности неразрывно связаны с набором ценностных установок и черт, присущих одной из двух гендерных позиций. Любая духовная и культурная среда будет сочетать в себе черты феминной и маскулинной духовности и аксиологии. Это, впрочем, вполне логично, ведь традиционно феминные/маскулинные черты и ценности начали формироваться еще в древнейших сообществах, которые в эволюционном процессе пришли к разделению обязательств и прав на основе биологических различий и возможностей организмов мужчин и женщин (Дежина, 2008: 161).
Конструкты феминности и маскулинности – это универсальная бинарная дихотомия, которая является архетипической, она присуща любой мифологии, фольклору, литературе, а ее последствия и укорененность в массовом сознании мы наблюдаем до сих пор. Символика мужского и женского пронизывает всю культуру нашего общества. Т.П. Дежина указывает: «человек как бы набрасывает “схему” “мужской/женский” на все существующие в мире предметы и явления» посредством построения «аналогии между солнцем и луной, ночью и днем, добротой и злом, силой и слабостью, устойчивостью и непостоянством» (2008: 162).
По мнению Л.В. Евсеевой, «метафорическое и символическое бытие фемининности и маскулинности утвердилось как один из смыслообразующих элементов культуры, обрело статус конструктов культуры, обусловило дальнейший процесс инкультурации индивидов» (2014: 241). В связи с этим исследования женской субъектности, потенциала и статуса женщины, женской духовности, а также изменений в ней представляются нам чрезвычайно важными. Женская духовность пронизывает всю жизнь, рутинную, ежедневную и непосредственную активность людей.
Феминность была исконно присуща славянской культуре, а женская духовность представляет собой неотъемлемый компонент аксиологических установок современного российского общества. Феминность русской культуры может рассматриваться в различных контекстах и иметь разные значения в зависимости от времени и места. В историческом контексте феминность в русской культуре может быть связана с традиционной ролью женщины как домашней хранительницы, матери и жены. В русской литературе, например, женщины часто изображались как кроткие, нежные и верные своим мужьям, которые жертвуют своим счастьем и желаниями ради семьи.
Сегодня женщина, будучи транслятором и ретранслятором особой, женской, духовности, играет одну из ключевых ролей в сохранении позитивных ценностей социума России. Роль женщины в формировании ценностных основ общества является важной и многогранной. Женщины выполняют главную функцию в семье, воспитывая детей и передавая им ценности, которые служат основой их мировоззрения и поведения. Они также выступают активными участниками социальной жизни, внося свой вклад в создание и развитие культурных и общественных институтов, формирующих ценности российского общества в целом. Женская духовность в нашей культуре является результатом многовекового духовного опыта, передачи знаний и культурных традиций из поколения в поколение; она свидетельствует о духовной связи между настоящим и будущим.
Как уже указывалось, духовность неразрывно связывается с нравственностью и моралью, и в данном аспекте именно женская духовность обеспечивает стабильную межпоколенческую передачу нравственной базы российской культуры. Следует отметить, что система нравственного воспитания – как на Руси, так и сегодня – реализуется в первую очередь в семейном контексте. Семья является первичным коллективом, в котором протекают все бытовые, досуговые, рабочие, социальные процессы. В семье осуществляется не только воспроизводство населения, но и подготовка следующего поколения к самостоятельной жизни (Шабанова, 2020: 116). Семья воспринималась и продолжает восприниматься в качестве материальной и нравственной основы правильного образа жизни.
Индикаторы значимости женской духовности и связанного с ней символизма можно найти во многих знаковых артефактах культуры славян. История Российского государства обнаруживает множество влиятельных женщин – нам известны подвиги княгини Ольги, Марфы Посадницы, героически защищавшей Новгород. Символ матрешки, согласно многим теориям, воплощает в себе аллегорическое изображение плодородия и женского начала. О женской детерминанте в русской церковной культуре свидетельствуют образы Девы Марии, Софии – премудрости Божьей.
На всех этапах развития философии Россия неизменно сравнивалась с женщиной, а феминность считалась определяющей чертой российской культуры. Иногда феминные черты изображались негативно: страна представлялась как слабая, пассивная и иррациональная (западничество); иногда – позитивно: духовной, питающей своих детей, нравственно мощной (славянофильство). Сегодня мы наблюдаем возврат к традиционному – позитивному – пониманию феминности российской культуры.
Осмысление нации посредством женской духовности характерно не только для нашей страны. В качестве примера можно привести покровительницу Польши Деву Марию, фигуру мученицы Полонии; Дева Мария также является ключевым символом духовности в таких странах, как Италия, Испания, Португалия, в государствах Латинской Америки; Финляндия представлена фигурой молодой девушки (Suomi-neito), которая сосуществует параллельно с материнским образом Финляндии (Евсеева, 2014: 243).
В советский период женская духовность претерпела множество трансформаций: женщины под влиянием процессов интернационализма и эмансипации выступали в роли производителей, тружениц, работниц и руководителей, сохраняя при этом «нагрузку» матерей и жен. Эталонные образы женщин в советский период также изменились, стали более маскулинными и обрели черты противоположного гендера. В искусстве сталинской эпохи, например, одним из наиболее частотных стал образ Великой Матери. Таким образом был создан новый идеал женской духовности: с одной стороны, жертвенных и мужественных гражданок, промышленных работниц, с другой – матерей, жен, сестер, представительниц своего пола. Функция женской духовности как ретранслятора ценностных установок и формирования нравственного ядра будущих поколений была сохранена, но к ней были добавлены иные общественно значимые функции (в итоге речь шла не только о матери, но и о героине). Л.В. Евсеева говорит, что на данном этапе была сформирована особая «новая женственность»; тем не менее материнский архетип не утратил релевантности (2014: 243).
Таким образом, даже краткий исторический анализ проблемы женской духовности на пространстве нашего государства показывает, что именно женщине отводится роль воспитания общества и поддержания уровня нравственности и морали в нем. Т.К. Ростовская и А.М. Егорычев утверждают, что «женщина и русский социум есть органичное единство», это «единство в течение многих тысячелетий творило уникальный жизненный стиль русского мира, определяемый системой взаимоотношений мужчины и женщины, семейным укладом, общественными нормами» (2016: 34).
Сегодня, в условиях непрекращающихся попыток формирования новой системы социальных отношений, роль женской духовности, безусловно, возрастает. Несмотря на то что часть функций по воспитанию нравственности и духовности граждан делегируется разного рода образовательным институциям, семья остается важнейшим инструментом и средой социализации личности. Как и прежде, наиболее близкие духовные связи устанавливаются между ребенком и матерью1. Не подлежит сомнению тот факт, что материнское воспитание должно не только обеспечивать комфортное физиологическое существование ребенка, но и развивать в нем духовнонравственные качества.
В связи с изложенным следует отметить, что официальная политика, проводимая в отношении женского населения, должна способствовать развитию у женщин компетенций и повышению объема знаний педагогического, психологического, культурологического, идеологического характера. Самообразование посредством средств массовой информации есть, по мнению Г.В. Гнайко-вой, «случайные “знания”», которые «могут лишь сформировать у молодых мам иллюзию психологической грамотности» (2016: 526).
Требуется формировать в обществе и особенно среди женщин педагогическую культуру, только так социум может активировать функцию ретранслятора духовных ценностей. Т.А. Куликова также формулирует тезис о значимости педагогической культуры родителей, относя ее к компонентам общей духовной культуры, «в которой воплощен накопленный человеческий опыт воспитания детей в семье»2. Среди примеров целенаправленных усилий по формированию педагогической культуры женщин можно назвать, например, программу «Просвещенное материнство», чьей целью выступает ориентация современной молодой семьи на осознанный подход к материнству и отцовству (Бирюкова, 2016). Разработана, помимо прочего, программа «Познаю себя», которая «способствует возрождению культурной традиции пестования и обеспечивает ценностно-смысловое содержание развития ребенка» (Гнайкова, 2016: 526).
В заключение следует отметить: представления об эталонной женской духовности трансформировались по мере изменения роли женщины в обществе. Сейчас, безусловно, женская духовность также меняется, а «идеалы маскулинности и феминности сегодня, как никогда, противоречивы» (Дежина, 2008: 164). Идеал «вечной женственности» постепенно утрачивает актуальность; женщина может быть сильной, энергичной и не соглашаться с традиционными рамками, постулирующими пассивность и зависимость (Хоч, Штепа, 2005: 132). Данные тенденции и сдвиги в гендерных ролях обусловлены как глобализационными процессами, так и естественным развитием социальных структур. Противиться и отвергать эти тенденции вряд ли требуется, ведь концептуальное ядро женской духовности, пожалуй, не способно измениться, как и сущность ее важнейшей функции – нравственно-духовного воспитания нового поколения.
Список литературы Женская духовность в культурной идентичности России
- Бирюкова Е.А. О значении понятия "культура" // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. № 12-4. С. 131-134. EDN: XECEBP
- Гнайкова Г.В. Аспекты материнского воспитания в современном образовательном пространстве // Воспитание и обучение детей младшего возраста. 2016. № 5. С. 524-528. EDN: WFQFLP
- Дежина Т.П. К вопросу о мужественности и женственности // Система ценностей современного общества. 2008. № 3. С. 160-165. EDN: PZUAOX
- Евсеева Л.В. Специфика репрезентации образа женщины в культуре // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2014. № 2 (85). С. 240-245. EDN: RXABHL
- Иванов А.В., Журавлева С.М. Духовность и ее атрибуты // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2021. № 57. С. 14-23. DOI: 10.31773/2078-1768-2021-57-14-23 EDN: UDBBUF
- Кожина Л.А. Психологические подходы к определению понятия "духовность" // Вестник Тамбовского университета. Сер.: Гуманитарные науки. 2001. № 3-4. С. 44-46. EDN: NUCARH
- Ростовская Т.К., Егорычев А.М. Роль русской женщины в развитии социальной сферы государства // Человек в мире культуры. 2016. № 2. С. 31-38. EDN: WKYPJT
- Руткевич Е.Д. Религия, неверие и духовность "никаких": проблемы определения и изучения // Научный результат. Социология и управление. 2020. Т. 6, № 3. С. 29-48. DOI: 10.18413/2408-9338-2020-6-3-0-2 EDN: UKFNLZ
- Хоч Н.С., Штепа Н.А. Молодое поколение России: особенности гендерных трансформаций личности мужчин и женщин // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2005. № 1. С. 131-134. EDN: JWKUAX
- Шабанова М.В. Девочка - невеста - мать: структура гендерной идентичности в этнической культуре русских // Сервис Plus. 2020. Т. 14, № 4. С. 115-122. DOI: 10.24411/2413-693X-2020-10413 EDN: PDGHOD