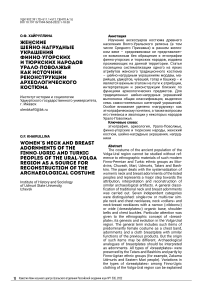Женские шейно-нагрудные украшения финно-угорских и тюркских народов Урало-Поволжья как источник реконструкции археологического костюма
Автор: Хайруллина О.Ф.
Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc
Статья в выпуске: 1 (53), 2022 года.
Бесплатный доступ
Изучение аксессуаров костюма древнего населения Волго-Уральского региона (в том числе Среднего Прикамья) в раннем железном веке - средневековье не представляется возможным без обращения к этнографии финно-угорских и тюркских народов, издавна проживающих на данной территории. Статья посвящена систематизации одного из ярких атрибутов женского традиционного костюма - шейно-нагрудным украшениям мордвы, марийцев, удмуртов, чувашей, татар и башкир - и является важным этапом на пути к атрибуции, интерпретации и реконструкции близких по функциям археологических предметов. Для традиционных шейно-нагрудных украшений выполнена общая классификация, выделено семь самостоятельных категорий украшений. Особое внимание уделено «нагруднику» как этнографическому понятию, а также вопросам его генезиса и эволюции у некоторых народов Урало-Поволжья.
Этнография, археология, урало-поволжье, финно-угорские и тюркские народы, женский костюм, шейно-нагрудные украшения, нагрудники
Короткий адрес: https://sciup.org/149139991
IDR: 149139991 | УДК: 902:391.7[(=511.1+512.1)](470.4/.5)
Текст научной статьи Женские шейно-нагрудные украшения финно-угорских и тюркских народов Урало-Поволжья как источник реконструкции археологического костюма
-
• Введение
При изучении одежды и аксессуаров населения раннего железного века - средневековья Вол-го-Уралья 1 археологам приходится обращаться к этнографии современных финно-угорских и тюркских народов региона порой в качестве единственного источника реконструкции археологического костюма. Возможность такого сопоставления отчасти объясняется схожими условиями обитания древних популяций и современных этносов, близостью их хозяйственно-культурных типов, а также исторически сложившимися этнокультурными и генетическими связями. Последние на сегодняшний день убедительнее всего реконструируются с помощью лингвистики, выводы которой указывают на явное преобладание языковых предков финно-угорских народов в лесной полосе Восточной Европы как минимум в I тыс. до н.э. – I тыс. н. э. [1, с. 22 – 63].
Использование этнографических материалов в археологических исследованиях без опоры на другие источники сопряжено с известными рисками. Однако именно «живая» культура способна дать ответы на многие вопросы, которые возникают при работе с археологическими предметами. В этой связи чрезвычайно важным становится ознакомление со всем спектром традиционных шейно-нагрудных украшений, истоки которых могут быть прослежены в более ранних источниках, в том числе археологических. Общие категории и типы таких украшений у разных народов, возможно, объясняются существованием в прошлом неких общих прототипов. Особого внимания заслуживают наблюдения этнографов о способах ношения украшений, их соотношении с одеждой, а также выводы о происхождении и эволюции данных аксессуаров костюма. Семиотическая природа вещей со всеми вытекающими из нее знаковыми функциями [2, С. 75 – 76, 79], очевидно, была присуща и археологическим украшениям. Раскрыть ее вряд ли получится без обращения к «живым» этнографическим фактам. Но весь «потенциал» этнографии для атрибуции, интерпретации и реконструкции археологического материала на этом не исчерпывается. Следует, однако, помнить о границах между «живой» и «мертвой» культурой: прежде всего, археологический и этнографический костюмы разделяют сотни, а то и тысячи лет. В этом случае реконструированная древняя культура окажется лишь абстрактной моделью прошлого, приближенной к реальности насколько это возможно.
Цель работы - систематизация шейно-нагрудных украшений финно-угров и тюрков Ура-ло-Поволжья – мордвы, марийцев, удмуртов, чувашей, татар, башкир 2 - как один из этапов на пути к осмыслению близких по функциям археологических предметов. Выбор этнографического материала обусловлен в первую очередь научными интересами автора, которые связаны с реконструкцией женского археологического костюма населения Среднего Прикамья III - V вв. н. э. (и шире - синхронных лесных культур Волго-Уралья). Кроме того, перечисленные выше народы с давних времен проживали в едином экологическом пространстве, объединены общим историческим прошлым и общностью элементов культуры [3, с. 5 – 11; 4, s. 8]. Их национальные костюмы, включая украшения, на сегодняшний день лучше всего освещены в этнографической литературе. В качестве сопоставительного материала также заслуживают внимания исследования по украшениям ряда народов Сибири [5].
-
• Методика исследования
В публикациях, посвященных рассматриваемой проблематике, деление всех украшений обычно производится по способу ношения; шейно-нагрудные выделяются в особый отдел с подразделением на группы по месту фиксации на теле – шейные, шейно-нагрудные, нагрудные, чересплечные украшения [6, с. 23 – 25, 211, 212, прил. I; 7, с. 17]. Данный принцип положен в основу настоящего исследования (таблица). Далее весь материал был разделен на категории (с конкретизацией для некоторых украшений на виды и подвиды) по технике изготовления. Способы создания украшений были различны: путем нанизывания материалов на нить, проволоку, конский волос, плетение, нашивание на основу – холст, кожу, луб [8, с. 3]; вещи на матерчатой основе вышивались либо украшались аппликацией и т.д. В соответствии с целью работы основное внимание уделено более высоким уровням классификации украшений, нежели их типам / подтипам. Также в общую таблицу введены еще два признака, связанные с покроем одежды (в частности, с устройством ворота рубахи) и украшениями, - «архаичный» и «модернизированный» крой (таблица). Для первого характерно использование белого домотканого холста, туникообразный крой первого или второго подтипов рубах, по Б.А. Куфтину, простой глубокий грудной разрез, который необходимо чем-то прикрыть или зацепить, использование вышивки; для второго применялась пестрядь или фабричная ткань, крой рубахи модифицирован (проймы, кокетка на груди, оборки на подоле и т.д.), нагрудный разрез с планкой и (или) застежкой на пуговицах, имеет невысокий воротник, вместо вышивки использовались ленты, позумент и т.д.
-
• Результаты и их обсуждение
Шейные украшения фиксировались вокруг шеи в виде одинарных или многорядовых низок из различных декоративных материалов. Не-
Таблица
Классификация традиционных шейно-нагрудных украшений финно-угорских и тюркских народов Урало-Поволжья [7, 9, 10 – 24, 26 – 29]
Table
Classification of traditional neck and breast adornments of the Finno-Ugric and Turkic peoples of the Ural-Volga region [7, 9, 10 – 24, 26 – 29]
|
Этнос (субэтнос и этнографические / этнотерриториальные группы) |
о Q О Q |
О g о m Q-5 v Q 3 0) Т < о 5 |
Шейно-нагрудные украшения |
< о Q О |
||||||||||
|
Шейные |
Шейно-нагрудные |
Чересплечные |
Нагрудные |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5а |
5б |
6 |
7 |
|||||||
|
I |
II |
|||||||||||||
|
А |
B |
а |
б |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Завятские удмурты |
||||||||||||||
|
Северные (нижнечепецкие) ватка |
||||||||||||||
|
Северные (верхнечепецкие) ватка |
||||||||||||||
|
Срединные калмезы |
||||||||||||||
|
Срединные верхнеижско-шарканские |
||||||||||||||
|
Собственно-южные среднеижско-левобережные |
||||||||||||||
|
Собственно-южные алнашско-киясовские |
||||||||||||||
|
Собственноюжные граховско-южнокизнерские |
||||||||||||||
|
Собственно-южные северно-кизнерские |
||||||||||||||
|
Собственно-южные водзимоньинские |
||||||||||||||
|
Собственноюжные можгинско-малопургинские |
||||||||||||||
|
Собственно-южные бавлинские |
||||||||||||||
|
Собственно-южные закамские |
||||||||||||||
|
Бесермяне |
||||||||||||||
|
Горные марийцы |
||||||||||||||
|
Луговые уржумско-сернурские |
||||||||||||||
|
Луговые звениговско-моркинские |
||||||||||||||
|
Луговые йошкар-олинские |
||||||||||||||
|
Луговые северо-западные |
||||||||||||||
|
Восточные марийцы |
||||||||||||||
|
Мордва-эрзя восточная группа |
||||||||||||||
|
Мордва-эрзя северная группа |
||||||||||||||
|
Мордва-эрзя терюшевская группа |
||||||||||||||
Окончание таблицы
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Мордва-эрзя северозападная группа |
||||||||||||||
|
Мордва-эрзя городищенская группа |
||||||||||||||
|
Мордва-эрзя кузнецкая группа |
||||||||||||||
|
Мордва-эрзя заволжская группа |
||||||||||||||
|
Мордва-мокша северо-западная группа |
||||||||||||||
|
Мордва-мокша центральная группа |
||||||||||||||
|
Мордва-мокша южная группа |
||||||||||||||
|
Мордва-мокша юго-западная группа |
||||||||||||||
|
Чуваши верховые (вирьялы) |
||||||||||||||
|
Чуваши средненизовые (анат-енчи) |
||||||||||||||
|
Чуваши низовые (анатри) |
||||||||||||||
|
Чуваши (ЭТГ: приволжские, закамские и т.д.) |
||||||||||||||
|
Татары-мишари темниковско-азеевские |
||||||||||||||
|
Татары-мишари сергачские |
||||||||||||||
|
Татары казанско-татарский комплекс |
||||||||||||||
|
Татары-кряшены заказанско-западно-закамские |
||||||||||||||
|
Татары-кряшены елабужские |
||||||||||||||
|
Татары-кряшены молькеевские |
||||||||||||||
|
Татары зауральские |
||||||||||||||
|
Башкиры северо-западные |
||||||||||||||
|
Башкиры северо-восточные |
||||||||||||||
|
Башкиры югозападные |
||||||||||||||
|
Башкиры юговосточные |
||||||||||||||
|
Башкиры центральные |
||||||||||||||
|
Башкиры восточные (зауральские) |
||||||||||||||
|
Башкиры самаро-иргизские |
Примечание.1, 3 – ожерелья в одну или несколько отдельных низок; могут быть сплетены вместе; 2 – ожерелья, нашитые на основу (ткань/кожа); форма различна: прямоугольные или полуовальные полосы различной ширины («воротники»); 4 – ожерелья, нашитые на узкую основу (ткань/кожа) в виде ленты либо сплетенные в виде ленты, шнура; 5 – ожерелья, сплетенные или созданные путем нашивания на широкий и длинный кусок ткани / кожи / луба украшений; форма различна – округлые, подпрямоугольные, подовальные, полукруглые; покрыва- ют только верхнюю часть груди, доходят до плеч или опускаются ниже живота; виды: а) цельнокроенные (I – закрывают переднюю часть шеи и грудной клетки (так называемые «нагрудники»: IA – украшения, IB – матерчатые нагрудники), II – покрывают шею, грудь, плечи и спину (так называемые оплечья, пелерины); б) комбинация из нескольких отдельных частей (сшитых или несшитых вместе); 6 – перевязи, виды: а) в виде одинарной широкой / узкой полосы; б) в виде двух полос, скрещенных вместе на спине и груди или только на спине; 7 – нагрудные украшения (фибулы и броши).
Note. 1, 3 – necklaces in one or more separate rows; can be woven together; 2 - necklaces sewn on the base (fabric, leather); the shape is different; rectangular or semi-oval stripes of different widths («collars»); 4 – necklaces sewn on the base (fabric, leather) in the form of a ribbon, or woven in the form of a ribbon, a cord; 5 – necklaces woven or created by sewing adornments on a wide and long piece of fabric / skin / lube; the shape is different – rounded, semi-rectangular, semi-oval, semi-round; cover only the upper part of the chest, reach the shoulders or descend below the abdomen; types: a) one-piece (I – cover the front of the neck and breast (so-called «breastplates»; IA – adornments, IB – cloth breastplates), II – cover the neck, chest, shoulders and back (so-called shoulder straps, pelerines); b) a combination of several separate parts (sewn together and not sewn); 6 – baldrics, types: a) in the form of a single wide / narrow strip; b) in the form of two stripes crossed together on the back and on the chest or only on the back; 7 – breast adornments (fibulae and brooches).
сколько таких низок нашивались на основу из ткани / кожи в виде «воротников» прямоугольной или полуовальной («месяцевидной») формы. Обе категории выделены Н.И. Гаген-Торн [9, с. 91] и достаточно широко представлены у всех рассматриваемых этносов (субэтносов и их отдельных этнографических подразделений) (см. таблица, № 1, 2): например, «чыртывесь / чырты-керттэт», «чыртыул», «йырйыл», «зака / ошет» южных удмуртов [10, рис. 88; 11, рис. 126, 220, 223, 257, 258], «качек» и «лага» бесермян [12, с. 103], «шер» (бусы), «оксан ш ӱ äш», «ш ӱ шер», «ырес кыл», «ш ӱ йыр», «яга» марийцев [13, с. 39, 40, 60, 61, 82, 135, 262, 263, 270, 302; 14, с. 201, 202], «кирь-гава», «снизка / наряд», «борок», «гагатка», «лыи-нимкат» мордвы-эрзи [15, с. 120; 16, с. 65, 75, 84, 123, 157, рис. 39, 48, 68, 70; 17, с. 208], «каштас», «кргаежава», «тифкс», «кргавакс», «цеповка» мордвы-мокши [16, с. 243, 258, 350, 362, 363, рис. 42ж, 47з; 17, с. 264], «м ӑ й ҫ ыххи», « ҫ уха» и «тенкел-л ӗ ҫ уха», «тенкел ӗ м ӑ йа» чувашей [18, с. 262, 264, 266, 267; 19, с. 98, 99, 646, 647, прил. IV, рис. 8а–е, 9а, 9в–д], «якалык», «муенса» / «тамакса» татар [7, с. 42, 43, табл. XI, 5; 20, с. 139, 159 – 161]. Ожерелья из бус, кораллов, стекла, монет и блях, в том числе в виде воротников, имелись у башкир [21, с. 166 – 170].
Для определенных этносов, например, для некоторых групп удмуртов, простые шейные ожерелья из бус и иных материалов, по-видимо-му, были не столь характерны, как, например, для мордвы [15, с. 122]. Украшения в виде «воротников», по Н.И. Гаген-Торн, использовались для прикрытия ворота рубахи второго подтипа, которая носилась без нагрудной застежки [9, с. 91].
Наиболее разнообразны шейно-нагрудные украшения, которыми закрывали не только верхнюю часть груди, но также плечи (так называемые оплечья, пелерины), живот. Создавались с помощью различных техник: низание, плетение, нашивание на основу из ткани / кожи декоративных материалов, а также вышивка и аппликация. В данной группе выделяются несколько категорий, среди которых распространены простые ожерелья в виде свободных низок из различных материалов (см. таблица, № 3). Отличались от шейных ожерелий лишь тем, что размещались в области грудной клетки; некоторые из них использовались в качестве тесьмы к кресту. Были известны у различных групп удмуртов [10, с. 55, 85; 11, рис. 187, 222; 22, с. 66, 67], мордвы-эрзи [16, с. 47, 50, 53, 57, 74, 79, 96; 17, с. 181, 208] и мордвы-мокши [15, с. 122, 124; 16, с. 198, 199, 243; 17, с. 264, 312], марийцев [13, с. 40, 244], чу- вашей [19, с. 99, 100, 647, прил. IV, рис. 9в – д], татар [23, с. 219 – 222] и башкир [21, с. 166 – 170]. В ряду данных украшений вызывает интерес схожее с археологическими материалами проволочное ожерелье мокши заволжской группы «сият» / «сия» с витыми спиралями из проволоки, имитирующими бронзовые пронизки [16, с. 157, рис. 98 – 101; 17, с. 246, ил. 176].
Иной конструкции ожерелья в виде узких тканых / кожаных / плетеных лент или шнуров, на которые нашивались монеты, бисер, бусы, раковины каури и т.д.; концы ленты пришивались либо сводились вместе с помощью низки бус / кожаного шнурка, либо оставались несшитыми (см. таблица, № 4): «гадигы», «быро», «чыртывесь» / «конъдоновесъ» удмуртов [10, с. 149, рис. 77, 85; 11, рис. 95; 24, с. 50], «гайтан» / «хрест ведьме» / «лента хрез» мордвы-эрзи [16, с. 47, 54, 55, 75, 79, 157; 17, с. 104, 208, 223], «горожонь крганя», «горожонь крескиле», «шафтома», «дракама» (гайтан), «ярмак пильс» мордвы-мокши [8, илл. 31 – 36; 15, с. 122, 124, 125; 16, с. 198, 221, 263; 17, с. 264, 393], «тäнгäн кайтан», «цепошка», «ший аршаш» марийцев [13, с. 40, 60, 61, 64, 65, 258, 269, 270], «чепчушка», «ама», «х ӗ рес ҫ акки» / «х ӗ рес кантри» чувашей [18, с. 262 – 264; 19, с. 100, 101, 645, 647, прил. IV, рис. 7б, 9е, 9ж, 10е]. Чаще такие предметы использовались в качестве подвесок к кресту / иконе, хотя происхождение их различно. Например, ярмак пильс («серьги из денег») мокши являлось головным украшением (височными подвесками), которое в начале XIX в. стали носить на груди [15, с. 122 – 124]. Бисерные аналоги известны у южных русских (с подвешенным крестом / иконкой [25, с. 733]). Украшения хантов в виде узкой ленты со свободно свисающими концами происходят от расшитых воротников и грудных разрезов женских рубах [5, с. 20, 86, рис. 3, 5].
Следующая большая категория – нагрудные ожерелья, сплетенные из бисера, бус или созданные путем нашивания на широкий и длинный кусок ткани / кожи / луба прямоугольной, округлой, подовальной формы различных декоративных материалов; закрывали только верхнюю часть груди, доходили до плеч или опускались ниже живота. Выделяются два вида таких украшений (см. таблица): 5а) цельнокро-енные и 5б) комбинированные (из нескольких частей, сшитых или несшитых друг с другом). Среди цельнокроенных ожерелий (5а) известны: I) те, что закрывают только переднюю часть шеи и грудной клетки – так называемые «нагрудники» (их подвиды – собственно украшения (IA)
и матерчатые нагрудники (IB)), II) те, что охватывают практически полностью шею, грудь, плечи и спину (оплечья, пелерины). Цельнокроенные украшения (5аIA) типичны для тюрков Урало-По-волжья – татар (пирта / фирта, пету, к ө меш к ү- кр ә к, т ү шлек, сакал, тамакса, яга или селт ә р [20, с. 159 – 161; 23, с. 223 – 228]) и башкир (селт ә р, ҫ а ҡ ал, / hа ҡ ал, я ғ а, муйынса, башки ҙ е ү , алми ҙ е ү и др. [21, с. 103 – 116]). Наряду с комбинированными (5б) украшениями они известны у различных групп удмуртов (чертыкыш, галэс и чигвесь, уксё тйрлык, зака / ошет и сырга и др.) [10, с. 149, 168 – 170, рис. 71, 88, 89; 11, рис. 43 – 46, 123, 187, 202, 212, 220, 222, 256, 258; 24, с. 31, 59, 80, 85, 86, 95, 103, 104, 108, 109, 117] и марийцев (в виде вертикальных узких / широких полос подпрямоугольной или закругленной снизу формы – ама, аршаш, ш ӱ шер, о ҥ йолва, о ҥ мучко, пийылме, ш ӱ äкш, сога и др. [13, с. 82, 134, 136, 137, 180, 210, 211, 238, 244, 260 – 263, 270; 14, с. 206, 207]). Реже они встречались у чувашей (ама, м ӑ йа, ш ӳ лкеме [19, с. 103, 104, 648, прил. IV, рис. 10д, ж]) и мордвы-эрзи (бисюр коргалкст, колодка / камышка [16, с. 96, 100, 107, 156, 185]). Некоторые из них имитировали нагрудную вышивку и грудной разрез рубахи [8, с. 9; 13, с. 260 – 263] либо неширокой полосой (например, в составе комбинированного украшения) прикрывали грудной разрез платья-рубашки [9, с. 94, 95; 10, с. 149, рис. 72; 11, рис. 43 – 46, 127, 187, 222; 13, с. 136, 238; 24, с. 31].
Рассматриваемые «нагрудники» типичны для финно-угорских и тюркских народов Урало-По-волжья [9, с. 91 – 97; 26, с. 217]. Их общий признак – чешуеобразно нашитые монеты, сочетавшиеся с раковинами каури, бусами и бисером, – свидетельствует о более позднем оформлении таких роскошных изделий – в эпоху стабилизации этнической карты региона и развитого денежного обращения [26, с. 217, 218]. Основная их функция, очевидно, заключалась в демонстрации статуса и богатства своих владельцев [4, s. 14; 6, с. 124 – 126; 26, с. 218], защите от сглаза [4, s. 28]; прикрытие грудного разреза рубахи отходит на второй план.
Второй подвид цельнокроенных ожерелий (см. таблица, № 5аII) – оплечья и пелерины (полукруглые и равные по ширине, сплетены из бисера или на тканевой основе с монетами, каури, бисером) – плотно облегали шею и спускались на плечи и грудь. Близки шейным «воротникам» и выполняли ту же функцию [9, с. 91, 92]. Встречались чаще у мордвы (цифкс / тифкс, кргань-пирф / кргавакс, комбоне, бояравань крганя, кичкор кргане [8, ил. 25, 26, 39, 41; 15, с. 119; 16, с. 123, 196, 198, 221, 243, 263, рис. 68, 70]) или чувашей ( ҫ уха [19, с. 99, 650, прил. IV, рис. 9б]). Некоторую близость к ним обнаруживают ожерелья ш ӱ шер луговых марийцев северо-западной группы [13, с. 270], украшения южных великорусов и мещёры («жерёлок»), украинцев [9, с. 95, 96], а также представителей угорских народов – восточных и северных хантов, манси [5, с. 19 – 23, 86, рис. 2].
Выделяется еще один интересный вид украшений – матерчатые вышитые или аппликатив-ные нагрудники (см. таблица, № 5аIВ), – которые надевались таким же способом, как и монетные изделия – поверх рубахи второго подтипа [9, с. 84]. Функционально близки и к украшениям, и к элементам одежды. Кроме того, у некоторых этносов (например, татар и северных удмуртов) они являлись обязательным атрибутом женского костюма [7, с. 80; 10, с. 32, 34; 22, с. 65]. Широко известны среди тюрков Волго-Уралья – татар (изү, алынча) и башкир (иҙеү, ука иҙеү, утырма унер, түшелдерек), а также у соседних финно-угорских народов – северных (кабачи и муресазь), завятских, бавлинских и закамских удмуртов (муресазь; мылазьуко / мылко), восточных марийцев (оҥлеведыш / кöкрак) [7, с. 80, табл. XIII, 1; 10, с. 32, 34, 75, 96, 108, 109, 163, 164; 14, с. 205, 206; 23, с. 223 – 229, табл. XXVII, 1, 3; 24, с. 118; 27, с. 157]. Происхождение татарских и башкирских матерчатых нагрудников исследователи ведут от украшения грудного разреза рубахи «изү» / «иҙеү» [7, с. 44, 80; 9, с. 88 – 90; 27, с. 157], а появление их у различных групп удмуртов связывают с влиянием соседних тюркских народов [10, с. 108; 12, с. 46].
Одновременно с аксессуарами, надевавшимися поверх рубахи, существовали нательные нагрудники (повязки), которые являлись частью одежды (см. таблица). Все они выполнены из ткани и украшены вышивкой или аппликацией: «к ү кр ә кч ә », «т ү шелдрек» у татар и башкир, «кăкăрлăх» чувашей, «мырашет» / «мылазькы-шет» закамской и «кыкрак» алнашско-киясов-ской групп южных удмуртов, «муресазь» бе-сермян и «о ҥ леведыш» / «к ӧ крак» у восточных марийцев [9, с. 56, 87; 10, с. 108, 163, 164; 14, с. 162; 20, с. 75, 191; 23, с. 106 – 108; 24, с. 75, 78; 27, с. 155, 156; 28, с. 100 – 102; 29, с. 800].
Все перечисленные виды «нагрудников» Н.И. Гаген-Торн рассматривала в качестве эволюционного ряда одного предмета, связанного с «функцией защиты груди и с грудным разрезом рубашки»: матерчатый вышитый нагрудник – нагрудник, имитирующий ворот рубахи, – кусок материи / кожи, зашитый декоративными материалами; вариативность использования объяснялась способом ношения рубахи [9, с. 86, 90, 91]. Однако под одним и тем же наименованием скрываются три разных аксессуара: нательная повязка, украшение и матерчатый нагрудник, функционально близкий предыдущим изделиям. Кроме того, схема генезиса и эволюции данного предмета абстрактна (создавалась путем анализа материала «целого ряда народностей» [9, с. 91]), но не абсолютна. По данным этнографии, известны примеры генезиса «нагрудников» от украшения ворота рубахи (татарские «из ү » и телеутский «тöштöк» (?) [5, с. 89]), путем расчленения одежды (платья) на отдельные составляющие, в том числе «нагрудники» (как это, например, произошло в конце XIX – начале ХХ в. с кафтанчиками кавказских женщин [30, с. 136 – 146]), посредством соединения отдельных украшений или частей одежды (одна из гипотез появления тунгусских нагрудников [5, с. 89, 90]). Последнее созвучно идее Т.А. Крюковой [31, с. 37], выводившей «кабачи» северных удмуртов от съемного металлического украшения к вышитому съемному нагруднику и затем к нагрудной вышивке на рубахах, что, однако, на современном уровне археологического знания пока не подтверждается. Прямые связи удмуртских «кабачи» и различных археологических «нагрудников» [32, с. 87, 89, 91; 33, с. 161 – 163; 34, с. 668 – 672; 35, с. 87, 88] также пока не доказаны.
Редкость и исключительное оформление приближают такие изделия к украшениям костюма (праздничным или ритуальным), а не к элементам одежды.
По данным этнографии установлено, что все рассматриваемые «нагрудники» являлись, скорее, женским украшением, нежели девичьим. Вопрос о генезисе и его эволюции в Волго-Ура-лье как альтернативы фибуле остается открытым. Показательно, что все виды рассматриваемых изделий сохранились в ареале проживания различных групп татар (за исключением, например, кряшенов) и башкир 3, а также испытавших достаточно сильное влияние соседей-тюрков за-камских удмуртов или, например, восточных марийцев. Вариации использования «нагрудников» в финно-угорском костюме можно объяснить заимствованием 4, хотя самостоятельную линию развития данных аксессуаров, видимо, исключать не следует.
Чересплечные украшения – перевязи (см. таблица, № 6а и 6б) – в виде широкой / относительно узкой ленты, расшитой декоративными материалами, известны у всех рассматриваемых этносов: удмуртов и бесермян (камали, куссильвесь, бутьмар, сюмыс бырттон, силь-сюмыс), марийцев (аршаш / девет / ямга / ва-жмалык), чувашей (тевет), татар и башкир (д әүә т, х ә сит ә , ә м ә й ҙ ек, бутьмар, чапук) [7, с. 45, 46; 10, с. 55, 56, 85, 149, 170; 12, с. 103; 13, с. 45; 14, с. 207; 19, с. 104, 105; 21, с. 113, 114; 23, с. 230 – 238; 24, с. 32, 59, 80, 86, 108, 117, 120 – 123, 170]. Одинарное украшение надевалось в основном на левое плечо под правую руку [9, с. 99]; перевязи из двух узких ремней у некоторых групп луговых мари (аршаш), мордвы-эрзи (ожа нучка) и мордвы-мокши (кичкор / крёскал) носились перекрещенными на спине [13, с. 180, 181; 16, с. 96, 221; 17, с. 136; 36, с. 45].
Татары и башкиры (мусульмане) привязывали к своим украшениям амулеты («бөти»), от которых, очевидно, происходят перевязи [7, с. 46; 9, с. 99 – 101; 12, с. 78; 21, с. 114, 115]. Появление такого украшения у удмуртов и бесермян, а также у восточных марийцев объясняют влиянием соседних тюркских народов [12, с. 78; 14, с. 207; 24, с. 120 – 123]. Иного мнения придерживалась Т.А. Крюкова, считавшая перевязи без амулетов более древним нагрудным украшением, указывающим на давние тесные этнокультурные связи финно-угров и тюрков в Урало-Поволжском регионе [37, с. 122, 123]. Любопытно, что к востоку от Урала данные украшения были зафиксированы у васюганских хантов и забайкальских бурят; последние также использовали перевязь как амулет [5, с. 86, 89].
Нагрудные украшения немногочисленны: броши, застежки «каптырма», а также фибулы (см. таблица, № 7). Броши были известны у татар и башкир в различных вариациях и появились лишь в конце XIX – начале XX в. под влиянием общегородской моды [7, с. 40, 82, таблица XII; 27, с. 152].
Древнейшими нагрудными украшениями – «подковообразными» фибулами в виде согнутого медного кольца с подвижной булавкой [9, с. 77, 78; 15, с. 115, 117] – народы Поволжья скрепляли грудной разрез рубах первого (мордва-эрзя) и второго (мордва-мокша, марийцы, чуваши) подтипов. Для мордовских фибул [9, с. 77 – 82; 15, с. 111 – 117; 16, с. 47, 104; 17, с. 21] характерна простая кольцевая сюльгама (морд. сялгомс – «приколоть») с несомкнутыми концами и подвижной иглой. Она типична для мордвы-эрзи и представляет собой кольцо диаметром 5 – 10 см, концы которого всегда носились вверх, а к низу подвешивались различные подвески из декоративных материалов длиной от 6 – 7 до 20 см. Мокшанская сюльгама имела ту же овальную дугу с подвижной иглой, но концы дуги в виде смыкающихся лопастей были опущены вниз. Лицевая сторона лопастей украшалась геометрическим орнаментом; по краям привешивались колечки для подвесок, форма которых приближалась к трапеции. Размеры такой сюльгамы составляли 7 – 8 х 12 – 15 см, подвески – 11 – 12 см. У различных этнографических групп эрзи и мокши существовали свои вариации декорирования сюльгам. К тому же большие экземпляры с роскошными подвесками носили молодые женщины и девушки, которые прятали саму фибулу под воротником или ожерельем. Некоторые группы мордвы-эрзи скрепляли сверху ворот малой фибулой, а ниже подвешивали украшение с подвесками. А вот пожилые женщины обычно скалывали грудной разрез простыми сюльгамами, без подвесок. Данное украшение входило в состав свадебного приданого. Изготавливали его местные сельские мастерицы.
Простые овальные фибулы луговых мари (уржумско-сернурских) – «ширкама» – также нередко украшались подвесками из различных материалов (праздничный вариант) [6, с. 99 – 114; 13, с. 40, 82, 180; 14, с. 202 – 205; 36, с. 45, рис. 24, фото 9]. У звениговско-моркинской группы «почкама» с трапециевидными лопастями, схожая с мордовскими фибулами, помещалась по центру кожаной подтрапециевидной привески, зашитой монетами, бисером и т.д. У горномарийских женщин она имела прямоугольную форму; во время праздников и обрядов часто надевали две такие застежки. Для восточных марийцев были характерны круглые ажурные «ширкама» диаметром 6 – 7 см без подвесок. Для застегивания ворота марийки использовали несколько сюльгам. Как правило, наибольшее их количество приходилось на возрастные группы девушек и женщин (2 – 4), меньше – для девочек и старух (1 – 2).
Фибулы «почкама» горных и луговых марийцев на кожаной подвеске в процессе длительной эволюции превратились из простой застежки в массивные нагрудные украшения [36, с. 45], которые очень схожи с «нагрудниками». Такие же аксессуары (сурпан ҫакки) бытовали у чувашей [9, с. 83, 84, 97; 18, с. 262, 263, 267, 271, 275, 280, 281; 19, с. 101 – 103] в качестве подвески к полотенчатому головному убору; застежка, аналогичная горномарийской и мордовской (с лопастью), называлась «ҫеҫтенкё». Форма привески, украшенной монетами, бусами и бисером, раковинами каури, различалась у разных групп чувашей: прямоугольная, подтреугольная / трапециевидная, в виде нагрудной подвески с медными цепочками, с ажурной бисерной сетью. Маленькое кольцо «сеҫтенкё» не могло удержать тяжелой привески; укрепляли ее на шее с помощью ремня. Девушки носили одну кожаную подвеску без фибулы (шӳлкеме), тогда как замужние женщины подвешивали оба украшения вместе.
-
• Заключение
Систематизация массива традиционных шейно-нагрудных украшений представительного ряда финно-угорских и тюркских народов Урало-Поволжья позволила выделить несколько общих категорий, среди которых известны: 1) простые в одну-несколько низок шейные и шейно-нагрудные ожерелья; 2) шейные и шейно-нагрудные ожерелья из декоративных материалов, нашитых на узкую (в виде ленты) или широкую (так называемые «нагрудники») органическую основу; 3) чересплечные украшения; 4) нагрудные застежки.
Для каждого из рассматриваемых народов был характерен свой набор украшений (см. таблицу). Достаточно четко прослеживается дифференциация «фибула – нагрудник», выявленная Н.И. Гаген-Торн на этнографических материалах Среднего Поволжья [5]. Кроме того, важным представляется наблюдение И. Лехтинен о дополнении вышивки и украшений: если вышивки было много – ассортимент украшений менее разнообразен, и наоборот [4, s. 7]. Это заметно, например, в костюме северных удмуртов (косинских и слободских ватка), у которых вплоть до наших дней сохранялся архаичный облик одежды [10, с. 23 – 101]. В качестве определенной тенденции также уловима связь богатых шейно-нагрудных ожерелий (роскошных монетных «нагрудников») с модернизированным кроем рубахи (см. таблицу).
Определение времени возникновения каждой категории шейно-нагрудных украшений затруднено на сегодняшний день культурными наслоениями и событиями различных эпох. Отдельные культурно-хронологические связи при условии следования методически выверенным алгоритмам и тщательным наблюдениям за источником, очевидно, могут быть прослежены вглубь веков при анализе более раннего археологического материала. Настоящая работа является первым опытом обобщения традиционных шейно-нагрудных украшений финно-угорских и тюркских народов Урало-Поволжья. Автор ставит перед собой задачу использовать полученные наблюдения для реконструкции женского убора населения Среднего Прикамья III – V вв. н. э.
-
• Литература
-
1. Напольских В.В. Очерки по этнической истории / В.В. Напольских. – Казань: Издательский дом «Казанская недвижимость», 2015. – 648 с.
-
2. Байбурин , А.К. Семиотические аспекты функционирования вещей / А.К. Байбурин // Этнографическое изучение знаковых систем культуры. – Ленинград: Наука, 1989. – С. 63 – 88.
-
3. Кузеев , Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала: Этногенетический взгляд на историю / Р.Г. Кузеев. – Москва: Наука, 1992. 344 с.
-
4. Lehtinen I. Naisten korut Keski-Venäjällä ja Län-si-Siperiassa [Women’s jewellery in Central Russia and Western Siberia]. Museovirasto, 1979. – 209 p.
-
5. Михайлова , Е.А. Съемные украшения народов Сибири / Е.А. Михайлова // Украшения народов Сибири: сборник МАЭ. Т. LI. – Санкт-Петербург: МАЭ РАН, 2006. – С. 12 – 119.
-
6. Заднепровская, А.Ю. Традиционные украшения народов Среднего Поволжья (вторая пол. XIX – первая четв. XX вв.): дис. канд. ист. наук / А.Ю. Заднепровская. – Санкт-Петербург: МАЭ РАН, 1992. – 210 с.
-
7. Суслова , С.В. Женские украшения казанских татар середины ХIХ – начала ХХ в.: историко-этнографическое исследование / С.В. Суслова. – Москва: Наука, 1980. – 123 с.
-
8. Заднепровская , А.Ю. Мордовские украшения: каталог / А.Ю. Заднепровская. – Ленинград: [б. и.], 1988. – 112 с.
-
9. Гаген-Торн , Н.И. Женская одежда народов Поволжья / Н.И. Гаген-Торн. – Чебоксары: Чувашское государственное издательство, 1960. – 234 с.
-
10. Косарева , И.А. Традиционная женская одежда периферийных групп удмуртов (косинской, слободской, кукморской, шошмин-ской, закамской) в конце XIX – начале ХХ в.: монография / И.А. Косарев. – Ижевск: УИИ-ЯЛ УрО РАН, 2000. – 226 с.
-
11. Косарева , И.А. Этнографические группы удмуртского народа (опыт выделения). Ч. 2. Карты. Иллюстрации / И.А. Косарева // Известия общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. – 2017. – Т. 37. – № 2. – 187 с.
-
12. Белицер , В.Н. Народная одежда удмуртов: материалы к этногенезу / В.Н. Белицер. – Москва: Изд-во АН СССР, 1951. – 140 с.
-
13. Молотова , Т.Л. Марийский костюм / Т.Л. Молотова. – Йошкар-Ола: [б.и.], 2020. – 383 с.
-
14. Сепеев , Г.А. Восточные марийцы. Историко-этнографическое исследование материальной культуры (середина XIX – начало ХХ вв.) / Г.А. Сепеев. – Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1975. – 249 с.
-
15. Белицер , В.Н. Народная одежда мордвы / В.Н. Белицер. – Москва: Наука, 1973. – 214 с.
-
16. Прокина , Т.П. Мордовский народный костюм / Т.П. Прокина, М.И. Сурина. – Саранск: Мордовское книжное издательство, 1990. – 382 с.
-
17. Прокина , Т.П. Мордовский народный костюм: [альбом] / Т.П. Прокина. – Саранск: Мордовское книжное издательство, 2007. – 464 с.
-
18. Чуваши / Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; Чувашский государственный институт гуманитарных наук;
-
-
19. Ягафова , Е.А. Формирование и традиционная культура этнотерриториальных групп чувашей в Урало-Поволжье: XVII – начало XX вв.: дис.... докт. ист. наук / Е.А. Ягафова. – Самара: СГПУ, 2004. – 316 с.
-
20. Суслова , С.В. Татарский костюм: историко-этнологическое исследование / С.В. Суслова. – Казань: Татарское книжное изд-во, 2018. – 239 с.
-
21. Шитова, С.Н. Башкирская народная одежда / С.Н. Шитова. – Уфа: Китап, 1995. – 240 с.
-
22. Лебедева , С.Х. Удмурт калык диськут = Удмуртская народная одежда = Udmurt Folk Costume / С.Х. Лебедева. – Ижевск: Удмуртия, 2008. – 204 с.
-
23. Суслова , С.В. Народный костюм татар Поволжья и Урала (середина XIX – начало XX вв.). Историко-этнографический атлас татарского народа / С.В. Суслова, Р.Г. Мухамедова. - Казань: Фэн, 2000. - 312 с.
-
24. Косарева , И.А. Этнографические группы удмуртского народа (опыт выделения). Ч. 1. / И.А. Косарева // Известия общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. – 2017. – Т. 37. – № 2. – 195 с.
-
25. Маслова , Г.С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX в. – начале XX в. / Г.С. Маслова // Восточнославянский этнографический сборник. – Москва: Изд-во Акад. наук СССР, 1956. – С. 543 – 757.
-
26. Авижанская , С.А. Декоративно-прикладное искусство башкир / С.А. Авижанская, Н.В. Бикбулатов, Р.Г. Кузеев . - Уфа: [б.и.], 1964. -259 с.
-
27. Руденко , С.И. Башкиры: историко-этнографические очерки / С.И. Руденко. – Уфа: Ки-тап, 2006. – 373 с.
-
28. Захарова-Кульева , Н.И. О чувашском нагруднике кăкăрлăх // Чувашский Национальный музей: люди, события, факты: материалы XVII Петровских чтений / Н.И. Захарова-Кульева. – 2018. – № 13. – С. 100 – 102.
-
29. Косарева, И.А. Удмуртско-тюркское этнокультурное взаимодействие и бесермянская проблематика в свете полевых исследований последнего времени / И.А. Косарева // Вестник Удмуртского университета. – 2021. – Т. 31. – № 4. – С. 797 – 804.
-
30. Студенецкая, Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа. XVIII – XX вв. / Е.Н. Студенецкая. – Москва: Наука, 1989. – 288 с.
-
31. Крюкова, Т.А. Удмуртское народное изобразительное искусство = Удмурт калыклэн киуж устолыкез / Т.А. Крюкова. – Ижевск–Ленин-град: Удмуртия, 1973. – 158 с.
-
32. Генинг, В.Ф. Азелинская культура III – V вв. Очерки истории Вятского края в эпоху великого переселения народов / В.Ф. Генинг // Вопросы археологии Урала. Вып.5. – Свердловск – Ижевск: УрГУ, 1963. – 187 с.
-
33. Генинг, В.Ф. История Удмуртского Прикамья в пьяноборскую эпоху. Ч.1 / В.Ф. Генинг // Вопросы археологии Урала. Вып.10. – Свердловск – Ижевск: [б.и.], 1970. – 224 с.
-
34. Лещинская, Н.А. Жертвенный комплекс погребения 33 Тат-боярского могильника ема-наевской археологической культуры: информационный потенциал / Н.А. Лещинская //
Ежегодник финно-угорских исследований. – 2021. – Т.15. – № 4. – С. 668 – 682.
-
35. Файзуллина, Д.Ф. Элементы костюма населения Волго-Камья раннего железного века как начальная точка формирования традиционного костюма народов финно-угорской языковой семьи / Д.Ф. Файзуллина // Ежегодник финно-угорских исследований. – 2010. – № 4. – С. 85 – 92.
-
36. Молотова, Т.Л. Марийский народный костюм / Т.Л. Молотова. – Йошкар-Ола: Mapийское книжное издательство, 1992. – 108 с.
-
37. Крюкова, Т.А. Материальная культура марийцев как один из источников решения вопроса об этногенезе / Т.А. Крюкова // Происхождение марийского народа: материалы научной сессии, проведенной Марийским научно-исследовательским институтом языка, литературы и истории (23 – 25 декабря 1965 г.). – Йошкар-Ола: Маркнигоиздат, 1967. – С. 119 – 124.
-
• References
-
1. Napol’skikh, V.V. Ocherki po etnicheskoi istorii [Essays on ethnic history] / V.V. Napol’skikh. – Kazan: “Kazanskaya nedvizhimost’” [“Kazan real estate” Publ, House], 2015. – 648 p.
-
2. Baiburin, A.K. Semioticheskie aspekty funktsion-irovaniya veshchei [Semiotic aspects of the functioning of things] / A.K. Baiburin // Etnogra-ficheskoe izuchenie znakovykh sistem kul’tury [Ethnographic study of symbolic cultural systems]. – Leningrad: Nauka, 1989. – P. 63 – 88.
-
3. Kuzeev, R.G. Narody Srednego Povolzh’ya i Yuzhnogo Urala: Etnogeneticheskii vzglyad na istoriyu [The Peoples of the Middle-Volga and South-Urals Regions: an Ethnogenetic View of History] / R.G. Kuzeev. – Moscow: Nauka, 1992. – 344 p.
-
4. Lehtinen I. Naisten korut Keski-Venäjällä ja Län-si-Siperiassa [Women’s jewellery in Central Russia and Western Siberia]. Museovirasto, 1979. – 209 p.
-
5. Mikhailova, E.A. S`emnye ukrasheniya narodov Sibiri [Removable adornments of the peoples of Siberia] / E.A.Mikhailova // Ukrasheniya narodov Sibiri [Adornments of the peoples of Siberia]. – Vol. LI. – St.Petersburg: Museum of Archaeology and Ethnography, RAS (MAE RAS), 2006. – P. 12 – 119.
-
6. Zadneprovskaya, A.Yu. Traditsionnye ukrash-eniya narodov Srednego Povolzh’ya (vtoraya polovina XIX – pervaya chetvert` XX vekov) [Traditional adornments of the peoples of the Middle Volga region (second half of the XIX – first quarter of the XX centuries)]: Diss…. Cand. Sci. (History) / A.Yu.Zadneprovskaya. – St. Petersburg: MAE RAS, 1992. – 210 p.
-
7. Suslova, S.V. Zhenskie ukrasheniya kazanskikh tatar serediny XIX – nachala XX v.: istoriko-et-nograficheskoe issledovanie [Women’s adornments of Kazan Tatars of the mid-XIX – early XX centuries: historical and ethnographic research] / S.V. Suslova. – Moscow: Nauka, 1980. – 123 p.
-
8. Zadneprovskaya, A.Yu. Mordovskie ukrasheni-ya: katalog [Mordovian adornments] / A.Yu. Zadneprovskaya. – Leningrad, 1988. – 112 p.
-
9. Gagen-Torn, N.I. Zhenskaya odezhda narodov Povolzh’ya [Women’s clothing of the peoples of
the Volga region] / N.I. Gagen-Torn. – Cheboksary: Chuvash State Publ., 1960. – 234 p.
-
-
10. Kosareva, I.A. Traditsionnaya zhenskaya odezh-da periferiinykh grupp udmurtov (kosinskoi, slobodskoi, kukmorskoi, shoshminskoi, zakamskoi) v kontse XIX – nachale XX v. [Traditional women’s clothing of the peripheral groups of Udmurts (Kosinskaya, Sloboda, Kukmorskaya, Shoshmin-skaya, Zakamskaya) in the late XIX – early XX centuries] / I.A. Kosareva. – Izhevsk: Udmurt Inst. of History, Language and Literature, RAS, 2000. – 226 p.
-
11. Kosareva, I.A. Etnograficheskie gruppy udmurt-skogo naroda (opyt vydeleniya) [Ethnographic groups of the Udmurt people (separation experience)]. Part II. Maps. Illustrations / I.A. Kosareva // Proc. of the Society of Archeology, History and Ethnography at Kazan University. 2017. – Vol. 37. – No. 2. – 187 p.
-
12. Belitser, V.N. Narodnaya odezhda udmurtov: materialy k etnogenezu [Folk clothes of the Udmurts (materials for ethnogenesis)] / V.N. Belit-ser. – Moscow: USSR Ac. Sci. Publ., 1951. – 140 p.
-
13. Molotova, T.L. Mariiskii kostyum [Mari costume] / T.L. Molotova. – Ioshkar Ola, 2020. – 383 p.
-
14. Sepeev, G.A. Vostochnye mariitsy. Istoriko-etno-graficheskoe issledovanie material’noi kul’tury (seredina XIX – nachalo ХХ vekov) [The Eastern Mari. Historical and ethnographic studies of material culture (mid-XIX – early XX centuries)] / G.A. Sepeev. – Ioshkar Ola: Mari Book Publ. House, 1975. – 249 p.
-
15. Belitser, V.N. Narodnaya odezhda mordvy [Mordovian folk clothes] / V.N. Belitser. – Moscow: Nauka, 1973. – 214 p.
-
16. Prokina, T.P. Mordovskii narodnyi kostyum [Mordovian folk costume] / T.P. Prokina, M.I.Surina. – Saransk: Mordovian Book Publ. House, 1990. – 382 p.
-
17. Prokina, T.P. Mordovskii narodnyi kostyum [Mordovian folk costume] album / T.P. Prokina. – Saransk: Mordovian Book Publ. House, 2007. – 464 p.
-
18. Chuvashi [The Chuvash people] / Miklukho-Mak-lay Inst, of Ethnology and Anthropology, RAS; Chuvash State Inst. of Humanities; Eds. V.P.Iva-nov, A.D.Korostelev, E.A.Yagafova. – Moscow: Nauka, 2017. – 654 p.
-
19. Yagafova, E.A. Formirovanie i traditsionnaya kul’tura etnoterritorial’nykh grupp chuvashei v Uralo-Povolzh’e: XVII – nachalo XX vekov [Formation and traditional culture of ethnoterritorial groups of the Chuvash in the Ural-Volga region: XVII – early XX centuries] : Diss... Dr. Sci. (History). / E.A.Vagafova. – Samara: Samara State Pedagogical Univ., 2004. – 316 p.
-
20. Suslova, S.V. Tatarskii kostyum: istoriko-etnolog-icheskoe issledovanie [Tatar costume: Historical and ethnological research] / S.V.Suslova. – Kazan: Tatar Book Publ. House, 2018. – 239 p.
-
21. Shitova, S.N. Bashkirskaya narodnaya odezhda [Bashkir folk clothes] / S.N.Shitova. – Ufa: Kitap, 1995. – 240 p.
-
22. Lebedeva, S.Kh. Udmurt kalyk dis’kut = Udmurt-skaya narodnaya odezhda [Udmurt Folk Costume] / S.Kh.Lebedeva. - Izhevsk: Udmurtiya, 2008. – 204 p.
-
23. Suslova S.V. Narodnyi kostyum tatar Povolzh’ya i Urala (seredina XIX – nachalo XX vekov). Is-toriko-etnograficheskii atlas tatarskogo naroda [Folk costume of the Volga and Ural Tatars (mid-
XIX – early XX centuries). Historical and Ethnographic Atlas of the Tatar people] / S.V. Suslova, R.G.Mukhamedova. – Kazan: Fen, 2000. – 312 p.
-
24. Kosareva, I.A. Etnograficheskie gruppy udmurt-skogo naroda (opyt vydeleniya) [Ethnographic groups of the Udmurt people (separation experience)]. Part I. / I.A. Kosareva // Izvestiya obshchestva arkheologii, istorii i etnografii pri Kazanskom universitete [Proc. of the Society of Archeology, History and Ethnography at Kazan University]. – 2017. – Vol. 37. – No.2. –195 p.
-
25. Maslova, G.S. Narodnaya odezhda russkikh, ukraintsev i belorusov v XIX v. – nachale XX v. [Folk clothes of the Russians, Ukrainians and Belarusians in the XIX – early XX centuries] / G.S. Maslova // Vostochnoslavyanskii etnografich-eskii sbornik [East Slavic Ethnographic Collection]. - Moscow: USSR Ac. Sci. Publ., 1956. – P. 543 – 757.
-
26. Avizhanskaya, S.A. Dekorativno-prikladnoe isk-usstvo bashkir [Bashkir decorative-applied arts] / S.A. Avizhanskaya, N.V. Bikbulatov, R.G. Ku-zeev. – Ufa, 1964. – 259 p.
-
27. Rudenko, S.I. Bashkiry: istoriko-etnografichesk-ie ocherki [The Bashkirs: Historical and ethnographic essays] / S.I. Rudenko. – Ufa: Kitap, 2006. – 373 p.
-
28. Zakharova-Kulyeva, N.I. O chuvashskom na-grudnike kăkărlăkh [About the Chuvash breastplate kăkărlăkh] // Chuvashskii Natsional’nyi muzei: lyudi, sobytiya, fakty. Materialy XVII Pet-rovskikh chtenii [Chuvash National Museum: people, events, facts. Materials of the XVII Peter’s Readings] / N.I. Zakharova-Kulyeva. – 2018. – № 13. – P. 100 – 102.
-
29. Kosareva, I.A. Udmurtsko-tyurkskoe etnokul’turnoe vzaimodeistvie i besermyanskaya problematika v svete polevykh issledovanii poslednego vreme-ni [Udmurt-Turkic ethno-cultural interaction and the Besermyan problem in the light of the latest field research] / I.A. Kosareva // Bull. of the Udmurt University. – 2021. – Vol. 31. – No. 4. – P. 797 – 804.
-
30. Studenetskaya, E.N. Odezhda narodov Sever-nogo Kavkaza. XVIII–XX vv. [Clothing of the Peoples of the North Caucasus. XVIII–XX centuries] / E.N. Studenetskaya. – Moscow: Nauka, 1989. – 288 p.
-
31. Kryukova, T.A. Udmurtskoe narodnoe izo-brazitel’noe iskusstvo = Udmurt kalyklen kiuzh ustolykez [Udmurt fine art] / T.A.Kryukova. – Izhevsk-Leningrad: Udmurtiya, 1973. – 158 p.
-
32. Gening, V.F. Azelinskaya kul’tura III–V vekov. Ocherki istorii Vyatskogo kraya v epokhu veliko-go pereseleniya narodov [Azelino Culture of the III – V centuries: Essays on History of the Vyatka Area during the Great Migrations Epoch] / V.F.Gening // Problems of the Ural Archaeology. Issue 5. – Sverdlovsk-Izhevsk, Ural State University Publ., 1963. – 187 p.
-
33. Gening,V.F. Istoriya Udmurtskogo Prikam’ya v p’yanoborskuyu epokhu [History of the Udmurt Kama area in the Pianobor era]. Part I. / V.F.Gening // Problems of the Ural Archaeology. Issue 10. – Sverdlovsk-Izhevsk, 1970. – 224 p.
-
34. Leshchinskaya, N.A. Zhertvennyi kompleks po-grebeniya 33 Tat-boyarskogo mogil’nika ema-naevskoi arkheologicheskoi kul’tury: informat-sionnyi potentsial [Sacrificial burial complex 33 of Tat-Boyar burial ground of the Emanaevo archeological culture: information potential] /
N.A.Leshchinskaya // Yearbook of Finno-Ugric Studies. – 2021. – Vol. 15. – № 4. – P. 668 – 682.
-
35. Faizullina, D.F. Elementy kostyuma naseleniya Volgo-Kam’ya rannego zheleznogo veka kak nachal’naya tochka formirovaniya traditsion-nogo kostyuma narodov finno-ugorskoi yazyk-ovoi sem’i [Costume elements of Volga-Kama people of the Early Iron age as a start point of traditional costume formation of the peoples of the Finno-Ugric language family] / D.F.Faizullina // Yearbook of Finno-Ugric Studies. – 2010. – № 4. – P. 85 – 92.
-
36. Molotova, T.L. Mariiskii narodnyi kostyum [Mari folk costume] / T.I.Molotova. – Ioshkar Ola: Mari Book Publ. House, 1992. – 108 p.
-
37. Kryukova, T.A. Material’naya kul’tura mariitsev kak odin iz istochnikov resheniya voprosa ob et-
nogeneze [Material culture of the Mari people as one of the sources of solving the problem of ethnogenesis] / T.A.Kryukova // Proiskhozhdenie mariiskogo naroda: Materialy Nauchnoi ses-sii, provedennoi Mariiskim nauchno-issledova-tel’skim institutom chzyka, literatury i istorii. (23-25 dekabrya 1965 g.) [Origins of the Mari People: Materials of Sci. session of the Mari Research Inst. of Language, Literature and History (December 23-25, 1965)]. – Ioshkar Ola: [Marknigoizdat] Mari Book Publ., 1967. – P. 119 – 124.
отв. ред. В.П. Иванов, А.Д. Коростелев, Е.А. Ягафова. – Москва: Наука, 2017. – 654 с.
Список литературы Женские шейно-нагрудные украшения финно-угорских и тюркских народов Урало-Поволжья как источник реконструкции археологического костюма
- Напольских, В.В. Очерки по этнической истории / В.В. Напольских. - Казань: Издательский дом «Казанская недвижимость», 2015. - 648 с.
- Байбурин, А.К. Семиотические аспекты функционирования вещей / А.К. Байбурин // Этнографическое изучение знаковых систем культуры. - Ленинград: Наука, 1989. - С. 63 - 88.
- Кузеев, Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала: Этногенетический взгляд на историю / Р.Г. Кузеев. - Москва: Наука, 1992. 344 с.
- Lehtinen I. Naisten korut Keski-Venâjâllâ ja Lân-si-Siperiassa [Women's jewellery in Central Russia and Western Siberia]. Museovirasto, 1979. -209 p.
- Михайлова, Е.А. Съемные украшения народов Сибири / Е.А. Михайлова // Украшения народов Сибири: сборник МАЭ. Т. LI. -Санкт-Петербург: МАЭ РАН, 2006. - С. 12 - 119.
- Заднепровская, А.Ю. Традиционные украшения народов Среднего Поволжья (вторая пол. XIX - первая четв. XX вв.): дис. канд. ист. наук / А.Ю. Заднепровская. - Санкт-Петербург: МАЭ РАН, 1992. - 210 с.
- Суслова, С.В. Женские украшения казанских татар середины XIX - начала ХХ в.: историко-этнографическое исследование / С.В. Суслова. - Москва: Наука, 1980. - 123 с.
- Заднепровская, А.Ю. Мордовские украшения: каталог / А.Ю. Заднепровская. - Ленинград: [б. и.], 1988. - 112 с.
- Гаген-Торн, Н.И. Женская одежда народов Поволжья / Н.И. Гаген-Торн. - Чебоксары: Чувашское государственное издательство, 1960. - 234 с.
- Косарева, И.А. Традиционная женская одежда периферийных групп удмуртов (косинской, слободской, кукморской, шошмин-ской, закамской) в конце XlX - начале XX в.: монография / И.А. Косарев. - Ижевск: УИИ-ЯЛ УрО РАН, 2000. - 226 с.
- Косарева, И.А. Этнографические группы удмуртского народа (опыт выделения). Ч. 2. Карты. Иллюстрации / И.А. Косарева // Известия общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. - 2017. - Т. 37. - № 2. - 187 с.
- Белицер, В.Н. Народная одежда удмуртов: материалы к этногенезу / В.Н. Белицер. - Москва: Изд-во АН СССР, 1951. - 140 с.
- Молотова, Т.Л. Марийский костюм / Т.Л. Молотова. - Йошкар-Ола: [б.и.], 2020. - 383 с.
- Сепеев, Г.А. Восточные марийцы. Историко-этнографическое исследование материальной культуры (середина XIX - начало XX вв.) / Г.А. Сепеев. - Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1975. - 249 с.
- Белицер, В.Н. Народная одежда мордвы / В.Н. Белицер. - Москва: Наука, 1973. - 214 с.
- Прокина, Т.П. Мордовский народный костюм / Т.П. Прокина, М.И. Сурина. - Саранск: Мордовское книжное издательство, 1990. - 382 с.
- Прокина, Т.П. Мордовский народный костюм: [альбом] / Т.П. Прокина. - Саранск: Мордовское книжное издательство, 2007. - 464 с.
- Чуваши / Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; Чувашский государственный институт гуманитарных наук; отв. ред. В.П. Иванов, А.Д. Коростелев, Е.А. Ягафова. - Москва: Наука, 2017. - 654 с.
- Ягафова, Е.А. Формирование и традиционная культура этнотерриториальных групп чувашей в Урало-Поволжье: XVII - начало XX вв.: дис. ... докт. ист. наук / Е.А. Ягафова. - Самара: СГПУ, 2004. - 316 с.
- Суслова, С.В. Татарский костюм: историко-этнологическое исследование / С.В. Суслова. - Казань: Татарское книжное изд-во, 2018. - 239 с.
- Шитова, С.Н. Башкирская народная одежда / С.Н. Шитова. - Уфа: Китап, 1995. - 240 с.
- Лебедева, С.Х. Удмурт калык диськут = Удмуртская народная одежда = Udmurt Folk Costume / С.Х. Лебедева. - Ижевск: Удмуртия, 2008. - 204 с.
- Суслова, С.В. Народный костюм татар Поволжья и Урала (середина XIX - начало XX вв.). Историко-этнографический атлас татарского народа / С.В. Суслова, Р.Г. Мухамедова. - Казань: Фэн, 2000. - 312 с.
- Косарева, И.А. Этнографические группы удмуртского народа (опыт выделения). Ч. 1. / И.А. Косарева // Известия общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. - 2017. - Т. 37. - № 2. - 195 с.
- Маслова, Г.С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX в. - начале XX в. / Г.С. Маслова // Восточнославянский этнографический сборник. - Москва: Изд-во Акад. наук СССР, 1956. - С. 543 - 757.
- Авижанская, С.А. Декоративно-прикладное искусство башкир / С.А. Авижанская, Н.В. Бикбулатов, Р.Г. Кузеев. - Уфа: [б.и.], 1964. -259 с.
- Руденко, С.И. Башкиры: историко-этногра-фические очерки / С.И. Руденко. - Уфа: Китап, 2006. - 373 с.
- Захарова-Кульева, Н.И. О чувашском нагруднике кйкйрлйх // Чувашский Национальный музей: люди, события, факты: материалы XVII Петровских чтений / Н.И. Захарова-Кульева. -2018. - № 13. - С. 100 - 102.
- Косарева, И.А. Удмуртско-тюркское этнокультурное взаимодействие и бесермянская проблематика в свете полевых исследований последнего времени / И.А. Косарева // Вестник Удмуртского университета. - 2021. - Т. 31. - № 4. - С. 797 - 804.
- Студенецкая, Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа. XVIII - XX вв. / Е.Н. Студенецкая. -Москва: Наука, 1989. - 288 с.
- Крюкова, Т.А. Удмуртское народное изобразительное искусство = Удмурт калыклэн киуж устолыкез / Т.А. Крюкова. - Ижевск-Ленинград: Удмуртия, 1973. - 158 с.
- Генинг, В.Ф. Азелинская культура III - V вв. Очерки истории Вятского края в эпоху великого переселения народов / В.Ф. Генинг // Вопросы археологии Урала. Вып.5. - Свердловск - Ижевск: УрГУ, 1963. - 187 с.
- Генинг, В.Ф. История Удмуртского Прикамья в пьяноборскую эпоху. Ч.1 / В.Ф. Генинг // Вопросы археологии Урала. Вып.10. - Свердловск - Ижевск: [б.и.], 1970. - 224 с.
- Лещинская, Н.А. Жертвенный комплекс погребения 33 Тат-боярского могильника ема-наевской археологической культуры: информационный потенциал / Н.А. Лещинская // Ежегодник финно-угорских исследований. - 2021. - Т.15. - № 4. - С. 668 - 682.
- Файзуллина, Д.Ф. Элементы костюма населения Волго-Камья раннего железного века как начальная точка формирования традиционного костюма народов финно-угорской языковой семьи / Д.Ф. Файзуллина // Ежегодник финно-угорских исследований. - 2010. -№ 4. - С. 85 - 92.
- Молотова, Т.Л. Марийский народный костюм / Т.Л. Молотова. - Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1992. - 108 с.
- Крюкова, Т.А. Материальная культура марийцев как один из источников решения вопроса об этногенезе / Т.А. Крюкова // Происхождение марийского народа: материалы научной сессии, проведенной Марийским научно-исследовательским институтом языка, литературы и истории (23 - 25 декабря 1965 г.). - Йошкар-Ола: Маркнигоиздат, 1967. - С. 119 - 124.