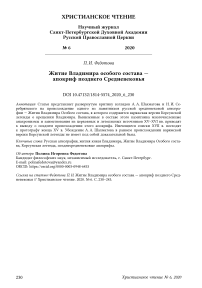Житие Владимира особого состава - апокриф позднего Средневековья
Автор: Федотова Полина Игоревна
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 6 (95), 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет развернутую критику взглядов А. А. Шахматова и Н. И. Серебрянского на происхождение одного из памятников русской средневековой агиографии - Жития Владимира Особого состава, в котором содержится варяжская версия Корсунской легенды о крещении Владимира. Выявленные в составе этого памятника многочисленные анахронизмы и заимствования из церковных и летописных источников XV-XVI вв. приводят к выводу о позднем происхождении этого апокрифа. Имеющиеся списки XVII в. восходят к протографу конца XV в. Убеждение А. А. Шахматова в раннем происхождении варяжской версии Корсунской легенды не имеет под собой доказательной базы.
Русская агиография, жития князя владимира, житие владимира особого состава, корсунская легенда, позднесредневековые апокрифы
Короткий адрес: https://sciup.org/140250833
IDR: 140250833 | DOI: 10.47132/1814-5574_2020_6_230
Текст научной статьи Житие Владимира особого состава - апокриф позднего Средневековья
Candidate of Philosophy, Independent Researcher, Saint Petersburg.
Житие Владимира Особого состава не часто становилось объектом специального научного исследования. Исключение составляют труды крупнейшего филолога начала ХХ в. А. А. Шахматова, в творчестве которого изучение памятников Владимирова цикла образует одну из сквозных тем. Начиная с первых работ, посвященных источниковой базе рассказа о крещении, до итоговой монографии о житиях Владимира, частично оставшейся в рукописи и опубликованной лишь в 2014 г. благодаря усилиям современной исследовательницы Н. И. Милютенко, творческая мысль Шахматова обращалась к решению проблем Владимировой агиографии [Шахматов, 1908а, 1029–1153; Шахматов, 1908б, 63–74; Шахматов, 2014]. Вклад Шахматова в изучение этой темы настолько велик, что до сих пор его работы служат главным ориентиром для современных ученых. В особенности это касается такого специфического агиографического памятника, как Житие Владимира особого состава (далее также — ЖОС), анализ которого практически исчерпывается оценками, предложенными А. А. Шахматовым. Большая часть исследователей некритически следовала в этом вопросе выводам, сформулированным знаменитым ученым в своем исследовании Корсунской легенды [Шахматов, 1908а, 1029–1153]. Даже проявивший наибольшую самостоятельность Н. И. Серебрянский, предпринявший подробный разбор этого «легендарно-пролож-ного жития», в своем анализе в основном следовал Шахматову, принимая его предположение о наличии «народной былины» о князе Владимире, которая возникла в XI в. и легла в основу этого памятника1.
Однако методология шахматовских работ имеет существенные изъяны и не удовлетворяет потребностям современной науки. К числу негативных черт шахматовского стиля относится, прежде всего, выдумывание никогда не существовавших источников и редакций и внесение произвольных поправок в текст источников. В этом отношении работы Шахматова сильно проигрывают трудам его современников: Е. Е. Голубинского, Н. И. Серебрянского, Н. К. Никольского, которые хотя и разделяли общие заблуждения эпохи, тем не менее стремились строить свои выводы на материале наличных, а не вымышленных текстов. Шахматов же постоянно апеллировал к сочиненным им самим редакциям как к реальной источниковой базе. Это давало ему возможность игнорировать реальные тексты и редакции, подменяя их собственными фантазиями. При таком методе неудивительно, что исследователь зачастую приходил к превратным выводам.
Ярким примером тенденциозно-субъективного толкования источников выступает разбор Шахматовым Жития Владимира Особого состава. Без какого-либо предварительного обоснования Шахматов сразу объявляет, что Особое житие Владимира «составлено в глубокой древности» [Шахматов, 2003, 337]. Хотя в пользу его древности невозможно привести ни одного довода, зато все данные говорят за его позднее происхождение.
Во-первых, оба известных списка этого Жития — Плигинский и Публичной библиотеки — содержатся в сборниках XVII в.2 Более ранние его редакции не известны. В доказательство более раннего существования этого Жития (по формулировке Шахматова, «особой повести о крещении Владимира») он приводил так называемую распространенную проложную редакцию Жития Владимира, в которой присутствуют некоторые элементы ЖОС. Однако этот памятник хотя и получил название
«проложной редакции», не содержится в составе прологов, а встречается только в составе сборников, начиная с конца XV в.3 Проложной редакцией он назван лишь потому, что представляет собой слегка расширенный текст проложного Жития Владимира. К числу главнейших дополнений относится упоминание некоего Ждьберна (Ждеберна, Жьберна, Жберна, Ижберна), за которого князь Владимир выдал дочь корсунского «князя» и которого вместе с «воеводой Олегом» отослал с посольством к византийским императорам4. Однако в распространенной проложной редакции ничего не говорится ни о варяжском происхождении Ждьберна, ни о его статусе, а сама запись носит характер явной вставки. В этом памятнике отсутствует не только указание на варяжское происхождение Ждьберна, но нет и эпизода со стрелой, пущенной Ждьберном в стан осаждавших Корсунь русских войск, а также рассказа о сватовстве Владимира к дочери корсунского князя и ее бесчестии. Откуда был почерпнут Ждьберн и кто он такой по своему положению и происхождению, из текста самой распространенной проложной редакции понять невозможно.
Таким образом, так называемое распространенное проложное житие князя Владимира, никогда не включавшееся в официальные церковные прологи, представляет собой апокриф неясного происхождения конца XV в. на основе проложного сказания о Крещении Руси. Так же, как и собственно ЖОС, оно встречается исключительно в составе различных сборников. Что уже указывает на его неофициально-апокрифический характер. Источником вставок в нем о Ждьберне и «воеводе Олеге», а также об убийстве корсунских князя и княгини и выдаче их дочери замуж за Ждьберна Шахматов считал недошедшую до нас «древнюю повесть о крещении Владимира». Та же повесть лежит, по его мнению, и в основе Особого жития Владимира, известного лишь по спискам XVII в. [Шахматов, 2014, 315].
Что вставки о Ждьберне попали в переделку проложного жития конца XV в. из постороннего источника — это очевидно5. Вопрос в другом: насколько древним был тот текст, который послужил основой для апокрифической версии повести о крещении Владимира? Понятно стремление Шахматова представить его в качестве «древнейшего». Варяжская версия корсунского крещения как нельзя лучше отвечала его варя-го-норманистским убеждениям, давая им солидное подспорье. Однако весь комплекс связанных с этими памятниками данных — и отнюдь не только хронология известных текстов — говорит о безусловно позднем их происхождении. Хотя и хронология играет здесь не последнюю роль. Беглое упоминание о Ждьберне и истории с корсунским князем и его дочерью встречается в текстах не ранее конца XV в. Что касается обширных нарративов, то никаких предшествующих или последующих текстов, где бы присутствовал Ждьберн, вплоть до двух сборников XVII в. на сегодняшний день науке не известно. Таким образом, все наличные списки Жития Особого состава или с его элементами — поздние, не ранее конца XV в. В содержательном плане они также несут следы позднего происхождения.
Начнем с собственно текстов Особого жития Владимира. Многочисленные яркие анахронизмы обоих известных списков ЖОС выдают их безусловно позднее происхождение. Важно при этом, что при наличии в тексте реалий XV–XVII вв. в них отсутствуют столь же явные реалии X–XI вв. (времени предполагаемого Шахматовым составления этой «древнейшей повести» о крещении князя Владимира). Уже само заглавие Пли-гинского списка — «Оуспение равноапостоломъ великаго князя Владимера самодержца Руския земли» — указывает на XVI–XVII вв. Термин «самодержец» в качестве титула до конца XVI в. не употреблялся. Как почетное величание он стал использоваться в отношении московских государей только с конца XV в. (и то в основном иностранной дипломатией). В качестве официального титула он впервые фигурирует в Чине венчания на царство сына Ивана Грозного Федора Иоанновича (1584) [Филюшкин, 2006, 57–63].
Аналогично чин «равноапостольного» закрепился за Владимиром не сразу. В церковных и летописных источниках XIV–XVI вв. он именовался «святым», «благоверным» и «великим», а в более ранних — «великим», «благоверным» и «блаженным»6. Только в решениях Стоглава он аттестуется в качестве «святаго и равноапостольнаго великого князя Владимера Киевьскаго и всея Русии», а его Уставу придан статус «царского законоположения»7. В одном месте Плигинского списка Владимир назван «государь князь» [Шахматов, 2003, 330]. Однако титул «государя» впервые принял Иван III в 1485 г., после ликвидации зависимости от Орды и присоединения Тверского княжества [Филюшкин, 2006, 63]. Таким образом, титулатура Владимира — и церковная, и светская — выдает в Особом житии поздний памятник XVI–XVII вв., когда «равноапостольный» и «самодержец» стали привычными эпитетами крестителя Руси.
Таким же анахронизмом является и присутствие в ЖОС особого персонажа — митрополита, якобы полученного князем Владимиром от Константинопольского патриарха. В ранней литературной традиции о князе Владимире, так же как и в рассказе Повести временных лет о Крещении Руси, этот персонаж отсутствует. В двух самых ранних списках ПВЛ — в Лаврентьевском (1377) и Ипатьевском (ок. 1425) сводах — говорится лишь о «корсунских попах» и Анастасе Корсунянине, взятых Владимиром в Киев: «Володимеръ же посемъ поемъ царицю и Настаса и попы Корсуньски» (Лаврентьевская, 1997, стб. 116; Ипатьевская, 1998, стб. 101). Нет никаких намеков на присутствие греческого духовенства в Киеве при князе Владимире — из Корсуни или Константинополя — и в различных редакциях Проложного жития Владимира XIV–XVII вв., вплоть до печатного Пролога 1643 г. (ПЖВ, 2014, 138–170). Отсутствует указание на греческую церковную иерархию в Киеве и в самом раннем памятнике церковной литературы о князе Владимире — «Памяти и похвале князю русскому Владимиру» Иакова-мниха (XI в.), известном по спискам XV–XVI вв.8
Таким образом, самый ранний пласт Владимировой агиографии («Похвала» Иакова и проложные жития) не содержит никаких указаний на наличие греческой церковной иерархии в Киеве при князе Владимире. Летописная традиция классических списков ПВЛ с Корсунской легендой (в Лаврентьевской, Ипатьевской и Радзивиловской летописях) в качестве таковой называет «корсунских попов», выведенных князем Владимиром из Херсона. Фигура греческого митрополита при князе Владимире появляется лишь в летописях XV–XVI вв., сначала он упоминается безымянным, а затем под разными именами9. Причина этой новации XV–XVI вв. понятна: простые «корсунские попы» уже перестали удовлетворять возросшим политическим амбициям великих московских князей. Поэтому их заменили более статусной фигурой митрополита. Вымышленный характер митрополита-грека при Владимире наглядно демонстрирует разнобой источников относительно его имени: Феопемпт, Леон, Леонтий, Михаил. Плигинский список ЖОС добавляет к этому списку еще «митрополита Лариона», хотя русин Иларион был вторым киевским митрополитом после грека Фео-пемпта. Второй список ЖОС оставляет митрополита безымянным (Плигинский, 2014, 317; ПБ, 2014, 319). «Почерпнуть» греческого митрополита в Киеве времен князя Владимира составители ЖОС могли только из поздней летописной традиции XV–XVI вв.
В тексте особого Жития есть и другие признаки его позднего происхождения. Имя Владимир везде пишется как Владимеръ, в отличие от древнерусского полногласного написания Володимеръ/Володимиръ. Такое написание появляется в русских источниках во второй половине XV в., но окончательно закрепляется как орфографическая норма где-то с середины XVI столетия10. Письмо, которое варяг Ждьберн/Ижъберн посылает в русский стан при помощи стрелы, в сборнике Публичной библиотеки названо «ярлыком». Это тюркское слово сделалось привычным на Руси только в татарский период и было совершенно неизвестно вплоть до середины XIII в. Если в Плигинском сборнике Жберн назван «приятелем» князя Владимира, то в списке Публичной библиотеки — его «рабом». Это отражает придворный этикет XVI–XVII вв., но отнюдь не X–XV вв., когда дружинники и подручники князей именовались «слугами», но не «рабами». Сам Владимир в записке Жберна из Плигинского списка назван «государем князем», в записке Ижъберна из сборника Публичной библиотеки — «великим князем». И то, и другое представляет собой грубый анахронизм, очевидный в первом случае, менее очевидный во втором (титул «великий князь» стал употребляться на Руси лишь со второй половины XII в.) [Филюшкин, 2006, 27–30].
Обращение к Владимиру как к «царю» («Царю Владимире!») присутствует уже в Распространенной проложной редакции конца XV в. (РПЖ, 2014, 192; Карпов, 2015, 436). Это обращение, невозможное в устах греческой царевны в отношении русского князя Х в. (в византийской табели о рангах русские князья имели только титул архонта — начальника округа), выдает время его написания — не ранее XV в., когда тверские и московские князья начали претендовать на царский титул [Водов, 2002, 543–553; Филюшкин, 2006, 76–81].
Правда, современные исследователи отмечают наличие царского титула у князя Владимира в богослужебных текстах, посвященных крестителю Руси. В частности, в службе св. Владимиру (самые ранние списки которой датируются XIV в.) Владимир именуется царем и сравнивается с б иблейским царем Давидом и христианским царем
Константином. На этом основании диакон В. В. Василик делает вывод, что царский титул в отношении князя Владимира имел не политическое, а сакральное значение и с самого начала присутствовал в службе св. Владимиру, создание которой он датирует концом XI в. При этом он исключает ее новгородское происхождение на том основании, что в «текстах службы мы не находим апелляции к новгородским реалиям» [Василик, 2015, 170].
Однако известный нам самый ранний текст минейной службы имеет все же новгородское происхождение. Об этом непреложно свидетельствуют не только его нахождение в рукописи Новгородской Софийской библиотеки, но признаки новгородского диалекта, например, мена ц и ч. В открывающей службу первой стихире говорится: «восхвалим великаго Володимира, апостолам равна, хвалами и песнями духовными венчаем, глаголяще: радуйся Христов воин прехрабрый, яко томителя врага до конча погубив и нас от лести его избавив и приде к Христу царю»11. Характерная для новгородского произношения форма «до конча» вместо «до конца», так же как мягкое ю вместо у после шипящих («чюдо», «чюдеса» и т. п.) выдают если не место создания самой службы, то, по крайней мере, место создания самого раннего известного нам текста12. Это обстоятельство заставляет согласиться с Ю. К. Бегуновым, который связывал появление службы с первым известным храмом св. Владимира в Новгороде в 1311 г. [Бегунов, 1965, 49].
Что касается царской титулатуры Владимира, то ее в ранних редакциях службы XIV в. нет. Во всех стихирах и канонах этой службы Владимир последовательно именуется «князем верным», «начальником нашим», «начальником благочестью», «князем рустим», «великим князем», «верным и достохвальным князем», «отцом русским», называется также «княже славный» и «княже благоверный» [Славнитский, 1888, 225–237; Милютенко, 2008, 478–493]. Таким образом, текст праздничной Минеи по рукописи Новгородской Софийской библиотеки (№ 382) везде сохраняет княжеский титул Владимира. Только в икосе присутствует фраза: «радуйся, яко бываеше верным цесарь» [Милютенко, 2008, 485]. Однако эта фраза, послужившая В. В. Васи-лику основанием для умозаключений, имеет здесь характер литературной метафоры, а вовсе не титула, даже сакрального. К тому же он дан в греческой форме — цесарь, а не царь, как он бытовал в русском обиходе. В качестве титула он впервые присутствует только в тропаре из Особой редакции службы на 15 июля в сборнике Матвея Кусова (1414 г.): «крещением просветил еси всех нас благочестивый цесарю Русьскыи» [Милютенко, 2008, 493]. Но, во-первых, текст сборника относится уже к XV в., а во-вторых, этот тропарь нигде больше не встречается [Милютенко, 2008, 497].
Что касается фразы из современной служебной Минеи: «царь же чувственно российстем людем был еси, Василие» [Василик, 2015, 170], ее никак нельзя отнести к концу XI в., поскольку в домонгольский период грецизированное название страны — Россия и, соответственно, прилагательные «российский», «российские» никогда не употреблялись. В древнерусских источниках использовались только производные формы от «Русь»: «рустие», «русьские» и т. п. Использование производных от греческого форм указывает на конец XV–XVI вв., когда первоначальное название страны — Русь — было вытеснено «византийским именем» Россия. Поэтому время создания службы св. Владимиру остается под вопросом, как и появление в ней царского величания Владимира. По крайней мере, в ранних редакциях этой службы XIV в. царский титул у Владимира отсутствует — он неизменно называется «князем». Не менее важно, что в ранних агиографических памятниках (проложных житиях Владимира) аттестация его как «царя» тоже отсутствует. Таким образом, появление царского титула Владимира в житийной и богослужебной литературе — явление позднего времени. Впервые он фиксируется в письменных памятниках XV в.
К числу явных ошибок составителей ЖОС относится и титулатура правителей Херсона. Корсунский правитель назван «князем», хотя правителей с таким статусом и с таким титулом в греческом Херсоне никогда не существовало. Херсон в Х в. давно уже не был самостоятельным государством, а входил в состав Византийской империи. Город и прилегающая к нему область, как византийская фема (провинция), управлялась военными наместниками, как правило, присылаемыми из Константинополя, — стратигами13. Наименование «князь» в отношении херсонского стратига указывает на то, что писал не современник (и тем более — не корсунский грек из окружения Анастаса Корсунянина, как утверждал А. А. Шахматов), а поздний и не озабоченный исторической достоверностью сочинитель.
Обращает внимание и наименование Ждьберна/Жберна/Ижъберна не варягом, а «вариженином» (Плигинский список) и «вареженином/варяженином» (список Публичной библиотеки). Употребление столь экзотичной формы этого этнонима свидетельствует о значительной хронологической отдаленности от событий Х века, так как в источниках XII–XIV вв. использовалась только форма «варяг» (мн. ч. «варяги», «варязи», «варяхи»).
Сам Шахматов указывал на такой выразительный факт, как лексические параллели между списком ЖОС Публичной библиотеки и Хронографом 1512 г. Для этого списка характерна такая специфическая черта, как замена названия Корсунь на Хер-сунь, Корсунский — Херсуньский, Корсунянин — Херсунянин [Шахматов, 2003, 333]. Аналогичное явление (под влиянием сербских памятников) наблюдается в Хронографе 1512 г. Хронологическое соотношение памятников, а также сербское происхождение такого написания указывает, что Хронограф начала XVI в. послужил источником для ЖОС, а не наоборот. Заимствованием из летописи является указание на пять жен (в Плигинском 12 жен) и сотни наложниц князя Владимира до крещения.
Бесспорным «творческим заимствованием» из летописи является также эпизод со сватовством к дочери корсунского «князя» и ее изнасилованием Владимиром на глазах у привязанных к столбу родителей. Исследователи неоднократно указывали на параллель этого эпизода ЖОС с аналогичным сообщением Суздальской летописи о сватовстве Владимира к полоцкой княжне Рогнеде. При этом сам эпизод с Рогнедой всеми исследователями считается исторически достоверным рассказом. Однако его достоверность вызывает сильные сомнения. Во-первых, он содержится исключительно в летописях Лаврентьевской традиции (Суздальской летописи в составе Лаврентьевского свода и двух списках Радзивиловской летописи). Список ПВЛ и Киевская летопись в составе Ипатьевского свода такого сюжета не знают. Еще важнее другое обстоятельство: этот эпизод содержится не в самой Повести временных лет под 980 г., когда состоялась женитьба Владимира на Рогнеде и рассказ об обстоятельствах этой женитьбы был бы уместным, а в Суздальской летописи под 1128 г., не имеющим никакого отношения к рассказанным событиям (Лаврентьевская, 1997, 299). Собственно, он представляет собой явную вставку, которая грубо разрывает в данном месте летописный текст, никак не связанный ни с Владимиром, ни с Рогнедой. Эта вставка не соотносится с содержанием самой статьи 1128 года. Под 1128 г. бегло упоминается о смерти полоцкого князя Бориса, говорится о большом наводнении в Киеве, о «пе-реятии» печерскими монахами церкви св. Дмитрия и переименовании ее в церковь св. Петра, о строительстве князем Мстиславом церкви св. Федора и лишь затем неожиданно идет рассказ «О сих же Всеславичах». При этом автор излагает события не от себя, а ссылается на рассказ неких знающих людей прежних лет: «яко сказаша ведущии прежде». Обращают на себя внимание и слова о «твари цесарской/царской» (одежде, царском облачении), в которую Владимир приказывает одеться Рогнеде перед казнью. Мог ли летописец XI–XII вв. говорить о «царских» одеждах русской княгини Х в.? Эти важнейшие обстоятельства и отсутствие соответствующего рассказа в летописях Ипатьевской группы с очевидностью обнаруживают в нем позднюю вставку в начальный летописный текст, ранее ее не содержавший.
Таким образом, столь полюбившийся широкой аудитории исторический сюжет на поверку может оказаться банальным подлогом14. Во-первых, он не принадлежит автору ПВЛ, так как находится за пределами киевской летописи Сильвестра, в записи 1128 года. Сама же Повесть временных лет (ни в Лаврентьевском, ни в Ипатьевском, ни в каком-либо ином своде) такого рассказа не содержит. Однако он вряд ли принадлежит и составителю Суздальской летописи XII в., так как вставлен в уже существовавший текст статьи 1128 г. Неясно только, когда именно этот апокриф о Владимире и Рогнеде был внесен в текст Суздальской летописи. По крайней мере, это произошло не ранее 1128 г.
Обнаружение вставного и позднего характера рассказа о Владимире и Рогнеде рушит убеждение Шахматова об отражении в Особом Житии древнейшей повести о крещении Владимира. Рассказ о судьбе Рогнеды был вставлен в Суздальскую летопись, скорее всего, даже не в XII в., судя по упоминанию «цесарских одежд» русской княгини. Но даже если вставка не выходит за пределы этого столетия, она сделана не ранее 1128 г. В таком случае и заимствование этого летописного сюжета составителем Особого жития Владимира не могло состояться раньше. Этого достаточно, чтобы распроститься с мнением о древности этого варианта Корсунской легенды.
Автор ЖОС позаимствовал из Лаврентьевской летописи не только общую сюжетную канву сватовства Владимира к полоцкой княжне, перенеся ее на дочь корсунского «князя», но и некоторые второстепенные детали этого рассказа. Исследователи уже обращали внимание, что состав войска Владимира в ЖОС «едва ли не заимствован» из рассказа о походе Владимира на Полоцк [Карпов, 2015, 222]. Влияние летописного рассказа о Владимире и Рогнеде на Особое житие отмечал и Н. И Серебрян-ский [Серебрянский, 1915, 68]. Действительно, между ними имеется явное сходство.
В Лаврентьевской летописи: «Володимеръ же собра вои многи: Варяги и Словени и Чюдь и Кривичи и поиде на Рогъволода» (Лаврентьевская, 1997, 76). В Житии особого состава: «Князь же Владимер вборзе собра воеводы своя варяги и словяны и кривичи и болгары и с черными людьми поиди въ Корсунь» (Плигинский, 2014, 316). Таким образом, в Плигинском списке чудь заменена болгарами, к которым добавлены «черные люди» — термин, не существовавший в домонгольской Руси. Шахматов тут же переделал допущенный поздним автором ЖОС анахронизм в виде «черных людей» в «черных болгар», даже внеся эту произвольную конъектуру в свою псевдореконструкцию «первоначального вида повести о крещении Владимира» [Шахматов, 2003, 334, 366]. Более внимательные исследователи справедливо видят здесь испорченное трафаретное выражение позднего времени: «боляр с черными людьми» [Серебрянский, 1915, 74].
Таким образом, Особое житие представляет собой позднюю компиляцию, составленную на основе заимствований из текстов различного происхождения: переработки нескольких статей из летописи Лаврентьевской традиции и Хронографа 1512 г.15 Компилятивный характер Особого жития подчеркивает и присутствие в нем «воеводы» Владимира Олега. Владимиров «воевода Олег» явно списан с «воеводы Олега» князя Игоря. Но в Лаврентьевской летописи статус Олега на протяжении всего летописного рассказа остается неопределенным. Только в русско-византийском договоре 912 г. он определенно назван «великим князем Русским» (Лаврентьевская, 1997, 33). В Ипатьевской летописи Олег назван родичем Рюрика («от рода ему суща»), но в договоре 912 г. он также назван «великим князем Русским» (Ипатьевская, 1998, 16, 23). Воеводой Игоря Олег назван впервые только в Новгородской первой летописи младшего извода сер. XV в. (НПЛ, 2000, 107). Это обстоятельство сразу отодвигает создание ЖОС ко второй половине XV в. и включает в число его источников еще и новгородское летописание.
В Особом житии есть следы влияния и других памятников Владимировой агиографии. Серебрянский утверждал, что автор Особого жития не пользовался Обычным житием. Однако в обоих списках ЖОС есть заимствования из различных редакций Обычного жития. Так, в Плигинском списке из Обычного жития заимствована такая деталь, как срок осады Корсуни князем Владимиром. В летописных рассказах эта деталь отсутствует. Владимир грозит жителям города, что простоит под стенами хоть три года. Однако реальный срок осады не указан. Эта подробность появляется в Обычном житии: «стоя Владимеръ 6 месяць» (ОЖВ, 2014, 223–224). Ее воспроизводят все редакции Обычного жития. Есть она и в Плигинском списке ЖОС, с той лишь разницей, что к указанным шести месяцам осады автор добавляет еще три месяца для усиления эффекта (Плигинский, 2014, 316)16. Такого рода усилительные добавления вообще составляют характерную черту этого памятника. Учитывая, что первые списки Обычного жития, откуда составитель ЖОС почерпнул эту подробность, датируются концом XV в., и это заимствование служит границей, указывающей на время появления Особого жития.
Однако, скорее всего, указание на шестимесячную осаду Корсуни попало в ЖОС не из первых редакций Обычного жития конца XV в., а из более поздней третьей Распространенной редакции Обычного жития второй половины XVI в. Об этом свидетельствует другая характерная параллель, которая имеется между обоими списками ЖОС и этой редакцией Обычного жития. А именно: добавление в описание исцеления от болезни, поразившей князя Владимира накануне крещения, фразы о «чешуе», спавшей с глаз после крещения. Она заимствована из рассказа Деяний апостолов об исцелении при крещении ослепшего Савла, будущего апостола Павла: «и тотчас как бы чешуя отпала от глаз его и вдруг он прозрел» (Деян 9:18)17. Как указывал А. А. Шахматов, она присутствует также в четвертом виде Проложного жития Владимира конца XVII в. [Шахматов, 2014, 314–315]. Сравним тексты агиографических памятников с этой библейской интерполяцией. В стихе о прозрении Савла сказано так: «И абие [тотчас] отпадоша отъ очию его яко чешюя. Прозре же абие, и воставъ, крестися».
3-я Распространенная редакция Обычного жития: «Бысть же чюдо преславно: яко возложи руку на нь епископъ, и абие прозре; «Отпадоша же отъ очию его яко и чешуя»» (ОЖВ, 2014, 166);
4-й вид Проложного жития: «Егда же крестися, бысть чюдо велие: вшедшу бо ему во святую купель, отпадоша яко чешуя отъ очию, и отверзостася ему очи» (ПЖВ, 2014, 256);
Плигинский список Особого жития: «…нападе на него слепота и струпие вели-цыи. И бысть внегда внити ему во святую купель, погрузися трижды, и отпаде стру-пие аки рыбия чешуя, и просветися лице его, и бысть чист» (Плигинский, 2014, 317);
Список Особого жития Публичной библиотеки: «…и в том часе нападе на него струпие велми страх объятъ его тогда ж княз Владимер вскоре покаялся и погрузися во святои купели 3 ж и нареченно бысть имя ему во святом крещении Василии и в том часе отпаде струпие от тела его аки рыбя чешуя и просветися лице его акы сонъце и осени его сила и благодат святаго духа и бысть велми здрав…» (ПБ, 2014, 319).
Сравнивая Житие особого состава с другими агиографическими памятниками о князе Владимире, А. А. Шахматов почему-то приходил к выводу, что дополнения, сделанные в Обычном житии и ЖОС, не могли быть выдуманы «досужим редактором», а указывают на существование древнего первоисточника. Таким первоисточником, по его мнению, была «древняя повесть о крещении Владимира» с рассказом о Ждеберне и Олеге, которая предшествовала летописи, но подверглась в ней существенным изменениям [Шахматов, 2014, 252–253, 314–315]. На основе тех же фактов непредвзятый исследователь вынужден прийти к прямо противоположному выводу: дополнения ЖОС являются выдумкой редакторов XVI–XVII вв. Во-первых, все памятники, где читаются эти добавления — позднего происхождения (XVI–XVII вв.). О том же свидетельствует и титул «великий царь» в отношении Владимира, вставленный в начале 4-го вида Проложного жития («Сей великий царь Владимеръ»). Это добавление имеет к тому же датирующий характер: не ранее 1547 г., года венчания Ивана Грозного на царство. В-третьих, очевидно, что эти добавления в агиографической литературе XVI–XVII вв. идут по нарастающей: Владимир становится «царем», избавление от слепоты подкреплено цитатой из Священного Писания, а в Особом житии для картинности и нагнетания эффекта к слепоте князя Владимира добавлены «струпья великие», троекратное погружение в купель и «рыбья чешуя». При этом наиболее пространный рассказ, осложненный большим количеством мелких и ненужных деталей, демонстрирует самый поздний текст — список Публичной библиотеки. Поскольку фантазия компиляторов всегда ограничена кругом их источников, то и «струпья» здесь не исключение. Источник этого добавления был указан Н. И. Се-ребрянским: дополнение к болезни князя Владимира в виде струпьев заимствовано из проложной легенды о крещении византийского императора Константина, которая встречается в списках с XV в. [Серебрянский, 1915, 70].
Таким образом, выявление круга письменных памятников, в которых имеются специфические общие чтения с ЖОС, только подтверждает позднее происхождения этого вида жития князя Владимира. Их нижняя граница не опускается далее второй половины XV в. При этом в официальных житиях вносимые поправки были продиктованы изменениями политической конъюнктуры (титулатура Владимира и появление митрополита), а в неофициальных — желанием позднего компилятора произвести впечатление на аудиторию, а вовсе не обращением к неким «древнейшим» источникам.
Немаловажна и литературно-художественная сторона жития Владимира Особого состава. Еще Н. И. Серебрянский характеризовал добавления Плигинской редакции как «антилитературные» и отмечал грубое просторечие ее речевых оборотов [Серебрян-ский, 1915, 71]. Например, фразы в описании крещения киевлян: «и заганивая в реку их аки стада», или «иные стояще в реце по шею, а иные стояху по пазухи», или крещение войска «в речке». Действительно, простонародная грубость сцен и выражений Особого жития бросается в глаза, так же как нагнетание деталей, которые усиливали психологическое воздействие на читателя. Из этого можно заключить, что дошедшие до нас списки ЖОС создавались не слишком разборчивым сочинителем для такой же простонародной аудитории, вкусу которой потрафляли 12 жен (вместо пяти) и 800 наложниц, изнасилование княжеской дочери на глазах привязанных к столбу родителей, услужливость — вплоть до предательства — княжеского «раба», крещение в «речке», угроза смертью в случае непослушания княжеской воле и вообще тяготение к силовым методам решения проблем. Все это выдает реалии и атмосферу второй половины XVI–XVII вв. В Х в. киевский князь еще не располагал ни моральным авторитетом, ни военной силой, чтобы покарать киевлян в случае массового неповиновения его воле. Для периода XVI–XVII вв. массовый террор и силовые методы воздействия на общество со стороны власти стали обычной практикой. В ЖОС нашли отражение представления о прерогативах и границах государственной власти позднего, а не раннего Средневековья. Более того. Если авторы XI–XII вв. (митрополит Иларион, Иаков мних, летописец) неизменно подчеркивали милосердие князя Владимира (не казнил разбойников, потому что боялся греха), его щедрость и широкую социальную политику в отношении неимущих, то авторы ЖОС, наоборот, находят удовольствие в смаковании сцен жестокости и насилия. Таким образом, даже образный строй ЖОС и его психологический настрой весьма далек от представлений о христианском правителе X–XII вв. и несет отпечаток силового менталитета позднего Средневековья.
При этом очевидно, что оба составителя двух известных вариантов ЖОС были людьми малограмотными не только в литературном, но и в историческом плане. Так, Н. Серебрянский отмечал «странную попытку» составителя версии из летописного сборника Публичной библиотеки связать все события с Корсунью и отсутствие упоминаний о Царьграде. Это приводит к противоречию в тексте, в котором присутствует две Корсуни: одна взята Владимиром, а во второй правят греческие цари Василий и Константин. Корсунь обозначена никогда не фигурировавшей в древнерусских источниках формой Херсунь. Анна названа «великой княгиней», в то время как в русской письменности за ней всегда сохранялся царский титул [Серебрянский, 1915, 69]. Странно, что сам Серебрянский не делал никаких внятных выводов из этих «странностей»: «Херсунь» вместо «Корсунь», две «Херсуни», незнание местонахождения и названия столицы «греческих царей», «княгиня» вместо «царицы». Все это явно указывает на малограмотность компилятора, который был далек от описываемой эпохи и не имел понятия об исторической достоверности. Видимо, Серебрянский не мог допустить банального невежества в составителе жития, потому и назвал деликатно эти псевдоисторические упражнения автора «странностями».
Итак, подведем итог. Какие признаки выдают позднее происхождение жития Владимира Особого состава?
– Отсутствие элементов ЖОС в составе проложных житий ранее конца XV в., а списков самого жития — ранее XVII в.;
– маргинальный характер жития, никогда не включавшегося в официальные прологи и дошедшего только в составе различных сборников;
– наличие поздних лексических анахронизмов (Владимеръ, ярлык, вариженин, Херсунь);
– наличие содержательных анахронизмов (именование князя Владимира «самодержцем», «государем», «равноапостольным», его слуг — рабами, правителя
Херсона — князем, войска Владимира — черными людьми; греческий митрополит в Киеве Х в.);
– наличие заимствований из поздних летописей конца XIV–XV вв., Хронографа 1512 г. и житий XVI в.;
– наличие в ЖОС многочисленных добавлений, распространяющих традиционный житийный рассказ о Владимире (варяг Ждьберн, воевода Олег, 12 жен вместо пяти, сватовство к дочери корсунского князя, изнасилование в отместку за отказ, убийство ее родителей, 9-месячная осада Херсона вместо 6-месячной, кожная болезнь князя Владимира в дополнение к глазной, «рыбья чешуя» в добавление к просто «чешуе», угроза смерти в случае неявки на публичное мероприятие);
– отражение в ЖОС представлений о полномочиях государственной власти не раннего, а позднего Средневековья.
Вероятнее всего, в основе известных списков ЖОС лежало некое аналогичное сочинение конца XV в. Но его исходный вид нам неизвестен. Что касается дошедших до нас списков, то они несут печать даже не XV в., а более позднего времени (на что прямо указывают заимствования из Хронографа 1512 г. и параллели с источниками XVI–XVII вв.). Таким образом, многочисленные анахронизмы двух списков Особого жития Владимира, наличие заимствований и параллельных мест с поздними летописно-агиографическими памятниками конца XV–XVII в., употребление слов и титулатуры, не применявшихся в XI–XIV вв., отсутствие следов существования текста ранее конца XV в., — все это говорит за то, что этот вульгарный апокриф появился на свет не ранее второй половины XV в. Причина, которая заставляла А. А. Шахматова вопреки фактам и логике усматривать в этой безвкусной, грубой и лоскутно скроенной компиляции создание «глубокой древности» и объявлять Житие Особого состава древнейшей версией Корсунской легенды, понятна. Это — закоренелый норманизм автора, для которого наличие упоминаний о варягах служило главным и определяющим признаком древности источника.
Список литературы Житие Владимира особого состава - апокриф позднего Средневековья
- Бегунов (1965) - Бегунов Ю. К. Памятник русской литературы "Слово о погибели Русской земли". М.; Л., 1965. 231 с.
- Василик (2015) - Василик В. В., диакон. Образ святого равноапостольного Владимира как царя в древнерусской гимнографии // Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Вып. 3. 2015. С. 169-175.
- Водов (2002) - Водов В. Титул "царь" в северо-восточной Руси в 1440 - 1460 гг. и древнерусская литературная традиции // Из истории русской культуры. М.: Языки славянской культуры, 2002. Т. 2. Кн. 1. С. 543-553.
- Воскресенская (2001) - Воскресенская летопись // ПСРЛ. Т. 7. М.: Языки русской культуры, 2001. 360 с.
- Зимин (1963) - Зимин А. А. Память и похвала Иакова Мниха и Житие князя Владимира по древнейшему списку // Краткие сообщения института славяноведения. Вып. 37. М.: АН СССР, 1963. С. 66-75.
- Ипатьевская (1998) - Ипатьевская летопись // ПСРЛ. Т. 2. М.: Языки русской культуры, 1998. 648 с.
- Карпов (2015) - Карпов А. Ю. Владимир Святой. М.: Молодая гвардия, 2015. 454 с.
- Лаврентьевская (1997) - Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. Т. 1. М.: Языки русской культуры, 1997. 496 с.
- Милютенко (2008) - Милютенко Н. И. Святой равноапостольный князь Владимир и крещение Руси. Древнейшие письменные источники. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2008. 576 с.
- Милютенко (2014) - Милютенко Н. И. Литературный цикл о князе Владимире: книга А. А. Шахматова в свете историографической традиции и новейших исследований // Шахматов А. А. Жития князя Владимира: Текстологическое исследование древнерусских источников XI - XVI вв. [Подгот. текста, предисл., вступ. статья Н. И. Милютенко; отв. ред. Д. М. Буланин]. СПб.: Дмитрий Буланин, 2014. С. 13-96.
- Никоновская (2000) - Никоновская летопись // ПСРЛ. Т. 9. М.: Языки русской культуры, 2000. 288 с.
- НПЛ (2000) - Новгородская первая летопись старшего и младшего извода // ПСРЛ. Т. 3. М., 2000. 564 с.
- ОЖВ (2014) - Обычное Житие Владимира // Шахматов А. А. Жития князя Владимира: Текстологическое исследование древнерусских источников XI-XVI вв. СПб.: Дмитрий Буланин, 2014. С. 207-293.
- ПБ (2014) - Житие Владимира Особого состава. (Список Публичной библиотеки) // Шахматов А. А. Жития князя Владимира: Текстологическое исследование древнерусских источников XI-XVI вв. СПб.: Дмитрий Буланин, 2014. С. 318-320.
- ПЖВ (2014) - Проложное житие Владимира // Шахматов А. А. Жития князя Владимира: Текстологическое исследование древнерусских источников XI-XVI вв. СПб: Дмитрий Буланин, 2014. С. 131-170.
- Плигинский (2014) - Житие Владимира Особого состава. (Плигинский список) // Шахматов А. А. Жития князя Владимира: Текстологическое исследование древнерусских источников XI-XVI вв. СПб.: Дмитрий Буланин, 2014. С. 316-317.
- РПЖ (2014) - Распространенное Проложное житие // Шахматов А. А. Жития князя Владимира: Текстологическое исследование древнерусских источников XI-XVI вв. СПб.: Дмитрий Буланин, 2014. С. 191-194.
- Серебрянский (1915) - Серебрянский Н. И. Древнерусские княжеские жития. Обзор редакций и тексты. М., 1915. 494 с.
- Славнитский (1888) - Славнитский М. Канонизация св. князя Владимира и службы ему по памятникам XIII - XVII веков // Странник. СПб., 1888. Т. 2. № 6/7. С. 197-237.
- Сорочан (2013) - Сорочан С. Б. Византийский Херсон (вторая половина VI - первая половина X вв.). Очерки истории и культуры. Харьков; Москва, 2013. Т. 2. Ч. 1. 589 с.
- Срезневский (1893) - Срезневский В. И. Мусин-Пушкинский сборник 1414 года в копии начала XIX в. // Записки АН. СПб., 1893. Т. 72. Прил. № 5. С. 1-119.
- Срезневский (1897) - Срезневский В. И. Память и похвала князю Владимиру и его Житие по списку 1494 г. // Записки АН. СПб., 1897. Т. 1. № 6. С. 1-12.
- Тверской (2000) - Тверской сборник // ПСРЛ. Т. 15. М.: Языки русской культуры, 2000. 432 с.
- Филюшкин (2006) - Филюшкин А. И. Титулы русских государей. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2006. 254 с.
- Шахматов (1908а) - Шахматов А. А. Корсунская легенда о крещении Владимира // Сб. статей, посвященный профессору В. И. Ламанскому. СПб., 1908. Ч. 2. С. 1029-1153.
- Шахматов (1908б) - Шахматов А. А. Один из источников летописного сказания о крещении Владимира // Сб. статей по славяноведению, посвященных профессору М. С. Дринову. Харьков, 1908. С. 63-74.
- Шахматов (2003) - Шахматов А. А. Корсунская легенда о крещении Владимира // Шахматов А. А. История русского летописания. СПб.: Наука, 2003. Т. 1. Кн. 2. С. 305-379.
- Шахматов (2014) - Шахматов А. А. Жития князя Владимира: Текстологическое исследование древнерусских источников XI-XVI вв. [Подгот. текста, предисл., вступ. статья Н. И. Милютенко; отв. ред. Д. М. Буланин]. СПб.: Дмитрий Буланин, 2014. 384 с.
- Щапов (1976) - Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв. / Изд. подг. Я. Н. Щапов. М.: Наука, 1976. 240 с.