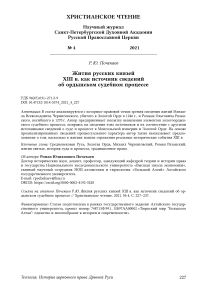Жития русских князей XIII в. как источник сведений об ордынском судебном процессе
Автор: Почекаев Роман Юлианович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История церковного права Древней Руси
Статья в выпуске: 4 (99), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются с историко-правовой точки зрения сведения житий Михаила Всеволодовича Черниговского, убитого в Золотой Орде в 1246 г., и Романа Ольговича Рязанского, погибшего в 1270 г. Автор предпринимает попытку выявления элементов золотоордынского судебного процесса, опираясь на сведения этих источников и их соотнесение с другими источниками сведений о суде и процессе в Монгольской империи и Золотой Орде. На основе проанализированных сведений процессуального характера автор также высказывает предположение о том, насколько в житиях нашли отражения реальные исторические события XIII в.
Средневековая русь, золотая орда, михаил черниговский, роман рязанский, жития святых, история суда и процесса, традиционное право
Короткий адрес: https://sciup.org/140290125
IDR: 140290125 | УДК: 94(47).031+271.2-9 | DOI: 10.47132/1814-5574_2021_4_227
Текст научной статьи Жития русских князей XIII в. как источник сведений об ордынском судебном процессе
Financing: The article is written with the financial support of Altai State University, project No. 748715Ф.99.1. BBБ97АА00002 “Turkic world of the “Great Altai”: unity and diversity throghout history and today”.
Жития (или сказания об убиении) русских князей, казненных в Золотой Орде в XIII в., безусловно, являются в первую очередь памятниками агиографии и духовной культуры. Вместе с тем они уже довольно длительное время используются историками как источники о первых контактах золотоордынских и русских правителей, о проблемах взаимодействия совершенно разных культур и верований. Однако, как представляется, это гораздо более сложные и многоплановые тексты, в связи с чем они заслуживают дополнительного внимания и со стороны историков и представителей смежных наук.
В настоящем исследовании мы намерены проанализировать жития (или сказания об убиении в Орде) Михаила Всеволодовича Черниговского (†1246) и Романа Ольговича Рязанского (†1270) как источник сведений о судебном процессе в Золотой Орде. Как представляется, такой анализ, с одной стороны, позволит выявить элементы золотоордынского суда и правосудия в XIII в., с другой — до некоторой степени подтвердить степень историчности описанных в житиях событий. До сих пор такого исследования этих источников, насколько нам известно, не производилось, а между тем, как известно, в церковном праве судебный процесс был весьма детально проработан, так что не приходится удивляться, что авторы житий (представители духовенства) могли весьма квалифицированно зафиксировать те или иные процессуальные аспекты «дела» того или иного князя.
Суд, который был. История гибели Михаила Всеволодовича Черниговского в Золотой Орде уже многократно становилась предметом специальных исследований, при этом специалисты проводили текстуальный анализ жития, разбирались с причинами казни в Орде этого князя (называя в качестве таковых как религиозные, так и политические), даже пытались реконструировать монгольские религиозные установления, которые, по мнению исследователей, мог нарушить князь, за что и поплатился жизнью1.
Согласно житию, Михаил Всеволодович Черниговский, как и многие князья в этот период времени (Ярослав Всеволодович Владимирский, Даниил Романович Галицкий и другие, менее значительные), прибыл в Золотую Орду для признания вассалитета и получения подтверждения права на свои владения, которые после походов 1237–1241 гг. попали в сферу влияния Монгольской империи в лице правителя ее западного удела (Улуса Джучи) — Бату2. По прибытии в ставку Бату он получил указания совершить ряд ритуалов, по прохождении которых имел право на получение аудиенции у золотоордынского правителя — согласно житийным сведениям, это были проход между огней, поклонение «кусту» и «идолам». Различные авторы уже предпринимали попытки ответить на вопрос, что именно представляли собой эти ритуалы, но для нашего исследования это не столь важно, достаточно отметить, что по какой-то причине Михаил Всеволодович отказался совершить эти ритуалы. После ряда увещеваний со стороны не только собственных родственников и приближенных, но даже и со стороны монголов он заявил, что скорее примет смерть, чем поклонится языческим идолам, тем самым нарушив принципы христианской веры3.
В результате князь Михаил Всеволодович был мучительно казнен, войдя в историю как один из первых князей-мучеников, погибших по воле ордынских властителей (см.: (ПСРЛ-7, 2001, 153–156; Сказание, 1981, 228–235)).
По мнению исследователей, версия о его мученичестве за веру стала распространяться уже вскоре после его гибели — вероятно, его спутниками, везшими тело князя из Орды и изложившими историю происшедшего именно в таком контексте встретившимся им по пути Иоанну де Плано Карпини и Бенедикту Поляку, посланцам Папы Римского, которые в результате выступили «невольными свидетелями» мученичества князя в глазах исследователей4. Окончательно «житийный» вариант его гибели сложился в 1270-е гг., причем не в Южной Руси, не на Черниговщине, а в Ростовском княжестве, где правили его дочь Мария и внуки Борис (ставший свидетелем гибели деда) и Глеб [Лосева, 2009, 244, 251; Рудаков, 2009, 103; Dimnik, 2003, 374–375]. В результате Михаил Всеволодович Черниговский, достаточно авторитетный князь, но все же проигрывавший по политической значимости таким своим современникам, как Даниил Галицкий, Александр Невский и др., и не получивший достаточно подробных характеристик в «светской» истории, стал одним из самых значимых русских святых князей-мучеников, почитаемых в истории духовной [Мартынюк, 2018, 273-279]5. И, как ни парадоксально, в исследованиях XIX в. именно эта версия была признана достоверной и передавалась историками.
Довольно экстравагантной представляется версия П. О. Рыкина, высказавшего предположение, что Михаил Черниговский нарушил монгольские религиозные нормы — не пройдя через огонь, он продемонстрировал готовность внести «внешний хаос» в «упорядоченный монгольский социум», тем самым нанеся оскорбление монгольскому правителю и его приближенным и сделав их уязвимыми для возможных магических атак. Именно за это он был быстро и жестоко казнен — причем также ритуальным способом, чтобы «нейтрализовать» причиненный им сакральный вред (подр. см.: [Рыкин, 1997]). Впрочем, другие авторы уже обращали внимание, что, несмотря на экзотичность трактовки, версия П. О. Рыкина базируется на том же безусловном доверии сведениям жития (см.: [Юрченко, 2012, 268]).
В последние годы исследователи все больше склоняются к легендарности такой версии, приводя обоснованные доводы в пользу политических причин убийства князя Михаила. Среди таковых называют и убийство им монгольских послов в Киеве в 1239 г. [Горский, 2006, 145; Юрченко, 2012, 268–269], и призыв к крестовому походу против монголов на Лионском соборе в 1245 г. [Гумилев, 1992, 351], и даже — личное участие в борьбе с монголами во время их похода на Европу и, в частности, в битве при Легнице [Майоров, 2015, 111–112, 114–115]. Мы в свое время также предложили свое объяснение расправы с черниговским князем, который самим своим существованием стал препятствием для распространения непосредственного контроля ордынских правителей на земли Черниговского княжества [Почекаев, 2018, 159–161].
Однако сам ход разбирательства дела Михаила Черниговского в Золотой Орде до сих пор не привлекал внимания исследователей. Более того, некоторые авторы прямо утверждают, что никакого суда над князем в Орде не было [Горский, 2006, 153].
Подтверждается ли это данными жития Михаила Черниговского? Попытаемся ответить на этот вопрос.
Прибытие князя в ставку Бату и начало его переговоров с представителями правителя было достаточно стандартным для большинства русских князей и пока никакого отношения к судебному процессу не имело. «Состав преступления», согласно житию, заключался в демонстративном отказе выполнить необходимые ритуалы, о смысле и содержании которых Михаил Всеволодович имел достаточное представление как от ранее совершавших их русских князей, так и от самих монголов (см.: [Горский, 2006, 143–144; Юрченко, 2012, 263]). Этот отказ он выразил перед «волхвами», т. е. ордынскими священнослужителями. Те, по сути, «возбудили уголовное дело», сообщив о факте нарушения князем установленного порядка ордынским властям в лице самого Бату, передав и слова Михаила, которыми тот мотивировал свои действия (ПСРЛ-7, 2001, 154; Сказание, 1981, 231)6.
Стадия «предварительного следствия» нашла отражение в действиях «стольника Елдеги» — лица, уполномоченного самим Бату проверить, насколько соответствуют показания «волхвов» реальности. «Следователь» встретился с Михаилом и на всякий случай уведомил его об ответственности, которая предусматривалась за подобные нарушения: фактически Михаилу давался шанс представить свое деяние как результат заблуждения и исправиться7. Однако князь перед лицом и самого представителя властей, и перед многочисленными свидетелями («стоящима же има на месте том, множество христиан и поганых слышахом словеса сия») только подтвердил свою позицию, дав тем самым необходимые доказательства своей вины и позволив ордынскому правителю принять дело к рассмотрению и вынести приговор (ПСРЛ-7, 2001, 154–155; Сказание, 1981, 233, 235).
Некоторые авторы, отрицая факт суда, указывают, что сам Бату в этом деле как бы и не участвовал, передав все полномочия по взаимодействию с Михаилом и пр. «стольнику Елдеге» (см.: [Рудаков, 2009, 109, 110]). Однако это не совсем так. Отказавшись выполнить вышеупомянутые ритуалы, черниговский князь не прошел церемонию «очищения», только после которой лица, прибывавшие на прием к ордынскому правителю, получали право быть допущенными к нему лично (см.: [Юрченко, 2012, 263])8. Соответственно, князь сам лишил себя права взаимодействовать непосредственно с Бату, волю которого излагал его представитель Елдега. Кстати, житие постоянно указывает на то, что и «волхвы», и «стольник» адресовали услышанное от князя непосредственно ордынскому правителю, так что не приходится сомневаться, что он контролировал весь процесс «предварительного следствия» и, в конечном счете, вынес приговор.
Согласно житию, черниговского князя умертвили весьма мучительным способом: его, «растягоша за руце и за нозе», «нача его руками бити по сердцу», а затем, повалив на землю, «бьяхуть его пятами», т. е. фактически забили до смерти. После этого некий путивлец Доман отрезал уже мертвому князю голову (ПСРЛ-7, 2001, 155–156; Сказание, 1981, 235). Позволим себе не вполне согласиться с утверждением А.Г. Юрченко, что «Михаила убили не по-монгольски, а обезглавили труп по-монгольски»: забивание до смерти представляло собой один из способов казни «без пролития крови», распространенных среди монголов. Что же касается отрезания головы, то тут, на наш взгляд, стоит обратить внимание не столько на факт ее отрезания9, сколько на то, кто именно это сделал. Доман — уроженец Путивля, т. е. города, входившего в состав Черниговского княжества: полагаем, выбор пал именно на него, чтобы показать, что даже соотечественники приговоренного не одобряют того деяния, за которое он был казнен.
Нельзя не вспомнить, что другой черниговский князь, Андрей Мстиславич, был примерно в то же время казнен в Орде как «конокрад», а его младшего брата принудили жениться на его вдове, что было вопиющим нарушением православных церковных канонов. Такая политика дискредитации именно черниговских князей в глазах их собственных подданных, на наш взгляд, преследовала уже упомянутую цель — отстранить местную правящую династию от власти и взять Черниговщину под свой непосредственный контроль [Почекаев, 2018, 161–162]. Рискнем высказать предположение, что даже фраза, приписываемая Михаилу Всеволодовичу автором жития: «не хощу токмо именем зватися християнин, а дела творити поганых», могла в реальности отражать именно его нежелание числиться «номинальным» правителем собственной земли под непосредственным контролем ордынских наместников. Не забудем, что как раз после смерти князя Михаила Всеволодовича Черниговское княжество прекратило свое существование, разделившись на четыре независимых удела под властью его сыновей…
Итак, как представляется, описание обстоятельств гибели князя Михаила Всеволодовича Черниговского достаточно скрупулезно отражает основные стадии ордынского процесса — от установления факта совершения преступления до вынесения приговора и даже особенностей его приведения в исполнение. Само преступление, за которое последовало столь суровое и мучительное наказание, по-прежнему не может быть выявлено достаточно четко: слишком уж противоречивыми представляются сведения жития и других источников для окончательного вывода. Однако в рамках данного исследования этот вопрос не важен, поскольку нас интересовали именно сами процессуальные действия.
В завершение анализа жития Михаила Черниговского ответим на еще один поставленный в начале исследования вопрос — об историчности сведений. Несмотря на очевидные агиографические «штампы», представляется, что описание обстоятельств гибели князя вполне отражает реальные события, на что указывает целый ряд сведений.
Во-первых, обращают на себя внимание детали, связанные с прибытием князя Михаила в Орду, описание разного рода ритуалов для встречи новоприбывших с целью последующего их доступа к правителю.
Во-вторых, в житии фигурируют не только сам князь Михаил и его боярин Федор, разделивший его судьбу (и также причисленный к лику святых), но и другие исторические деятели, пребывавшие в то время в ставке правителя Улуса Джучи. Это — сам Бату и его сын Сартак, внук черниговского князя — ростовский князь Борис Василькович. Ну и главное, представитель правителя, осуществлявший процессуальные действия, «стольник Елдега» — также не символический персонаж, а реальный деятель. Согласно Рашид ад-Дину, эмир Элдэкэ из племени джурьят был пасынком Байху-хушина, от которого унаследовал должность предводителя войск правого крыла Улуса Джучи, т. е. он занимал весьма высокое положение в золотоордынском войске (Рашид ад-Дин, 1952, 172) и, следовательно, при ханском дворе. Папский посланец Иоанн де Плано Карпини упоминает, что его по прибытии в ставку Бату встречал Елдегай, «его управляющий» (Плано Карпини, 1997, 72), что примерно и соответствует должности «стольник», под которой он фигурирует в житии10. Полагаем, упоминание конкретного сановника также является доводом в пользу того, что в житии отражены реальные события.
Наконец, сами подробности разбирательства дела князя, как представляется, дают основания считать события реальными, поскольку мы наблюдаем ряд действий процессуального характера, которые известны нам и по другим источникам — в частности, такой способ сбора доказательств, как взаимодействие в форме «вопрос — ответ» между обвинителем (или самим судьей) и подсудимым, по итогам которого та сторона, которая была менее убедительна, признает правоту другой. Подобные действия описываются как в средневековых летописных сочинениях, например в «Сборнике летописей» Рашид ад-Дина (Рашид ад-Дин, 1952, 95-96), так и в монгольском фольклоре (см.: [Носов, 2015]).
Именно эти указания и позволили нам назвать исследование сведений жития Михаила Черниговского «Суд, который был».
Суд, которого не было. Немногим менее значимым событием для духовной истории Руси XIII в. стала мученическая гибель Романа Ольговича Рязанского, имевшая место в 1270 г. Как и смерть Михаила Всеволодовича Черниговского, это событие привлекло внимание летописцев, послужило основанием для создания житийного произведения и нашло некоторое отражение в исследовательских работах. Хотя, учитывая куда меньшую значимость этого правителя, не приходится удивляться, что ему уделено гораздо меньше внимания и в историографии.
Житийный вариант описания гибели Романа Рязанского приводится впервые лишь в Никоновской летописи, которая содержит как сведения о причинах жестокой казни князя, так и подробное описание ее самой (см.: [Экземплярский, 1891, 573]). Согласно этому источнику, князь был «оклеветан» перед золотоордынским «царем» в том, что «хулит царя» и «ругается вере» ордынцев. Когда князя вызвали в ханскую ставку, его подвергли пыткам, заставляя отречься от христианства и принять «веру бе-серменскую», т. е. ислам, но он лишь отвечал, что его вера истинная, а «татарская вера погана есть». Тогда ему отрезали язык и, вставив в рот деревяшку, «начаша резати по суставом», а затем «одраша коду от главы его и на копие взоткнуша» (ПСРЛ-10, 2000, 149-150). Мученическая гибель позволила причислить Романа Ольговича Рязанского к лику святых.
В историографии, как уже отмечалось, судьбе Романа Рязанского уделено куда меньше внимания, чем судьбе Михаила Черниговского. Возможно, именно поэтому историки лишь кратко упоминают о его убийстве как «типичном» примере жестокости и самовластия ордынских ханов, столь часто и по надуманным обвинениям казнивших «оклеветанных» русских князей. Таким образом, если житийный вариант убийства Михаила Черниговского, как отмечалось выше, все больше вызывает у исследователей сомнения, аналогичное агиографическое описание смерти Романа Рязанского в Орде почему-то пользуется полным доверием даже у современных историков (см., напр.: [Борисов, 2005, 67; Кривошеев, 2015, 296; Селезнев, 2014, 362–363]), включая и церковную историографию (см., напр.: [Афанасьев, 2005]).
П. О. Рыкин, об оригинальной работе которого, посвященной обстоятельствам гибели Михаила Черниговского, мы упоминали выше, посвятил еще более развернутое исследование истории убийства Романа Рязанского. Взяв за основу все то же житийное сообщение, исследователь привел целый ряд примеров применения аналогичной казни из опыта других монгольских государств XIII–XIV вв. В итоге он приходит к выводу, что если версия о казни за нежелание менять веру выглядит надуманной
(с учетом веротерпимости монголов и особенно потому, что «бесерменскую веру» они приняли лишь в 1320-е гг., т. е. полвека спустя после гибели Романа Ольговича), то обвинения в «хулении царя» и «поношении его веры» могли действительно иметь место, и за них могла последовать именно такая казнь (см.: [Рыкин, 2005]).
Несмотря на то, что построения П. О. Рыкина вызвали критику других авторов за его доверие к агиографической версии описания событий (см., напр.: [Юрченко, 2012, 276–277]), нельзя не отметить, что он вполне обоснованно обратил внимание на то, что в летописной традиции имеются две версии гибели рязанского князя: первая — просто про убийство татарами, вторая — про убийство в ставке ордынского «царя» [Рыкин, 2005, 62–63]. Собственно, именно это наблюдение привело нас к определенным предположениям, которые мы намерены проверить ранее испробованным методом — анализом описания ордынского процесса.
В самом деле, на первый взгляд, как и в случае с Михаилом Черниговским, мы видим определенную последовательность действий: князя «оклеветали», тем самым дав повод для начала следственных действий. Вызов в Орду и даже последовавшие пытки — по сути, следственные действия с использованием традиционных для Средневековья средств получения доказательств11. Получив подтверждение в том, что князь «хулит веру» царя, князя подвергли жестокой казни. Подробное ее описание, казалось бы, также свидетельствует о достоверности описываемых событий, но…
Во-первых, сравнивая описание суда над рязанским князем с судом над черниговским, нельзя не обратить внимания на «схематичность» описания при изложении событий 1270 г. Если в «деле» Михаила Черниговского упоминается целая группа исторических деятелей — как правители, так и сановники (в лице «Елдеги»), то в «деле» Романа Рязанского идентифицирован только он сам. Даже ордынский «царь» ни разу не назван по имени12. Тем более речи не идет ни о каких сановниках или свидетелях убийства князя. Более того, с чисто процессуальной точки зрения следует особо подчеркнуть, что слова князя, полученные вроде бы под пыткой (т. е. его показания!), не были переданы его мучителями ни «царю», ни иным представителям ордынских властей, в результате чего казнь выглядит даже не как исполнение официального приговора, сколько как самовольное действие самих же «следователей»!
Во-вторых, вспомним об упомянутых П. О. Рыкиным двух летописных версиях гибели Романа Ольговича — лишь согласно второй из них (в Никоновской летописи) князь погибает в резиденции «царя». Первая версия лишь кратко упоминает о его гибели от рук «поганых татар», хотя подробности казни все равно приводятся (см., напр.: (ПСРЛ-25, 1949, 150))13.
По нашему мнению, источник столь подробного описания казни вполне очевиден, поскольку и сами авторы обеих версий сказания об убиении рязанского князя его не скрывают, проводя прямую параллель между Романом Рязанским и раннехристианским мучеником Иаковом Персидским, который в IV в. по Р. Х. был казнен таким же способом по приговору персидского шаха Йездигерда14. Таким образом, красочное описание казни Романа Ольговича, создающее обманчивое впечатление достоверности события, — скорее всего, агиографический прием, которыми наполнены жития древнерусских святых, в т. ч. и князей.
Историки Рязанского княжества отмечают практически полное отсутствие сведений о Рязанском княжестве в период княжения Романа Ольговича и позднее, т. е. во второй половине XIII — первой половине XIV вв., за исключением имен и примерной хронологии правления князей (см.: [Иловайский, 1884, 156; Экземплярский, 1891, 573])15. Те же отрывочные сведения, которые имеются, свидетельствуют исключительно о покорности рязанских правителей воле хана, выполнении всех его требований [Иловайский, 1884, 154] — какая уж тут «хула на царя»!
Вместе с тем в источниках встречаются упоминания, с одной стороны, о конфликтах самих представителей рода рязанских князей, не брезговавших и убийствами близких родственников16, с другой — о периодических набегах ордынских отрядов в рязанские пределы17. Опираясь на эти косвенные сведения, можно с большой долей вероятности допустить, что Роман Ольгович пал жертвой одного из таких татарских набегов — либо при попытке противостоять грабителям, либо по наговору кого-то из своих многочисленных родственников. Во всяком случае, никакого суда в Орде над ним точно не было.
Вероятно, именно эта скудость летописной информации и позволила создать легенду о мученической гибели Романа Ольговича, поскольку доказательств ее истинности было столько же, сколько и аргументов против нее, — нисколько! Желание же сделать из Романа Рязанского почитаемого святого также выглядит вполне объяснимым: авторы обеих версий проводят параллель не только с Иаковом Персидским, но и со «сродственником» Романа — Михаилом Черниговским. Нет сомнения, что рязанскому княжескому дому хотелось иметь в роду не менее почитаемого князя-мученика, чем уже имелся в старшей ветви их семейства — у потомков князей черниговских!
Итак, несмотря на некоторые «правдоподобные» элементы сказания об убиении Романа Ольговича Рязанского, мы приходим к однозначному выводу о легендарности описываемых событий. Именно эти соображения и позволили нам назвать исследование сведения жития Романа Рязанского «Суд, которого не было». Тем не менее, элементы процессуального характера, на наш взгляд, представляют определенную важность и могут быть использованы при дальнейшем изучении золотоордынского судебного процесса.
Список литературы Жития русских князей XIII в. как источник сведений об ордынском судебном процессе
- Иаков Ворагинский (2018) — Золотая легенда / Пер. И.И. Аникьева и И.В. Кувшинской. М.: Изд-во Францисканцев, 2018. Т. II. 680 с.
- Идегей (1990) — Идегей: Татарский народный эпос / Пер. С. Липкина. Казань: Татарское книжное изд-во, 1990.
- Киракос (1976) — Киракос Гандзакеци. История Армении / Пер. с древнеарм., предисл. и коммент. Л. А. Ханларян. М.: Наука, 1976. 358 с.
- Иероним Алякринский (1889) — Рязанские достопамятности, собранные архимандритом Иеронимом / Прим. И. Добролюбова. Рязань: Фото-типолитография Н. Д. Малашкина, 1889. 129 с.
- Носов (2015) — Носов Д.А. Рукопись монгольской сказки «О старике Боронтае» из собрания ИВР РАН / Пред., транскр., пер. с монг., прим. // Письменные памятники Востока. 2015. №1 (22). С. 5-11.
- Плано Карпини (1997) — Плано Карпини И. де. История монгалов / Пер. А. И. Малеина, вступит. ст., коммент. М. Б. Горнунга // Путешествия в восточные страны. М.: Мысль, 1997. С. 28-85.
- ПСРЛ-7 (2001) — Полное собрание русских летописей. Т.VII: Воскресенская летопись. М.: Языки русской культуры, 2001. 360 с.
- ПСРЛ-10 (2000) — Полное собрание русских летописей. Т. X: Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. М.: Языки русской культуры, 2000. 248 с.
- ПСРЛ-25 (1949) — Полное собрание русских летописей. Т. XXV: Московский летописный свод конца XV века. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. 464 с.
- Рашид ад-Дин (1952) — Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. I. Кн. 1 / Пер. с перс. Л. А. Хетагурова; ред. и примеч. А. А. Семенова. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. 221 с.
- Рашид ад-Дин (1960) — Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. II / Пер. с перс. Ю. П. Верховского, примеч. Ю. П. Верховского и Б. И. Панкратова, ред. И. П. Петрушевский. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. 253 с.
- Сказание (1981) — Сказание о убиении в Орде князя Михаила Черниговского и его боярина Феодора / Подг. текста, пер. и коммент. Л. А. Дмитриева // Памятники литературы Древней Руси. XIII век. М.: Художественная литература, 1981. С. 228-235.
- Juvaini (1997) — Juvaini Ata-Malik. The History of the World-Conqueror / Transl. from text of Mirza Muhammad Qazvini by J. A. Boyle, introduction and bibliography by D. O. Morgan. Manchester: Manchester University Press, 1997. LXVII + 763 р.
- Афанасьев (2005) — Афанасьев В. За верность Христу расчлененный. 735 лет со дня казни 19 июля 1270 г. св. блгв. князя Романа Рязанского // Русский вестник. 22.07.2005. URL: http://www.rv.ru/content.php3?id=5808 (дата обращения: 13.09.2021).
- Борисов (2005) — Борисов Н. С. Иван Калита. М.: Молодая гвардия, 2005. 302 с.
- Горский (2006) — ГорскийА.А. Гибель Михаила Черниговского в контексте первых контактов русских князей с Ордой // Средневековая Русь. Вып. 6. М.: Индрик, 2006. С. 138-154.
- Гумилев (1992) — Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. М.: Клышников, Комаров и Ко, 1992. 512 с.
- Иловайский (1884) — Иловайский Д.И. История Рязанского княжества. М.: Университетская типография, 1884. VI + 329 с.
- Кривошеев (2015) — КривошеевЮ.В. Русь и монголы: исследование по истории Северо-Восточной Руси XII-XIV вв. 3-е изд., испр. и доп. СПб.: Академия исследования культуры, 2015. 452 с.
- Лосева (2009) — Лосева О. В. Жития русских святых в составе древнерусских прологов XII — первой трети XV веков. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. 472 с.
- Майоров (2015) — МайоровА.В. Тайна гибели Михаила Черниговского // Вопросы истории. 2015. № 9. С. 95-118.
- Мартынюк (2018) — МартынюкА.В. «Неявленные мученики»: к пониманию образа святого Михаила Всеволодовича, князя черниговского // Colloquia Russica. Kraków, 2018. Ser. I. Vol. 8. S. 273-279.
- Почекаев (2018) — Почекаев Р.Ю. Батый. Хан, который не был ханом / 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Евразия, 2018. 320 с.
- Рудаков (2009) — РудаковВ.Н. Монголо-татары глазами древнерусских книжников середины XIII-XV вв. М.: Квадрига, 2009. 248 с.
- Рыкин (1997) — Рыкин П.О. Гибель князя Михаила Черниговского в свете традиционных монгольских верований // Россия и Восток: Традиционная культура, этнокультурные и этносоциальные процессы. Материалы IV международной научной конференции «Россия и Восток: проблемы взаимодействия. Омск: Омский ф-л Объединенного ин-та истории, филологии и философии, 1997. С. 85-89.
- Рыкин (2005) — Рыкин П. О. Монгольский средневековый ритуал в летописном рассказе об убийстве князя Романа Рязанского (1270 г.): опыт интерпретации // Nomadic Studies. 2005. № 11. C. 62-73.
- Селезнев (2014) — СелезневЮ.В. Русские князья в политической системе Джучиева Улуса (Орды). Дис. ... докт. ист. наук. Воронеж: Б. и., 2014. 595 с.
- Соловьев (1998) — Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М.: Мысль, 1988. Т. 3-4. 765 с.
- Срезневский (2003) — СрезневскийИ.И. Материалы для Словаря древнерусского языка. М.: Знак, 2003. Т. III. 1000 с.
- Юрченко (2012) — Юрченко А.Г. Золотая Орда: между Ясой и Кораном (начало конфликта). Книга-конспект. СПб.: Евразия, 2012. 368 с.
- Экземплярский (1891) — ЭкземплярскийА. В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период с 1238 по 1505 г. Биографические очерки. Т. 2: Владетельные князья владимирских и московских уделов и великие и удельные владетельные князья суздальско-нижегородские, тверские и рязанские. СПб.: Тип. Императорской Академии наук, 1891. X + 696 с.
- Dimnik (2003) — Dimnik М. The Dynasty of Chernigov, 1146-1246. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. XXXVIII + 437 р.