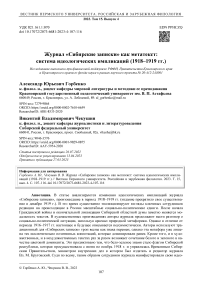Журнал «Сибирские записки» как метатекст: система идеологических импликаций (1918-1919 гг.)
Автор: Горбенко А.Ю., Чекушин В.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 4 т.15, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются изменения идеологических импликаций журнала «Сибирские записки», произошедшие в период 1918-1919 гг. (издание прекратило свое существование в декабре 1919 г.). В это время существенно эволюционируют взгляды ключевых сотрудников редакции на происходящие в России масштабные социально-политические сдвиги. После начала Гражданской войны и окончательной ликвидации Сибирской областной думы заметно меняется модальность текстов. В художественных произведениях авторы журнала продолжают вести разговор о социально-политической ситуации, используя арсенал природной метафорики. Однако в отличие от периода 1916-1917 гг. настоящее и будущее описывается пессимистически. Авторы используют традиционный для «Сибирских записок» троп весны как знака перемен, однако эта метафора уже лишена тех исключительно позитивных коннотаций, которые доминировали ранее. Кроме того, и в художественных, и в нехудожественных текстах раз за разом возникает сочетание белого и зеленого в качестве цветовой доминанты. Это продиктовано тем, что бело-зеленое знамя стало флагом Сибирской республики, которая просуществовала с июня по ноябрь 1918 г. и управлялась Временным Сибирским Правительством, министром внутренних дел в котором был издатель и редактор журнала Вл. М. Крутовский. Судя по всему, таким образом сотрудники журнала манифестировали свою идеологическую принадлежность и приверженность идеям областничества. Ключевым в этом отношении стал последний номер «Сибирских записок» за 1918 г., в котором интенсивность использования белого и зеленого цветов достигает своего пика. Так, номер открывался программным стихотворением «Гимн Сибири», в первом стихе которого бело-зеленые цвета знамени областников сопоставлялись с цветами двух ключевых компонентов сибирского пространства - «бело-зеленым морем тайги» и «белой тихой ширью».
Журнал «сибирские записки», вл. м. крутовский, сибирское областничество, метатекст, идеологические импликации
Короткий адрес: https://sciup.org/147242747
IDR: 147242747 | УДК: 821.161.1:070 | DOI: 10.17072/2073-6681-2023-4-107-116
Текст научной статьи Журнал «Сибирские записки» как метатекст: система идеологических импликаций (1918-1919 гг.)
Обсуждая причины прекращения существования журнала «Сибирскiя записки»1 (далее – СЗ ), авторы «Очерков русской литературы Сибири» (которые А. И. Разувалова точно характеризует как «издание, следовавшее принятым в официозном литературоведении принципам классификации и описания материала, но даже с учетом этого обстоятельства ставшее заметным шагом в децентрализации истории отечественной литературы» [Разувалова 2015: 266]) пишут следующее: «Если первые два года существования журнала можно по праву считать периодом его наивысшего расцвета, то начиная с 1918 г. журнал вступает в полосу кризиса, вызванного не только материальными затруднениями, но и общим тяжелым состоянием литературы в период колчаковщины. Прежде всего заметно измельчал литературно-художественный отдел журнала. За два года в нем не появилось ни одного по-настоящему значительного произведения» [Очерки 1982: 50–51]. Как видно, авторы раздела остаются внутри определяемой идеологическим давлением эпохи объяснительной схемы, что неизбежно ведет к существенному искажению картины.
Безусловным, однако, остается то, что СЗ действительно трансформировались. Одна из таких важнейших трансформаций, а именно – изменения системы идеологических подтекстов, которые наполняли публиковавшиеся в журнале художественные произведения, и будет обсуждаться в настоящей статье2. Материалом для решения этой задачи послужат все номера знакового сибирского журнала, рассматриваемого в качестве метатекста3.
На протяжении всех четырех лет существования СЗ их авторы активно использовали природную метафорику, наделенную явственными социально-политическими коннотациями. В этой связи необходимо вспомнить, что две ключевые в этом смысле метафоры – «почва» и «весна» – были важнейшими социальными и политическими тропами для «старшего» поколения сибирского областничества. Так, и Н. М. Ядринцев, и Г. Н. Потанин в целом ряде сочинений регулярно сравнивали с весной эпоху Великих реформ. Например, в потанинских «Воспоминаниях», создававшихся близко ко времени функционирования СЗ , читаем: «Счастливое тогда было время.
То была весна русской жизни, вроде так называемой “весны Святополка-Мирского”, но лучше ее» (Потанин 1983: 162–163). Ср.:
Весна шестидесятых годов была настоящая весна; то была пасхальная неделя. Царские врата раскрыты настежь, пение клиросов ликующее, лица молящихся веселые.
Летучие мыши, которые боятся света, скрылись и так глубоко запрятались в щели, что, даже близко проходя мимо их логовищ, не слышишь их специфического противного запаха. В воздухе чисто и благоуханно, на душе отрадно, и прежде всего отрадно потому, что в ней затихли враждебные чувства к политическим противникам (там же: 163)4.
Подобные метафоры активно эксплуатировались для описания социокультурных перемен и на страницах СЗ . Однако если до начала Октябрьской революции и затем Гражданской войны описания будущей социальной реальности были исполнены оптимистического пафоса, то с 1918 г. ситуация меняется. Авторы используют устоявшиеся тропы весны и сопутствующей ей Пасхи, но наполняют их уже другой семантикой.
Приведем несколько фрагментов показательного в этом отношении стихотворения К. Журавского, которое появилось в первом номере журнала за 1919 г. (характерно, что оно входит в короткую подборку из двух стихотворений, озаглавленную «Стихи о родинѣ», что автоматически дает возможность интерпретировать образный строй этих произведений в социальнополитическом ключе). В начале произведения описывается недавнее прошлое: «Помните: – // – Теплою лаской // струится солнце весны... // Пасхой красной, великой Пасхой // люди нежданно пьяны... // Толпится радостно, лѣзет // в новыя толпы народ... // Мѣдный прибой марсельезы // к солнцу зовет. // Заревыя зажглись знамена, // по-лыхаются над толпой. // Слышен голос въ толпѣ заглушенный: // – “Граждане, пой!” // Граждане пѣли. И тѣ, что сегодня // первыми жмутся въ тѣни, // искренно и свободно // святые славили дни. // – Помните?» (Журавский 1919: 45). Пасхальная топика здесь, как и у «старших» областников, сопрягается с политическим дискурсом, о чем свидетельствует, помимо всего прочего, упоминание Марсельезы, именно на француз- ский оригинал которой были положены слова популярного после Февральской революции гимна «Отречемся от старого мира».
Затем лирический субъект задается вопросом: «[о]тчего же // так скоро померкла гроза? // И новые страхи наш разум тревожат // И гаснут наши глаза? // Ужели мы снова пугливо и зябко // уйдем потихоньку по нашим домам // И знамя опустим негодною тряпкой, // И снова взойдет непроглядная тьма?» (Журавский 1919: 45). Далее Журавский задействует привычную для авторов журнала метафорику весны, однако уже в более пессимистическом духе, нежели это было в 1916–1917 гг.: «Ужели во тьмѣ мы, мечтатели, снова // Надѣяться будем на райскiе сны, // а бѣлую гостью ненужной весны // в гробик положим сосновый? // И холмик святой в назиданье времен // забьем злорадной осиной // и к алому цвѣту отживших знамен // снова пришьем – бѣлый и синiй?» (там же). Автор стихотворения использует метафору похорон, которую можно интерпретировать и как погребение революции, и – шире – как смерть России в ее послефевраль-ском виде. При этом, рисуя мрачную картину смерти России, Журавский активно эксплуатирует евангельский контекст: он уравнивает гибель родины с казнью Христа. В частности, здесь появляется чрезвычайно характерная для сибирской словесности органицистская метафорика, а именно – обреченная на гибель Россия уподоблена телу распинаемого Христа: «Уже вонзил внимательный палач // послѣдній гвоздь въ истерзанное тѣло <…>» (там же: 46). Одновременно с этим в тексте стихотворения возникает сочетание цветов, которое окажется в центре образной системы журнала (подробнее об этом речь пойдет ниже) – возврат к старому порядку описывается как реабилитация бело-синекрасного флага.
Любопытно, что «Марсельеза» (теперь уже рассмотренная сквозь интертекстуальную призму) упоминается и в статье «Трагизмъ русской революцiи» (№ 1 за 1918 г.), в которой осмысляются события октября 1917 г. Автор статьи, скрывшийся за псевдонимом М. Л. Б., рассуждает о том, почему «[у] нас разрушительный процесс революцiи быстро вышел из границ творче-скаго процесса, приняв характер анархическiй, т. е. чистаго разрушенiя без созиданiя», видя в этом «трагедi[ю] русской революцiи» (М. Л. Б. 1918: 24) В начале своей статьи публицист обращается к роману Ф. М. Достоевского «Бесы», персонаж которого Лямшин во время игры на рояле постепенно вытеснял мелодию «Марсельезы» звуками «пошлаго нѣмецкаго романса» «Ach, mein lieber Augustin» (там же: 23). Второстепенный эпизод классического романа иллю- стрировал тезис М. Л. Б. о том, что «[н]аша ре-волюцiя со всѣми ея безцѣнными завоеванiями нынѣ повержена в грязь и кровь. Произошло это постепенно, само собою, без вмѣшательства какой-либо внѣшней силы и с чисто дьявольской послѣдовательностью» (там же).
В том же номере, что и статья М. Л. Б., было опубликовано традиционное для СЗ «Областное обозрѣнiе», принадлежащее перу Вл. М. Крутов-ского. Уже в начале этого обозрения Крутовский дает крайне резкие оценки состоянию общества, которое, по его мнению, сделало неизбежными негативные последствия Февральской революции 1917 г. (пришедшейся в Сибири на первые десять дней марта5, поэтому автор называет этот государственный переворот «социальной “ле-формой”»6, в которую «мы в’ѣхали в мартѣ 1917 г.»): «Наш доморощенный “большевизм” – это именно то несуразное “рыло”, которое никогда соціализма не нюхало, слышало об нем только одно – “все мое – мое и все твое мое” – этот упрощенный острожный соціализм и за этой то ясной и простой формулой на страх и ужас обывателя пошла огромная рать темных людей, а к ней примазались всякіе проходимцы уголовнаго типа, с громким прошлым, с беззастѣнчивою наглостью, с огромнѣйшею жадностью, с бѣга-ющими глазами, всюду высматривающими свои жертвы, с которых можно урвать, на счет которых возможно поживиться» (В. К. 1918: 55).
Всё в том же номере СЗ появилось стихотворение А. Константинова «Жизнь горитъ!» (Константинов 1918: 1), которое мы приведем целиком по причине его исключительной репрезентативности и малой известности.
Жизнь горитъ, – но она не свѣтла.
Жизнь мучительна, тяжка, темна. –
Солнца нѣт.
Ах, скорѣй бы, скорѣе пришла
Чародѣйка, волшебная сказка – весна. –
Ей привѣт!
Солнце вышло, но только на миг.
Тьма повисла опять надо мной. –
Снова ночь.
Скрыло солнце свой лик,
Вслѣд умчалось за яркой весной. –
Жить – не в мочь...
Здесь возникают ключевые образы СЗ , регулярно воспроизводившиеся в публикуемых на страницах издания в 1918–1919 гг. художественных (прежде всего стихотворных) текстах: лирический субъект указывает на скоротечность пришедшей весны и сетует на невозможность жить в новой ситуации, когда «[с]крыло солнце свой лик <…>».
С этим стихотворением Константинова необходимо сравнить другой образчик наполнявшей страницы журнала поэзии – стихотворение «Грустно на сердцѣ, ноет оно…», опубликованное в первом номере 1919 г. за подписью «Ел. К.». В нем рисуется идентичная константиновской картина внутреннего мира лирического субъекта, построенная на дихотомии светлого прошлого и сменившего его безрадостного настоящего и одновременно с этим – на параллелизме человеческих переживаний и состояний природы: «Грустно на сердцѣ, ноет оно... // Ве-сеннiя розы повяли давно... // Солнце погасло, все сѣро и // блѣдно»; «Счастье ушло, а мечты всѣ // разбиты...» и т. д. В процессе размышлений возникает надежда («Полно! замолкни же сердце мое: // Выглянет солнышко, станет // свѣтло»), которая, однако, бесповоротно сменяется однозначно пессимистическим финалом, где окончательное вытеснение весны осенью («Дождiк осенний все льет, как // из сита») и в буквальном, и в символическом отношении рифмуется с утратой счастья и мечтаний («Счастье ушло, а мечты всѣ // разбиты…»), подготавливая безрадостный итог: «Душат, терзают рыданья меня. // Нѣт я не вѣрю, что скоро весна...» (Ел. К. 1919: 6).
В обоих случаях и негативно, и позитивно маркированные комплексы образов (с одной стороны, «солнце / солнышко» и «весна»; с другой – «дождь» и «тьма»), среди прочих значений, наделены коннотациями, размыкающими границы интимных переживаний и переключающими анализируемые стихотворения в социальнополитический регистр. В особенности это касается ключевого топоса «весны», восходящего не только к дискурсу «старших» областников (о чем уже говорилось), но и – шире – к традиции русского политического языка XIX – начала XX в. вообще. Прежде всего речь идет, безусловно, об отечественном «революционно-демократическом» дискурсе XIX столетия, внутри которого активно разрабатывались упомянутые клише7.
Таким образом, в 1918–1919 гг. регулярно эксплуатируемая на страницах СЗ природная образность продолжала оставаться одним из главных резервуаров идеологических подтекстов8. Однако работавшие с этой топикой авторы могли прибегать к разным модальностям в зависимости от колебаний общественно-политической ситуации в пореволюционной России – в первую очередь, разумеется, Сибири (ср.: [Костякова 2017a: 30]). Как представляется, причиной этому была не только политическая позиция авторов, но и не самый высокий эстетический уровень их произведений, ставший, насколько можно судить, результатом стремления предложить оперативную и довольно прямолинейную репрезентацию быстроменяющейся окружающей реальности.
Безусловно, природная метафорика, нагруженная комплексом идеологических и/или политических значений, была не единственным инвариантом СЗ , рассмотренных в качестве метатекста. Одним из новых способов манифестации идеологической принадлежности издания стало использование цветовой гаммы, ассоциирующейся с областническим движением, – сочетания белого и зеленого. Напомним, что бело-зеленое знамя было выбрано в качестве флага Сибирской республики, которая была создана в 1918 г., просуществовала с июня по ноябрь и управлялась Временным Сибирским Правительством (министром внутренних дел в котором был создатель, издатель и редактор СЗ Вл. М. Крутовский).
В качестве наиболее показательного примера имплицированных в цветовую гамму идеологических подтекстов рассмотрим четвертый номер журнала за 1918 г., вышедший в свет уже после роспуска Сибирской Областной думы и Временного Сибирского Правительства. Номер открывался стихотворным «Гимном Сибири», в первой же строке которого бело-зеленые цвета областнического знамени «рифмовались» с цветами двух ключевых компонентов сибирского локуса, увиденного сквозь романтическую призму: «Бѣлая, тихая, снѣжная ширь; // Темно-зеленое море Тайги, – // Вот она наша родная Сибирь. // Вѣрьте друзья нам, страшитесь враги» (И. К.9 1918: 1).
К «Гимну Сибири» композиционно, тематически и символически примыкает идущее вслед за ним стихотворение «Наши знамена». Приведем показательный фрагмент этого произведения: «Бѣлозеленое над красным... // О, да! Силен был общiй враг – // И зовом пламенным и страстным // Над нами рѣял красный стяг. // В крови, и в муках, и в печали // Неиз’яснимое росло. // И злые тернiи вѣнчали // Свободы гордое чело. // О, – пусть послѣдняя преграда // Скорее рухнет на пути! // Знаменам алым сердце радо // И руки рады их нести. // Но как забыть о бѣлом снѣгѣ // Родимых сѣверных долин, // И о зеленой вешней нѣгѣ // Таежных дебрей и равнин? // Как не любить нам этой шири, // Гдѣ никакой не страшен враг? – // И над просторами Сибири // Бѣлозеленый взвился флаг!» (Вяткин 1919: 2). Наряду с бело-зеленым флагом здесь упоминается «красный стяг», использовавшийся как во время Февральской революции, так и после прихода к власти большевиков. В последней же строфе стихотворения знамена, ассоциирующиеся с различными политическими силами, в буквальном смысле переплетаются между со-бой10: «... А вѣтер вѣет и играет, // Трубит, и мчится, и зовет // И оба знамени свивает // В одном стремленiи вперед» (там же).
Своеобразную трилогию с «Гимном Сибири» и «Нашими знаменами» образует стихотворение «Бѣло-зеленое знамя», опубликованное под псевдонимом Георгий Сибирский. Оно открывало предпоследний, сдвоенный (4–5) номер СЗ , вышедший в октябре 1919 г. Позволим себе привести его целиком:
Темны таежныя шири безкрайныя.
Вѣчно зеленыя сосны игольныя;
Снѣгом покрытыя степи раздольныя –
Знамени дали цвѣта неслучайные.
Ткали стихiи их Родине тайныя –
Холод с тайгою да вѣтры лишь вольные, Чтобы воспрянули к жизни, бездольные, К свѣту и к счастью, народы окрайные (Сибирский 1919: 1).
По справедливому замечанию Ю. Б. Костяко-вой, «[г]лавенство бело-зеленого стяга» в стихотворении Г. Сибирского «символизировало не только победу над большевистским режимом, но и превосходство политических позиций и устремлений областников над идеологией их соперников <…>» [Костякова 2017б: 101].
Устойчивый повтор природных образов вместе с идентичным набором цветов во всех этих трех стихотворениях позволяет рассматривать их в качестве еще одного метатекстуального субститута отсутствовавших на всем протяжении периода существования СЗ редакционных мани-фестов11. В этой своеобразной трилогии сибирское областническое движение предстает органическим феноменом, «выросшим» из местных ландшафтно-климатических условий («Знамени <…> цвѣта неслучайные. // Ткали стихiи их Родине тайныя <…>»). Данная особенность поэтики рассматриваемых стихотворений отчетливо коррелирует с общим обилием органицистских метафор на страницах СЗ . В этой связи стоит вспомнить, что органицистская метафорика, введенная, как хорошо известно, в европейский политический язык Гердером (применительно к народам) и «заложившая основу нового политического словаря, которому была суждена долгая жизнь» [Атнашев, Велижев 2018: 11], «несл[а] в себе мощный заряд легитимации: история народов уподоблялась природным явлениям, имеющим универсальный и “вечный” характер» [там же: 12]. На наш взгляд, эта логика работает не только применительно к народам/нациям, но и в случае с общественно-политическими движениями и направлениями, легитимации которых способствует органицистский образный инвентарь.
Вернемся к анализу четвертого номера СЗ за 1918 г. За открывающими номер стихотворениями «Гимн Сибири» и «Наши знамена» следует начало поэмы М. Плотникова «Янгал-Маа». Уже во вступлении, вложенном в уста сказителя Куксы, появляется сочетание белого и зеленого: «”Вы видали на полянах // Позабытыя могилы? // Вы видали кости кхонна12, // Кости бѣлыя оленей // На коврѣ зеленом тундры... // Так вогулы умирают. // Как олени в годъ голодный <…>» (Плотников 1918: 3). Как видим, при описании сибирского пейзажа вновь, хотя и в совершенно ином контексте, нежели в рассмотренных выше стихотворениях, доминируют именно белый и зеленый цвета.
Помимо приведенных примеров есть случаи, в которых, на первый взгляд, сложно усмотреть областнические импликации. Так, в очерке И. Голенецкого «Старый холм»13 (1918, № 4) есть несколько фрагментов, которые можно прочесть исключительно как пейзажные зарисовки. Например: «...Был август. Зелень смѣшалась с багрянцем. Словно налитые кровью колыхались листья осин. Золотыя березы гордились недолгим нарядом. Зеленѣла осенняя трава» (Голенец-кий 1918: 50). Или: «...И теперь, когда мимо проходит с зелеными и красными огнями пароход, заглушая стуком колес и ревом сирены печальные стоны невольников, старый холм еще глубже уходит в задумчивость и по утрам на нем жемчужной росой блестят слезы» (там же)14. Однако тот факт, что эти природные картины предваряют разговор о будущем Сибири и «областном вопросе», который «по-прежнему не потерял своей остроты» (там же: 55), поддерживает интерпретацию интересующего нас цветового комплекса в символической плоскости.
Узус, внутри которого цветовая палитра более или менее осознанно «нагружалась» идеологическими и/или политическими коннотациями, не ограничивался стихотворной частью СЗ . К схожим приемам прибегал их издатель Вл. М. Кру-товский, рассуждая в своих публицистических сочинениях о текущей политической ситуации. Так, в первом номере журнала за 1919 г. в своем традиционном «Областном обозрѣнии» он писал о состоянии власти в пореволюционной Сибири следующее:
Мой путь въ город лежит мимо бывшаго гу-бернскаго управленiя, которое за послѣднiе два года смѣняло свое названiе нѣсколько раз, смотря по лицам занимавшим его. Соот-вѣтственно послѣднему, т. е, смѣнѣ лиц, олицетворяющих тот или иной режим данной минуты, на фронтонѣ этого зданiя появлялись различныя эмблемы существующей власти въ видѣ флагов соотвѣтствующих цвѣтов.
Во время перiода власти временнаго правительства и смѣнившей его большевистской на древкѣ гордо развивался флаг краснаго цвѣта, затѣм послѣднiй исчез и на этом же мѣстѣ по- явилось красивое бѣло-зеленое знамя. Почему то оно быстро обтрепалось и поблекло, а в но-ябрѣ и совсѣм исчезло с древка; затѣм нѣкото-рое время оставалось торчать оголенное древко –олицетворенiе твердой власти и, наконец, за самое послѣднее время к этому древку “управ-ляющiй губернией” [здесь и далее курсив авторов. – А. Г., В. Ч.] прикрѣпил старое трех-цвѣтное знамя15 (В. К. 1919: 62).
Описание стремительной смены разноцветных флагов, метонимически репрезентирующих резкость политических сдвигов эпохи, позволяет автору очерка заключить: «наблюдая за этими метаморфозами на древкѣ», он «узнавал и снаружи какiе люди в данное время олицетворяют власть, какой режим теперь господствует и пришел на смѣну стараго <…>» (там же). В финале этого фрагмента публицист резюмирует: «Всѣ поиски настоящей твердой власти не привели ни к чему новому и, пока что, мы, описав круг, вернулись к тому же исходному положенiю, которое имѣло мѣсто еще в до февральскiе дни, к ежовым рукавицам, с которыми мы так сжились и при которых так спокойно и уютно себя чувствовали, что многiе, а особенно тѣ, у кого еще остались пуховики, снѣдь и благопрiобрѣтенная недвижимость, так глубоко вздыхают» (там же).
Итак, в 1918–1919 гг. авторы СЗ прибегали к опробованному в предыдущий период существования журнала (1916–1917) арсеналу средств – природной метафорике, в корпус которой имплицировались идеологические и политические подтексты. Вместе с тем существенно изменилась доминирующая в этих произведениях модальность. Если в предыдущие два года весна ассоциировалась у авторов журнала исключительно с положительными социокультурными переменами, а в ее скором приходе не было сомнений, то после Октябрьской революции семантика этого центрального тропа существенно меняется. Период «весны» ограничивается в их сочинениях полугодием, отделяющим Февральскую революцию от Октябрьской. Первая должна была «откры[ть] новый свѣтлый період; русской исторіи» (Крутовский 1917: 146), но этого не случилось. Происходящее же после Октября изображается как бессобытийная и безрадостная, унылая картина, подобная летаргическому сну16. Кроме того, авторы журнала находят новый способ создания идеологических подтекстов, которые теперь конструируются еще и с помощью сочетания белого и зеленого «областнических» цветов (бывших официальными цветами Сибирского областного правительства, а потому тесно ассоциирующихся с областническим дискурсом вообще), к которым периодически добавляется «революционный» красный цвет.
Проанализированные художественные (в первую очередь стихотворные) произведения дают основания заключить, что большинство авторов журнала использовало «весеннюю» метафорику для художественной репрезентации межреволю-цинного полугодия – того времени, когда инициативы, горячо приветствовавшиеся и подробно освещавшиеся на страницах журнала (создание местного парламента17, усиление кооперации в Сибири и – шире – вообще развитие самоуправления и расширение демократических свобод)18, начали воплощаться в жизнь. Послеоктябрьский же период (а иногда уже и послефевральский) регулярно описывался в «поэтической» части СЗ как «непроглядная тьма», «ночь», сопровождающиеся, как это было в уже цитировавшемся стихотворении К. Журавского, оживлением разнообразных гадов («Уже шипят и ползают у ног // зловѣщія, разбуженныя змѣи <…>» (Журавский 1919: 46)).
Примечания
-
1 Мы сохраняем орфографию и пунктуацию, а также ошибки и опечатки источника. Подробное обоснование такого текстологического решения см.: [Горбенко, Чекушин 2022: 80].
-
2 Ср. анализ динамики отношения авторов СЗ к революциям 1917 г., предложенный в статье [Костякова 2017a]. См. также работу, посвященную репрезентации на страницах СЗ событий Гражданской войны: [Костякова 2018].
-
3 В последние годы заметна интенсификация внимания исследователей к периодическим изданиям, одним из следствий которой стали попытки выявления ключевых особенностей поэтики и идеологии журналов и газет, рассмотренных как некоторое целое, а не просто в качестве набора разножанровых текстов. Среди тех из них, которые дали, на наш взгляд, наиболее интересные результаты, назовем (не претендуя, разумеется, на полноту этого списка): [Печерская 2015; Левитт 2018; Богомолов 2019; Федотов 2019]. На сибирском материале анализ журнала как целого см. в: [Капинос 2016].
-
4 Обратим внимание на образ, противопоставленный «весенне-пасхальной» метафорике, – спрятавшихся в «логовищах» дурно пахнущих летучих мышей. Подробнее о схожем соотношении тропов на страницах СЗ речь пойдет ниже.
-
5 Подробнее о ходе Февральской революции в Сибири см.: [Шишкин 2016].
-
6 Крутовский использует здесь привычную для себя литературоцентричную оптику, в данном случае цитируя персонажа Г. И. Успенского. Специально о литературоцентризме Крутовского см.: [Чекушин 2021].
-
7 В этом смысле чрезвычайно показательно, что почти идентичный ряд топосов содержался в массовой поэтической продукции, публиковавшейся на страницах периодических изданий Урала в эти же годы (1917–1919). Тщательно проанализировавший этот корпус поэтических текстов И. Е. Васильев считает, что частотность и стабильность образов Февральской революции как Пасхи и последующего за ней «пробуждения» страны, противопоставленные другому комплексу образов («тьмы», в которой таятся противостоящие новым «светлым» силам «ядовитые змеи» и прочие гады), стали результатом работы «коллективного сознания» и активизации «культурных универсалий» [Васильев 2017]. На наш же взгляд, близость образного словаря уральских поэтов и их сибирских коллег-современников показывает, что и сибиряки, и уральцы более или менее осознанно ориентировались на один дискурс.
-
8 Эта особенность поэтики стихотворного корпуса СЗ , безусловно, коррелировала с «узостью» «тематическ[ого] спектр[а] поэзии в журнале», о котором справедливо пишет Ю. Б. Ко-стякова [Костякова 2017б: 99].
-
9 В содержании номера указан иной криптоним – «Н. К.».
-
10 Любопытны содержащиеся в этом стихотворении ритмико-сематические аллюзии на лермонтовский «Парус», подробное изучение которых, как и вообще изучение лермонтовского влияния на поэтов, печатавшихся на страницах СЗ , может стать отдельной исследовательской задачей.
-
11 О других таких субститутах см. нашу статью, посвященную реконструкции системы идеологических подтекстов СЗ предыдущего периода (1916–1917): [Горбенко, Чекушин 2022].
-
12 К этому слову дается примечание, разъясняющее, что «кхонн» на верхотурском наречии означает оленя.
-
13 По всей вероятности, важнейшим источником этого очерка стали «Зимние заметки о летних впечатлениях» Ф. М. Достоевского.
-
14 Обратим внимание на то, что в этом абзаце названные прямо зеленое и красное сочетаются с не названным прямо белым – «жемчужной росой блестят слезы».
-
15 Ср. в обсуждаемом выше стихотворении Журавского.
-
16 Есть все основания полагать, что метафора сна в сочинениях авторов СЗ генетически восходит к сочинениям «старших» областников, где она привлекалась для описания интеллектуальной стагнации Восточной окраины Российской империи. Ограничимся двумя примерами, взятыми практически наудачу. Первый – одна из
программных публицистических статей Ядрин-цева «Спящая красавица» (1882), заглавный троп которой призван передать горечь, испытываемую областником при виде «сонного» состояния своей родины, соединенную с надеждой на ее «пробуждение»: «Прекрасные глаза ее еще закрыты, живые силы этого молодого тела еще в покое, под влиянием этого покоя они растут и накопляются, это не смерть, а сон ребенка. Тихое дыхание и легкий вздох показывают, однако, что близко пробуждение. Величественная, свежая и прекрасная, может быть, скоро откроет она свои глаза и встанет со своего ложа навстречу румяному утру новой жизни» (Ядринцев 1980: 73). Второй – из речи Потанина 1915 г., произнесенной им по случаю собственного 80-летия: «В настоящее время мы наблюдаем, что жизнь духовная вся сосредоточивается в столицах. Провинция – представляет пустыню. Провинциальное общество очень сонно, не реагирует на внешние события» (Потанин 1986: 257).
-
17 Здесь уместно вспомнить точную характеристику, которую дал Временной Сибирской областной думе В. И. Шишкин, – «сибирский предпарламент», см.: (Сибирский предпарламент 2013).
-
18 См. прежде всего корпус текстов, помещавшихся в «Областном отдѣле» СЗ .
Список литературы Журнал «Сибирские записки» как метатекст: система идеологических импликаций (1918-1919 гг.)
- Атнашев Т., Велижев М. «Особый путь»: от идеологии к методу // «Особый путь»: от идеологии к методу / сост. Т. Атнашев, М. Велижев, А. Зорин. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 9–35.
- Богомолов Н. А. Газета «Жизнь» (Москва, 1918): политическая позиция // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2019. № 5. С. 25–40.
- Васильев И. Е. Топика и мифопоэтика революции в массовой поэзии Урала 1917–1919 гг. // Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки. 2017. Т. 19, № 3 (166). С. 128–145.
- Горбенко А. Ю., Чекушин В. В. Журнал «Сибирские записки» как метатекст: система идеологических импликаций (1916–1917 гг.) // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2022. Т. 14, вып. 4. С. 75–84. doi 10.17072/2073-6681-2022-4-75-84
- Капинос Е. В. «Литература» и «факт» в новосибирском журнале «Настоящее» (1928–1930) // Сюжетология и сюжетография. 2016. № 2. С. 138–165.
- Костякова Ю. Б. Отношение сибирских областников к революциям 1917 г. (по материалам журнала «Сибирские записки») // Уральский исторический вестник. 2017a. № 3 (56). С. 23–30.
- Костякова Ю. Б. Поэзия революционной эпохи как фундамент медиакультуры (по материалам журнала «Сибирские записки») // Человек в мире культуры. 2017б. № 2–3. С. 98–102.
- Костякова Ю. Б. Гражданская война и ее жертвы в представлениях очевидцев (по публикациям журнала «Сибирские записки» за 1918–1919 гг.) // Гражданский мир – гражданская война: осмысление и прогнозы: материалы междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 2 марта 2018 г. / под. ред. В. М. Доброштана, С. И. Бугашева, А. С. Минина, Т. В. Рабуш. СПб.: СПбГУПТД, 2018. С. 113–116.
- Левитт М. Журнал А.П. Сумарокова «Трудолюбивая пчела»: композиция и направление // Дар дружества муз: сб. ст. в честь Н. Д. Кочетковой / отв. ред. А. Ю. Веселова, А. О. Демин. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2018. С. 69–77.
- Очерки русской литературы Сибири. Т. 2. Советский период. Новосибирск: Наука, 1982. 632 с.
- Печерская Т. И. Травелог в «Русском слове»: к вопросу о редакционной тактике журнала // Русский травелог XVIII–XX веков: кол. монография / под ред. Т. И. Печерской, Н. В. Константиновой. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015. С. 486–502.
- Разувалова А. Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов. М.: Новое литературное обозрение, 2015. 616 с.
- Федотов А. С. Между газетой и журналом: «Музыкальный и театральный вестник» в ряду других театральных изданий // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 2019. № 4. С. 121–130.
- Чекушин В. В. Апелляции к классической литературе в публицистике Вл. М. Крутовского как способ трансляции общественно-политических идей // Вестник Томского государственного университета. 2021. № 471. С. 59–66.
- Шишкин В. И. Февральская революция в Сибири (2–10 марта 1917 г.) // Вестник Омского государственного университета. Серия «Исторические науки». 2016. № 4 (12). С. 31–41.