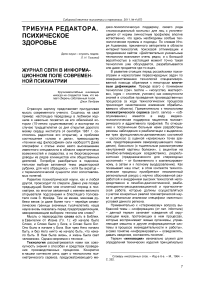Журнал СВПН в информационном поле современной психиатрии
Автор: Семке В.Я.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Трибуна редактора. Психическое здоровье
Статья в выпуске: 4 (67), 2011 года.
Бесплатный доступ
ID: 14295521 Короткий адрес: https://sciup.org/14295521
Текст ред. заметки Журнал СВПН в информационном поле современной психиатрии
Крупномасштабные инновации никогда не создаются теми, кто желает сберечь собственный покой.
Джин Ландрам
Странную картину представляет причудливая мысль современного ученого. Сошлюсь на свой пример: настоящую передовицу в любимом журнале я невольно посвятил не его юбилейной истории (15-летию существования) и восторгам по случаю тридцатилетия со дня открытия дорогого моему сердцу института (4 сентября 1981 г. состоялось радостное его открытие), а проблеме соотношения «слова и дела», превосходству «техники над философией» (или наоборот?) Даже эпиграфом к статье мною взято высказывание известного специалиста в области маркетинговых возможностей и лидерства, а не безоговорочные доводы из рядов клиницистов или общественных деятелей. Попробую разобраться в подсознательном выборе заглавной темы редакторской рубрики, для чего обращаюсь – хотя бы вкратце – к терминологической сущности этих сопоставляемых понятий.
Развитие психиатрической науки, как и любой другой, происходит по спирали. Давно уже позади предыдущий более чем столетний период в психиатрии, во многом связанный с именем великого открывателя подсознания и блестящего толкователя снов З. Фрейда. Тем не менее, миновав рубежи веков (и даже более того – перейдя символические границы значимых тысячелетий), наша наука вновь оказалась перед предопределяющим, завораживающим выбором: техника или слово?
Мысль о первородстве слова есть в Библии, в Евангелии от Иоана (Гл. 1): «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Однако вернемся к технике…
Технология рассматривается нами как совокупность знаний о способах и средствах проведения производственных процессов. Конкретно в нашем контексте речь идет о технологиях психиатрического сервиса, предусматривающего ме- дико-психологическую поддержку, своего рода «психосоциальный костыль» для лиц с уклоняющимся от нормы личностным профилем; вполне естественно, что здесь необходимы особые технологические приемы и подходы. По словам Игоря Ашманова, признанного авторитета в области интернет-технологий, поисковой оптимизации и продвижении сайтов: «Действительно уникальные технологии возникают очень редко, и с большой вероятностью в настоящий момент точно такая технология уже обсуждается, разрабатывается или даже продается где-то еще».
В развитие стоящих перед российскими психиатрами и наркологами первоочередных задач по совершенствованию технологий специализированной помощи обратимся к некоторым ключевым дефинициям . Прежде всего о понимании технологии (греч. techne – «искусство, мастерство», logos – «понятие, учение») как совокупности знаний и способов проведения производственных процессов (в ходе технологических процессов происходит качественное изменение обрабатываемого объекта). Применительно к технологиям психиатрического сервиса (англ. service – «обслуживание») имеется в виду медикопсихологическая поддержка пациентов психиатрического и аддиктивного профилей. По отношению к пограничным больным нами разработаны режимы наблюдения и реабилитации с выделением трех функционально-динамических состояний – кризисного (с оценкой «кризисных» точек зрения, предотвращением саморазрушающего поведения), базисного (с тщательным рассмотрением «внутренней картины болезни», с акцентом на лечебно-активирующих воздействиях), регреди-ентного (предназначенного для «переходных состояний» – от болезненного к компенсированному, а затем и к полному выздоровлению). Как показывает наш опыт, в этом контексте технологические процессы приобретают несомненный региональный ракурс с научно обоснованной разработкой и внедрением высоких технологий непосредственно в лечебно-диагностической, реаби-литационно-ресоциализационной и прогностической работе, которые должны осуществляться с учетом конкретных реалий психиатрической науки и детальным анализом специфики «местных» условий данного региона.
Применительно к «стержневому» вопросу выбранной темы – «информация» (от лат. informare) – данный термин означает «сведения об окружающем мире, протекающих в нем процессах, которые воспринимают живые организмы, управляющие машины и другие информационные системы в процессе жизнедеятельности и работы», а само понятие «информировать» – осведомлять, давать сведения, составлять понятие*.
Термин «инновация» изначально служил для определения технических изделий принципиально нового, не имеющего аналога, типа. Позднее стал использоваться не только в технике, но и для обозначения нововведений в социальной жизни. В настоящее время применяются два основных понимания инноваций, различающихся функционально: технологические – получение нового или эффективного производства имеющегося продукта, изделия, техники, новые или усовершенствованные технологические процессы; социальные – процесс обновления сфер жизни человека в реорганизации социума (педагогика, система управления, благотворительность, обслуживание, организация процесса). Полагаю, что социальные инновации вполне приложимы к сфере медицины, так как подразумевают процессные инновации, улучшение процесса организации деятельности, изменения в управлении, организационные технологии.
Форум INNOVUS, посвященный обсуждению стратегии инновационного развития России до 2020 г., открылся в 26 мая 2011 г. в Томске. Президент Дмитрий Медведев в своем приветствии к участникам отметил, что для запуска экономики знаний необходимы передовые идеи и новаторские проекты. Председатель правительства России Владимир Путин в приветственном послании выразил надежду, что форум даст «зеленый свет» смелым и прорывным проектам, «прежде всего связанным с эффективной реализацией богатого потенциала сибирских регионов». По словам губернатора Томской области В. Кресса: «Появилось слишком много препятствий на пути инноваций. Назрела необходимость прекращения практики недоверия к академии наук, резкого сокращения мелочных проектов, бюрократического пресса». Пользу от инноваций должны почувствовать простые люди. Для этого нужно запустить социальные инновации: научные разработки в здравоохранении, образовании и общественном транспорте.
Психотерапия в полном объеме очерчена недостаточно – не так, как, допустим, в других медицинских дисциплинах, как это происходит в хирургии, терапии или даже психиатрии. Что это – искусство, наука, ремесло или же философское мировоззрение? При всех наших усилиях мы не сможем получить ответа на поставленный вопрос, обратим лишь внимание на доводы современного науковедения о том, что более 90 % успеха в определении места и роли психотерапии в современной медицине зависит от правильной постановки изначальной цели и дальнейших перспектив. Для мотивации высказанной точки зрения сошлемся на мнение Томаса Манна, который в своём докладе «Фрейд и будущее» (1936) отметил: «Философия, действительно, стоит впереди и выше естествознания… всякая методичность и точность – слуги её духовной, исторической воли… наука не сделала ни одного открытия, не получив полномочий и указаний философии». Оценивая вклад великого «отца психоанализа» в построение здания психотерапевтической науки, писатель видит в нём «один из важнейших строительных камней, положенных в многообразно соз- даваемую ныне психологию, а тем самым в фундамент будущего, в дом более умного и более свободного человечества».
Психиатрия XXI в. уже на данном, весьма коротком историческом отрезке времени существенно изменила свои приоритеты, векторы развития и контуры более отчетливого становления: происходит ощутимое сближение к л и н и ч ес к о й (прежде всего социальной) и н е й р об и о л о г и ч е с к о й психиатрии, определяющее интеграцию современных знаний в сфере поведенческих наук – от генетики, иммунологии, биологии до социологии и культуральной антропологии. Генетические факторы средовых условий регулируют созревание мозга, который становится способным трансформировать входящие сенсорные стимулы более изощренными способами:
информация , которую мы имеем, располагает данными о прошлом, в то время как сведения, в которых мы нуждаемся, являются информацией о будущем. Она поставляет сведения о причинности, привносит вклад в теорию научения поведению (Crittenden P., 2001). Ассоциативное научение модифицирует установленные стимулы, облегчает идентификацию опасности и её предвидение, разработку ф у н к ц и о н а л ь н о й с а м оз а щ и т н о й с т р а т е г и и . Холистический взгляд на взаимодействие физического и психического содействовал становлению новой научной дисциплины – поведенческой медицины . Данное направление интегрирует знания в области психологии душевного здоровья (определяемой нами как в а л е о п с и х о л о г и я [ Семке В. Я., 1995]) и б и о л о г и ч е с к о й психиатрии (раскрывающей роль э м о ц и о г е н и й в формировании психических отклонений). Признание этого подхода облегчает разработку новых технологий в сфере поведенческой психотерапии (включая методику биологической обратной связи, модификацию аутогенной тренировки, телесной терапии и др.).
Рассмотрение природы человеческой эмоциональности необходимо для естественно-научного анализа психофизиологических основ поведения (Витгоф В. М., 2001)1. Мозг является материальной субстанцией эмоций: она порождается процессом, происходящим в организме в результате отражения мозгом внешнего мира. Динамика эмоционального процесса сопряжена с существенными сдвигами в гомеостазе, в функциональном состоянии всех систем и органов (обмен веществ, гормональные и гуморальные реакции, регуляция постоянства внутренней среды, изменение вегетативных функций, синтез т. н. гормонов действия и др.). Эмоции являются основным источником самосохранения и самозащиты: если их исключить, то «кора лишается главного источника силы» (Павлов И.П., 1954). Помимо этого, важна гностическая сторона эмоций (т. е. способность дифференцировать в положительных или отрицательных знаках качество раздражителя и информировать об этом мозг). Накапливая положительный опыт в приспособительном поведении, человек приобретает свойство опережающего отражения (П. К. Анохин) или способность составлять мозгом непрерывно текущие вероятностные прогнозы, предпосылки сознательного поведения (П. В. Симонов). По П. К. Анохину2, «производя почти моментальную интеграцию всех функций организма, эмоции сами по себе могут быть абсолютным сигналом полезного или вредного воздействия на организм».
Эмоция «заряжает» индивида необходимой энергетической и идеально-психической информацией, участвует в мотивирующих, регуляторных, приспособительных и коммуникативных процессах. Таким образом, эмоция – это единство объективно-субъективной и субъективно объективной форм отражения действительности, проявляющейся на уровне п с и х о ф и з и о-л о г и ч е с к о й гармонической целостности субъекта. Человеческая эмоция, по своей сути, б и о с о ц и а л ь н а : попадая в систему социального отношения, она социализируется. Переживание входит в состав социальной эмоции как компонент, определяющий её психологический аспект. Материальный выразитель эмоций (мимика, пантомимика, интонационная структура речи) сугубо социален, поскольку его проявление опосредуется сознанием. Недаром чувство прекрасного «рождает бытие в новом ценностном плане мира, родится новый человек и новый ценностный контекст – план мышления о человеческом мире» (Бахтин М. М., 1979).
Пересмотр представлений о психоэмоциональной и нейрогуморальной регуляции отображает более глубокие процессы перестройки взаимоотношений человека и современного устройства общественного уклада жизни, а также социальную дезорганизацию и другие сложные социо-культуральные феномены (Семке В. Я., 1996).
Альянс психологических и биологических исследований содействовал плодотворному применению таких понятий, как «функциональные узлы» (Лурия А. Р., 1973), «новые функциональные органы» (Леонтьев А. Н., 1976), «функциональные системы» (Анохин П. К., 1970): высшие психические функции складываются в процессе онтогенеза, представляя собой сначала развернутые формы предметной деятельности, которые в последующем постепенно свертываются и приобретают характер внутренних «умственных действий» (Выготский Л. С., 1956).
В обобщенном виде в головном мозге выделяются три ф у н к ц и о н а л ь н ы х б л о к а: блок тонуса (весь мозг без коры), блок переработки и хранения информации (кора без лобных долей) и блок активности (лобные доли)3. Ф у н к ц и о н а л ь н ы е с и с т е м ы (в виде динамичных, самоорганизующихся и саморегулирующихся организаций) направлены на достижение адекватных приспособительных результатов (их оценка осуществляется на основе циркулирующей информации о деятельности акцептора результата действия – по П. К. Анохину). Взаимодействие функциональных систем разного уровня организации – от молекулярного до межличностных и общественных – строится на резонансной информационной основе. Роль информации всё более возрастает в системах, объединяющих отдельных индивидов в популяции; межличностные отношения людей в общественных построениях целиком основываются на информационных про-цессах4. Описанный авторами неспецифический информационный синдром отражает стадию формирования информационных дисфункций организма. Поддержание гомеостаза в норме и патологии осуществляется комплексом однотипных взаимодействий нервной и иммунной систем; их взаимофункционирование на уровне афферентных и эфферентных звеньев составляет основу адаптационных возможностей индивидуума.
Обширные клинико-иммунологические исследования нервно-психической патологии всё еще находятся на этапе «поисков и исканий». Перспективы дальнейшего продвижения в теоретикометодологическом и прикладном направлениях связаны с успехами в области к л и н и ч е с к о й и м м у н о л о г и и. На современном этапе развития психонейронауки задачи клинической иммунологии включают: изучение иммунопатологии при основных формах психической патологии, разработку новых методов иммунодиагностики, прогноза течения патологии, риска развития вторичной иммунной недостаточности, формирование программ психоиммунореабилитации. Многие из обозначенных научных проблем к настоящему времени успешно решаются. В частности установлена схожесть структурной организации нервной и иммунной систем (генерализованность по всему организму, наличие центральных и периферических органов, наличие памяти); накоплено большое количество данных об интеграции и взаиморегуляции иммунной, нервной и нейроэндокринной систем; установлена общность этиологических факторов, приводящих к психической дезадаптации и иммунной дисфункции (прежде всего психоэмоциональный стресс, неблагоприятные экологические воздействия, посттравматическое стрессовое расстройство).
Постулирована правомерность выделения нового научного направления в медицине и народном здравоохранении – кли н и ч е с к о й п с и х о н е й р о и м м у н о л о гии (ПНИ),
-
3 Семке В. Я., Гирич Я. П., Красильников Г. Т., Коробицина Т. В . Факторы риска и патогенетические механизмы при хронических неспецифических болезнях. – Томск, 1998. – 63 с.
-
4 Зилов В. Г., Судаков К. В., Эпштейн О. И. Элементы информационной биологии и медицины. – М., 2001. – 248 с.
сформировавшаяся в последние годы при активном участии ученых НИИ психического здоровья СО РАМН (накоплен большой объем клиникоэкспериментальных данных, собранных за 30летний период). Научная дисциплина охватывает основные ключевые проблемы: изучение деятельности с т р е с с о р а, его характеристики (лабораторный стресс, хронический стресс); влияние психопатологии, личностной структуры, межличностных связей на динамику иммунных показателей; откликаемость иммунной системы на поведенческие вмешательства; определение тенденции в изучаемых популяциях и изменений в природе иммунных оценок; оценка исходов здоровья и прогностическая характеристика будущей деятельности. В целом и м м у н н а я м о д ул я ц и я психосоциальными стрессорами может приводить к существенным изменениям психического здоровья; сдвиги в иммунной системе напрямую вызываются негативными эмоциями и психогенными (стрессовыми) факторами и провоцируются хроническими и рекуррентными инфекциями. Связанная со стрессом иммунная д и с р е г у л я ц и я служит центральным механизмом развития «риска» психического заболевания. Преходящее ослабление иммунной системы в смысле иммуносупрессивных изменений (Брой-тигам В. И. др., 1999) наблюдается в самых разных жизненных ситуациях и при патологических состояниях (при длительных нервных нагрузках, потере близкого человека, разлуке, безработице, социальной изоляции и др.). В эксперименте показано, что такие психологические факторы, как беспомощность и безвыходность, производят массивное повреждающее воздействие на иммунную систему, в то время как успешное преодоление трудностей дает противоположный эффект, благоприятствующий здоровью.
Психическое здоровье человека во все большей мере становится показателем экономического и социального благополучия общества, уровня развития научно-технического прогресса, отражением всеобщего качества жизни. В связи с этим здравоохранение перестает быть непроизводительной сферой, становясь ответственной за сохранение, поддержание и генерацию здоровья отдельных индивидов и общества в целом. Отсюда проистекают три организационных принципа практической деятельности: обеспечение здоровья, защита здоровья, превентивный сервис. В основе первой концепции лежат развитие стандартов здорового образа жизни, физическая активность, планирование семьи, укрепление душевного здоровья (улучшение социальной поддержки, идентификация проблем первичных служб, предотвращение стрессов, депрессий, самоубийств, преодоление агрессивного поведения). Вторая концепция направлена на группы населения и связана с изменениями в окружающей их среде с помощью технических приемов, законодательства – прежде всего по снижению риска от внешних воздействий, радиации, заражения воды, воздуха и т. д. Третья концепция охватывает превентивные и медицинские службы, нацеленные непосредственно на предотвращение нервно-психических нарушений (консультации, скрининг, иммунизация) в различных демографических, этнических, производственных подгруппах.
Речь идет о новых подходах к типологии, систематике, клинической динамике, дифференциации, оценке прогноза и о неизбежной ревизии богатого арсенала лечебно-реабилитационных и превентивных приемов. Конкретная техника являет собой практическое воплощение идей, отражающих состояние определенных социальноэкономических условий, всего общественного уклада, в том числе регионального. Здесь чрезвычайно важно избежать переоценки технизации: не нужно ждать, чтобы компьютеры заняли место опытных профессионалов; технике научит любая книга, но отношение передает лишь человек непосредственно. Задача психиатров, психотерапевтов и медицинских психологов заключается в том, чтобы помочь людям реорганизовать себя.
Своеобразие человеческой психологии определяется как его внутренними духовными установками, так и условиями социального окружения. Как говорил Виктор Франкл: «Существует два способа утвердить неповторимость и своеобразие собственной личности. Один способ – активный, путем реализации созидательных ценностей. Другой – пассивный. В этом случае всё, что другим приходится завоевывать активными действиями, человеку предоставляется «как манна небесная». Этот путь – путь любви, или, правильнее сказать, путь быть любимым». Приведу в заключение высказывания Э. Фромма из книги «Человек для себя»: «Поскольку потребность в системе ориентации и поклонения – это одна из основных составляющих человеческого существования, мы может понять силу этой потребности. Да, в человеке нет другого такого могущественного источника энергии. Человек не волен выбирать – иметь или не иметь «идеалы», но он волен выбирать между различными видами идеалов, между поклонением идолу власти и разрушения и поклонением разуму и любви». И далее: «Человек не может жить без веры. Решающим для нашего и следующих поколений является вопрос о том, будет ли это иррациональная вера в вождей, машины, успех, – или рациональная вера в человека, основанная на опыте нашей собственной плодотворной деятельности ».
Главный редактор СВПН В. Я. Семке