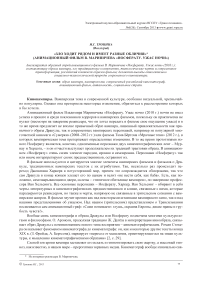«Зло ходит рядом и имеет разные обличия» (анимационный фильм В. Мариничева «Носферату. Ужас ночи»)
Автор: Тропина Инесса Геннадьевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Компаративная визуальная антропология культуры: феномены человеческого бытия в мире кинематографа
Статья в выпуске: 6 (26), 2013 года.
Бесплатный доступ
Анализируется образный строй анимационного фильма В. Мариничева «Носферату. Ужас ночи» (2010 г.): составляющие образа вампира, его традиционные компоненты, типологические черты и современные трансформации, российский контекст образов фильма; делаются выводы относительно социально-психологической природы современного киновампира.
Образ вампира, вампирология, современный российский кинематограф, анимационный фильм, витальность, социальные страхи
Короткий адрес: https://sciup.org/14821985
IDR: 14821985
Текст научной статьи «Зло ходит рядом и имеет разные обличия» (анимационный фильм В. Мариничева «Носферату. Ужас ночи»)
Анимационный фильм Владимира Мариничева «Носферату. Ужас ночи» (2010 г.) почти не имел успеха в прокате и среди поклонников хорроров и вампирских фильмов, поскольку он практически не пугает (несмотря на заверение режиссера, что он хотел передать в фильме свое ощущение ужаса) и в то же время предлагает не вполне привычный образ вампира, лишенный привлекательности как привычного образа Дракулы, так и современных вампирских персонажей, например из популярной многочастной киносаги «Сумерки» (2008–2012 гг.) или фильма Тима Бёртона «Мрачные тени» (2012 г.), в которых вампирическая тема претерпевает определенные изменения. В то же время прототипами нового Носферату являются, конечно, одноименные персонажи двух кинематографических лент – Мур-нау и Херцога, – и он отчасти выступает продолжателем их традиций трактовки образа. В анимационном «Носферату» очень силен элемент пародии, иронии и самоиронии. Персонажи «Носферату» так или иначе интерпретируют своих предшественников, остраняют их.
В фильме используются и цитируются многие элементы вампирских фильмов и фильмов о Дракуле, традиционных вампирских текстов с их атрибутами. Так, несколько раз происходит переход Джонатана Харкера в потусторонний мир, причем это сопровождается обмороками, так что сам Дракула в конце концов хлещет его по щекам и велит «не вести себя, как баба». Есть, как положено, самозакрывающиеся двери, склепы – «типичное обиталище вампиров», по заверению профессора Ван Хельсинга. Все основные персонажи – Носферату, Харкер, Ван Хельсинг – вбирают в себя черты литературных и кинематографических предшественников и клише, связанные с ними, которые пародируются режиссером, но также и черты, напрямую не связанные в зрительском сознании с вампирским жанром. В фильме звучит ирония как над некоторыми штампами вампирского кино, так и над нашими представлениями об ужасном. Над нашим (зрительским) представлением о Трансильвании посмеивается сам анимационный граф: «Сами понимаете: глушь, окраина Европы, дикие нравы и грубость чувств!».
Вообще связь кинематографа и образа Дракулы или Носферату подмечена многими культурологами и философами. О. Аронсон, продолжая традицию Ж. Делёза в интерпретации кинообраза, связывает образ Дракулы с возникновением нового типа восприятия – кинематографическим. Роман Стокера он называет феноменом кинематографа до кинематографа: он, как и некоторые другие тексты конца XIX в. (З. Фрейда, А. Бергсона), маркирует «переход от мышления, ориентирующегося на знаки культуры, к мышлению кинематографическими образами» [2, с. 29].
Слепой зов крови вампира заставляет его искать и гипнотизировать свою жертву, а массовый гипноз, как известно, в нашем мире – прерогатива экранных медиа. Кинематограф вообще изначально свя- зывался с погружением в гипнотический сон (начиная с Рене Клера). Вампир, как отмечают многие исследователи, – образ в первую очередь визуальный, кинематографический.
Кинематограф имеет дело с образами, которые обращаются не к индивидуальным, а коллективным желаниям и страхам, таким, в которых каждый из нас в отдельности ни за что не признается. Причем это желание неизвестно чего и страх неизвестно перед чем – аморфные и бесформенные. Вампиризм – это своего рода образное выражение, обнаружение этих желаний и страхов.
Сверхвитальность. Вампир не жив и не мертв, что вовсе не значит, что он бессмертен или не умирает. Отсутствие смерти у Дракулы традиционно трактуется как выражение его инаковости, которая взывает страх, указывая в то же время на смертность человека. Оборотной стороной нашего бессилия перед этой инаковостью является любопытство, эротическое напряжение, желание прикоснуться к нему.
«Вампир, пребывающий в анабиозе или в “жизни” (среди нас), в известном смысле мертв по отношению к своему активизированному состоянию. “Гроб” в данном случае представляет собой метафору, доведенную до уровня видеоряда» [6, с. 156]. «Активизированное состояние», вампирическая сверхвитальность, не имеет ничего общего с ожившим трупом в повествованиях об упырях и зомби.
Носферату в фильме В. Мариничева проявляет «гиперактивность» – в фильме в гроб он ложится лишь для переезда. Он вовсе не берет с собой в дорогу родную трансильванскую землю: связь с этим территориальным происхождением анимационного Носферату почти утрачена, образ этого вампира отрывается от почвы и демонстрирует другие, в том числе не вполне привычные черты, вскрывающие то вампирическое, что обычно теряется в готическом флере киновампиров.
В эпизоде сна-перехода Джонотана он видит графа в образе кентавра, традиционно символизирующего варварство, разгул страсти, невоздержанность, чувственность, оргиастичность, т.е. в целом – природное, стихийное начало, витальность. Витальность, даже сверхвитальность, является частью первичных позывов, которым подчиняется природно-органическое начало жизни, Оно в человеке. Так, вампир, следуя зову крови (изначальной природной общности), сливается с этой первичной силой и приобретает сам невиданную природную, стихийную мощь (Там же, с. 124–129). Эта сторона образа трансильванского вампира была продемонстрирована в фильме Мурнау, когда Носферату сливался со стихией и с заразой, выраженной в природных образах. Вампир – прорыв стихии, «буйства жизни», что с лихвой демонстрирует Носферату анимационный.
Носферату уже вырвался на волю и чувствует себя там вполне свободно – на улицах он не привлекает к себе никакого внимания, сливаясь с толпой (хотя и не прибегает к переодеваниям для этого, словно ничем и не выделяется), большая часть фильма уделена его полетам, и он даже любит петь. Характерно, что Носферату не живет в поисках преодоления одиночества крови, достижения «непосредственной кровной близости» в отличие от «опосредованного кровного родства» (Там же, с. 128)*. Носферату умело его контролирует, посвящая себя стратегии обретения власти над окружающими для того, чтобы приблизиться к искомой цели – поджогу Лондона.
Тема власти проводится и в романе Стокера: «Дракула стремится умножить число не просто себе подобных , но число подданных ; им руководит ясно осознаваемая жажда власти – может быть, самое главное, что связывает его образ с историческим прототипом» [1, с. 70–71]. В анимационном фильме Носферату нуждается не столько в проводнике в мир людей (в котором чувствует себя вполне вольготно), сколько в пособнике. Он недвусмысленно заявляет о желании видеть в лице Джонатана своего верного слугу. Характер их будущих отношений показан в эпизоде перехода Джонатана в мир Нос-ферату, который осуществляется во сне Харкера и в котором Носферату предстает в образе кентавра, явно с намеком на власть эротического характера по отношению к тому, кто этот сон видит. Мельком в этом сне мы видим в гробу девушку, к которой вроде бы стремится вампир-кентавр, но это лишь намек на невесту графа Дракулы, который ни разу в фильме не повторится. Таким образом, Носферату и
Харкера связывают властные отношения, где Джонатан (у которого, кстати, тоже нет невесты) оказывается в мазохистском положении – пародирование трактовки вампиризма как выражения либидо вампира (которого у него нет и быть не может, ибо он стремится к удовлетворению страсти другого порядка) и мазохистской фантазии жертвы. В целом эротизм графа никак не проявляется в фильме, как и оргиастические эмоции, метафорически выражающиеся обычно в виде крови. Его витальность теряет эротический характер, свойственный кино-вампирам, обнажая тот факт, что это странный, «холодный» эротизм в целом в сущности вампира не имеет ничего общего с собственно продлением человеческого рода, кровного родства, а имеет другую природу – нерегулируемую, неконтролируемую (остранение образа вампира в целом). В то же время, у конкретного вампира – Носферату – прорыв хаотических сил отрывается от природы и привязывается к цивилизации (появление новых черт образа в фильме). Обретение власти над миром через приобщение к «общности в крови» Носферату не интересует. В осуществлении поджога он берет казалось бы не свойственную вампиру функцию (в фильме мотивируется как месть, но мы отнесем это к чисто сюжетной мотивации). Поскольку вампир является проявлением сверхвитального, стихийного, его желание подрыва цивилизованной жизни уже не кажется таким уж странным, как и то, что сам он при этом оказывается неуловимым и неподвластным смерти. Однако если раньше Носферату приходил как мор, то в современном мире – как угроза, исходящая не со стороны природы или другой внешней могучей силы, но внутри самой цивилизации, из ее сердца.
Другой мотив, свойственный вампирской теме, – мотив заражения или болезни – в фильме В. Мариничева практически отсутствует: «Дракула» не заражает Джонатана, не делает его вампиром. Более того, вампирскому занятию – питию крови – в фильме «Носферату» почти нет места, равно как и самой крови. Объявление графа о том, что он будет работать главным врачом в больнице, что по соседству с кладбищем, Джонатан встречает восторженно: «Значит, не будет никаких проблем с кровью!». На это Носферату разочарованно отвечает: «Да что ты все кровь да кровь. Во-первых, не кровью единой жив вампир…».
Носферату каждый раз скорее пугает свои жертвы, чем охотится на них. Причем первая ночная вылазка графа и Джонатана с полетом над поездом будто бы имеет целью только сам полет и забаву по наведению смертельного ужаса на окружающих (результат – смерть мужчины в поезде).
Носферату в фильме В. Мариничева – не «классический» романтически-аффективный вампир, которым руководит страсть; он скорее импульсивный персонаж*. Однако его импульс, прорыв иного порядка, чем у «традиционных» вампиров: он прорывается не столько как первично-природное или хаотически-мистическое, сколько как болезненно-человеческое («…Порвана вселенная, скомкана», – говорит об этом прорыве режиссер). На протяжении всего фильма Носферату пугает и убивает. В эпизоде в самолете инициация Джонотана происходит через убийство (!), а не через кровопитие. Лишь один раз за весь фильм вампир все же пьет кровь, но перед этим происходит совсем не характерная для вампира вещь: после долгой «охоты» за выбранной жертвой-девушкой в ночном городе, сопровождаемой ужимками, игрой в прятки (снижение и пародирование вампирских повадок), Носферату избивает девушку, нанося несколько ударов по лицу, как будто им движет не жажда крови, а жажда разрушения.
«Мужской мир». Как известно, кинематографическая история Дракулы начинается с фильма Мурнау «Носферату, симфония ужаса»; в нем профессор отодвигается на второй план, а акцент делается на жертвенности женщины, готовой провести с вампиром ночь, быть им укушенной и зараженной, а главное – способной удержать вампира до губительных лучей утреннего солнца. Особенно последовательно эта линия проведена в римейке фильма Мурнау («Носферату: призрак ночи»), сделанном Вернером Херцогом, для творчества которого вообще характерно внимание ко всему чуждому европейской цивилизации, к мирам первобытным и диким. Его Ван Хельсинг – совсем уже беспомощный старик, Дракула – сама эпидемия, вторгающаяся в город, а женщина жертвует собой ради спасения от болезни всего города.
Характерно, что в фильме В. Мариничева женщина появляется практически только в одном образе – проститутки Мины, самой ставшей «жертвой» разгулявшейся парочки графа и Харкера. В эпизоде знакомства с ними девушка называет имя, добавляя реплику: «А вообще, можешь звать меня как угодно…». Сниженный образ Мины, возможность любого имени, эпизодическое появление говорит о том, что никакого отношения к жертвенному прототипу героиня анимационного фильма не имеет.
Чтобы ввести фильм В. Мариничева в российский контекст, можно провести параллель, подкреп- ленную не только совпадением уголовно-полицейских истоков и визуальными перекличками основного образа, но и пересечением более глубинным, в сфере ментальности, – параллель с другим фильмом, продюсером которого выступил Сергей Сельянов, «Грузом 200» (Алексей Балабанов, 2007 г.). Несколько сбивающая с толку зрителей «Груза 200» визуальная параллель вампира и Журова возникает и в самом облике героя фильма Балабанова (см. иллюстрации 1 и 2), и в одном-двух эпизодах, где он неожиданно появляется и сразу исчезает, мелькнув в свете луны. Журов и типологически приближается к образу вампира: в нем есть нечто кадаврическое, он словно существует в мире смерти, однако он – тело без души, и «живой труп», и «мертвая душа» [7].

Илл. 1. Граф Дракула. Анимационный фильм В. Мариничева «Носферату. Ужас ночи» (2010 г.)
Общность этих двух фильмов прослеживается на уровне ментальности и психологии. Современный российский кинематограф беден на женские образы, особенно положительные, он создает преимущественно мужской мир как в повседневности, так и в психологическом плане, а такие киносериалы, как «Бумер», «Брат», телесериалы «Бригада» и т.п., последовательно работают в теме преступной и полицейской среды. В фильмах последнего времени таких режиссеров, как А. Звягинцев (ср. «Изгнание», 2007 г., «Елена», 2011 г.), К. Серебрянников и др., женские образы зачастую психологически/ кинематографически неубедительны, слабо мотивированы, холодно-рассудочны, создаются в той системе координат и мифологии, которая не позволяет создать цельный женский характер. Даже в фильме А. Гордона «Огни притона» (2011 г.) ролью хозяйки борделя. Мужчины в таком кино оказываются психологически и духовно ущербны, а женская любовь и ее восприятие извращаются.
образ женщины, способной любить, сопряжен с

Илл. 2. Капитан Журов (актер Сергей Полуян). Кино фильм А. Балабанова «Груз 200» (2007 г.)
Важным женским образом становится образ матери. Анализируя советскую мифологию материнства, С. Адоньева приходит к выводу о сильной связи советского человека с «Великой Матерью», матерью священной. «Это богиня войны – она понуждает к ней мужчин и отдает им погребальные почести, также подавая и охраняя жизнь детей» [5, с. 253]. Великая Мать возникает в контексте вампирской темы в романе В. Пелевина «Empire “V” / Ампир “В”»: «развратная, несмотря на отсутствие тела, вечно пьяная и смертоносная царица вампиров» [5, с. 253]. Мать священная не отрывает своих сыновей от связывающей их пупови- ны, запрещает сексуальность. Так, Журов, связанный с «зоной» и импотенцией, спецификой профес- сии, властью, неспособный строить нормальные отношения, делает пленницей свою нареченную жену
(полужертву, полублудницу). Мир «Носферату» также связан с темой власти, уголовщины, отсутст- вия сексуальности (помимо эротизированных во сне Джонатана отношений хозяина – подчиненного);
связь двух интерпретируемых фильмов в зацикленности на матери, на оральной стадии подтверждает- ся и эпизодом знакомства с графом, где Носферату подробно останавливается на портрете своей мамы, также описываемой в духе «богини войны».
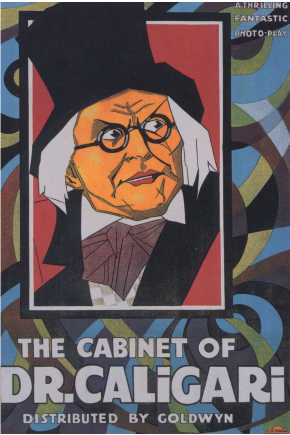
Илл. 3. Постер фильма Р. Вине «Кабинет доктора Кали-гари» (1920 г.)
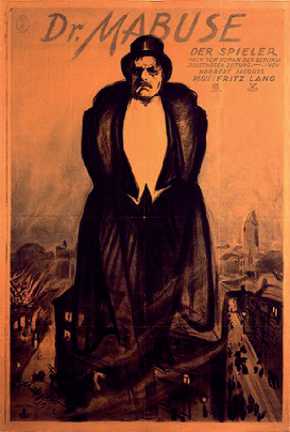
Илл. 4. Постер фильма Ф. Ланга «Доктор Мабузе, игрок» (1922 г.)
Хотя эти моменты отчасти пародируются в анимационном фильме, «Ноcферату» все же является проводником тех же черт, что и «Груз 200», что дает возможность говорить о действительно существующей мифологии и социально-психологических характеристиках, выражаемых через экран. Кроме того, Журов, как и Носферату, постмодернистский персонаж: он строится на игре образов (маньяк, вампир, «оборотень в погонах» и т.д.), его нельзя зафиксировать сколько-нибудь определенно.
Сеанс гипноза. Фильм В. Мариничева в своей образной системе опирается не на роман Стокера, а на дальнейшую и многократно менявшуюся кинематографическую традицию дракулианы. В различных интервью режиссер говорил, что он вдохновлен, в первую очередь, «Носферату» Мурнау. Как известно, этот фильм вместе с «Кабинетом доктора Калигари» Роберта Вине, «Доктором Мабузе» Фрица Ланга вышел в Германии в 1920-х гг.; эти и некоторые другие картины составляют группу «фильмов о тиранах». Обозначил и проанализировал эту группу З. Каракауэр в своей работе «Психологическая история немецкого кино», показав, как реализуется в них тема души, стоящей на распутье между анархией (хаосом) и тиранией. Вызывая к жизни страшные образы тиранов, предполагает Каракауэр, возмож- но, «немцы пытались заклясть страсти, которые бродили в них самих и грозили полным себе подчинением» [4, с. 83].
На самом деле от Мурнау В. Мариничев практически ничего не берет. Образ его графа Дракулы отчасти питается экспрессионистской традицией (например, ассоциация портретного образа графа с «Криком» Э. Мунка), что свойственно скорее «классическим» вампирам. Рабочее название фильма даже было «Душа Носферату», а экспрессионизм как раз стремился показать «работу» и жизнь души, что в анимационной ленте отсутствует. Если новый «Носферату» и связан типологически с фильмами немецкого экспрессионизма, то не с классическим образом «разносчика заразы-чумы» или кровопийцы, а с образами гипнотизеров Калигари (директор лечебницы, использующий в своих целях пациента-сомнамбулу, которого показывает в своем балагане в ящике, похожем на гроб; убийца) и Мабузе.
Жажда власти, готовность идти на любой эксперимент для овладения телом и душой человека объединяют все эти образы гипнотизеров-психиатров, а также вносят в них элементы натуралистические. Носферату – также талантливый гипнотизер (свойство вампиров) и главный врач в психиатрической больнице. Образ «доктора» и тема гипноза, конечно, отсылает к фашистским экспериментам и «Доктору Смерть»; «Носферату» касается темы грубого воздействия на человека.
В какой-то степени представитель закона комиссар Сьюард в «Носферату», как и прокурор Венк в «Докторе Мабузе», скомпрометирован: его готовность пойти на сговор с «доктором Фишером» ради репутации свидетельствует о его моральной неустойчивости. Образ Носферату-Дракулы здесь наделяется функцией искусителя и изобличителя (что сближается с миссией врачевателя) социальных пороков. При этом в фильме все, кроме Ван Хельсинга как представителя чистой рациональности, поддаются гипнозу.
Калигари, а в большей степени Мабузе, и современный Носферату – многоликие и ускользающие – олицетворяют вездесущую угрозу, которую невозможно локализовать. Анимационный Драку-ла-Носферату выражает наш страх не перед заражением, не перед инаковостью (отсутствием смерти, гомосексуализмом или др.), но перед двумя вещами. Во-первых, перед тем, что зло может завладеть каждым из нас в любой момент. Так, гипноз Носферату заставляет Джонатана убивать, блюстителей закона избить неповинного человека. Однако источником этого зла является сам человек – его инстинктивные импульсы. Отчасти «душа Носферату» – это низменные стороны нашей души. Во-вторых, страх относится к современной социальной мифологии и связан с ощущением, что зло поджидает нас везде. В одном из телеинтервью режиссер В. Мариничев так выразил одну из основных идей фильма: «Зло ходит рядом и имеет разные обличия»*. Эта трактовка образа сближает его скорее с натуралистическим «образом-импульсом», чем отсылает к экспрессионистской теме души, хотя и сам Мабузе представляется в большой степени натуралистическим персонажем, руководимым импульсом.
В. Мариничев придает своему персонажу черты разных образов, сближая его то с преступником-маньяком, то с расчетливым уголовником, то с призраком, то с «Доктором Смерть»; с образом экспрессионистским и натуралистическим. В целом образ анимационного вампира скорее отталкивается от наших представлений о вампире, проявляя его укорененность в первичных импульсах, изначальной природной общности, «зове крови», а также вскрывает черты «постиндустриального вампиризма».
Дискуссия
ЛЩ. Не знаю, заметили ли вы, что романтизированный образ вампира буквально захлестнул массовый экран и подростковую литературу, начиная примерно с середины 1970-х гг. Мало того, что населившие массовый экран вампиры в количественном отношении превосходит других монстров (зомби, оборотней, призраков и т.д.), но они прошли и заметную качественную эволюцию: от образа Носфера-ту в фильме Мурнау 1922 г. – омерзительного старика, бездушного хищника, сопровождаемого крысами, до неотразимого красавца Лестата де Лионкура из «Интервью с вампиром. Вампирские хроники» 1994 г. Современные вампиры, сошедшие со страниц мелодраматической прозы Энн Райс и Стефани Майер, – это тонкие юноши и девушки, склонные к рефлексии и поискам ответов на вечные вопросы. Экранизация «вампирской саги» невероятно популярна. Так почему же именно вампир стал «героем нашего времени»? Мне кажется, потому что в отличие от других «не-человеков», вампир дает своей жертве бессмертие. Бессмертие чисто телесное, теневое, но с учетом двух важных характеристик современного гедониста – телесно-эротического отношения к жизни и социально-психологического состояния повышенной тревожности – это все же бессмертие. Далее на этом образе отрабатывается идея отношения к Другому и принятия Другого, даже чуждого. Взглянуть на мир глазами вампира – «все равно, что взглянуть на землю с небес» (тем более что небеса эти ныне заселены вернувшимися к нам злыми языческими богами). Я помню удивившую меня песенку из детского мультфильма середины 1990-х гг. с рефреном «Вампиреныш – он наш друг!».
Сегодняшний вампир – это «темный ангел», который предлагает своим «друзьям» кровосмешение, обмен кровью. В многочисленных работах, посвященных вампирической парадигме в западной литературе и культуре, естественно, рассматривается и мистика крови или философия крови. Ведь кровь – один из самых древних символов мировой культуры. Поэтому метафора вампиризма имеет не только значение кровавой инициации, дающей обретение иной природы (не человеческой витальности) и иной, не-социальной, интеграции. И символист М. Кузмин, и большевик А. Богданов тоже воспринимали кровь как «знак обмана», выход из «одиночества крови», своеобразный коллективизм.
Я согласна с теми культурологами, которые описывают фигуру вампира как метафору самого кинематографа. Ведь кино – это изображения, живущие жизнью людей и заставляющие людей жить жизнью изображений.
Еще раз вернусь к роковым красавцам Голливуда, обеспечившим огромную аудиторию и «всенародную любовь» вампир-муви. Готические мелодрамы предельно романтизируют образ вампира, а это требует комедийного противоядия. Возможно, черная комедия В. Мариничева не имела зрительского успеха как раз в силу того, что в ней насмехаются не над кинематографическими штампами, а приземляют и драматизируют как образ самого Дракулы, так и всех персонажей стокеровской истории (еще бы: покусились на святое!). В. Мариничев убирает добавляющие мелодраматизма женские персонажи, рассказывая чисто мужскую историю, да еще снимая ее в духе примитива. То ли дело фильм канадского режиссера Гая Мэддина «Дракула: страницы из дневника девственницы» 2002 г. В этом фильме-балете на музыку Г. Малера Дракула – «романтический гость, гений любовного пируэта, уничтожен невысоко оторвавшимися от земли посредственностями во главе с Ван Хельсингом».
Вообще появлению мифа о вампире современная культура обязана эпохе романтизма, времени Байрона. И хотя весь постмодерн представляет собой абсолютное отрицание романтического мироощущения, одна из его важнейших черт осталась неприкосновенной – это превосходство человека над человечеством, превосходство внутреннего мира над внешним. Первые романтики расширили «сферу интимного до немыслимых пределов». Современный кинематограф показал, что романтик – человек ночи – и есть вампир, этот «юноша бледный со взором горящим». Тем более интересна представленная фильмом В. Мариничева позиция, снижающая этот образ до анекдота.
НШ. Очевидно, что феномен вампира породил в культуре последних десятилетий достаточно широкий перечень концептов, обозначивших ряд реалий духовной, социальной, практической жизни современного человека и общества. С одной стороны, это объекты, явления, процессы, структуры, которые существовали и раньше, но не описывались в вампирическом лексиконе (психологическая манипуляция называется теперь официально-терминологически вампиризмом как энергетическая подпитка другим человеком; появляются понятия в сфере имиджеологии, стилистики, субкультурных сообществ, моды с приставкой вамп- : вамп-женщина, стиль «вамп», подгруппа готической субкультуры вамп-готы и т.п.). В этом смысле можно наблюдать и констатировать вампиризацию языка культуры (как это сделал, например, В. Пелевин в романе «Ампир-V»). С другой стороны, вампирическая парадигма, как удачно выразилась ЛЩ, – это новая культурная реальность, которая обозначает новые ценности и установки культуры. В лекции ИТ отчетливо проговаривает эту установку вслед за автором мультфильма: вампиры среди нас, и это нормально. Очень удачно, как мне думается, эту культурную тенденцию в более широком аспекте подметила и обосновала современный историк культуры Дина Хапаева в своей книге «Готическое общество: морфология кошмара», основным мессиджем которой является идея о смещении культурного идеала от антропологических оснований (когда конкретная личность или тип личности задает аксиологическую норму эпохи) в культуре прошлого к принципиально неантропологическому идеалу культуры (образец и камертон культурной нормы – это не человек, а нечто или некто иное: хоббит, эльф, пришелец, зомби, вампир, супергерой зооантропомор-фного вида: человек-паук или леди-кошка).
Список литературы «Зло ходит рядом и имеет разные обличия» (анимационный фильм В. Мариничева «Носферату. Ужас ночи»)
- Антонов С.А. Тонкая красная линия. Заметки о вампирической парадигме в западной литературе и культуре//«Гость Дракулы» и другие истории о вампирах: Антология. М.: Азбука-классика, 2007. С. 5-88
- Аронсон О. Трансцендентальный вампиризм//Синий журнал. 2010. № 15. С. 25-46
- Делёз Ж. Кино/пер. с франц. Б. Скуратова; науч. ред. и вступит. ст. О. Аронсона. М.: Изд-во «Ад Маргинем», 2004
- Кракауэр З. Психологическая история немецкого кино. От Калигари до Гитлера/пер. с англ. М.: Искусство, 1977
- Липовецкий М. Родина-жуть//Новое литературное обозрение. 2008. № 89. С. 248-256
- Секацкий А.К. Прикладная метафизика. СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 2005
- Тропина И.Г. «Груз 200» А. Балабанова как отражение времен//Вестн. филиала Всерос. заоч. финансово-экономического ин-та в г. Волгограде. 2008. № 5. С. 102-107