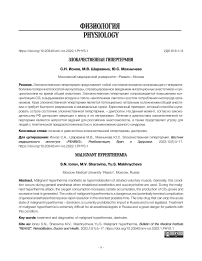Злокачественная гипертермия
Автор: Ионов С. Н., Шаравина М. В., Махнычева Ю. С.
Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz
Рубрика: Физиология
Статья в выпуске: 1 (55), 2022 года.
Бесплатный доступ
Злокачественная гипертермия представляет собой состояние внезапно возникающего гиперметаболизма поперечнополосатой мускулатуры, спровоцированное введением ингаляционных анестетиков и сукцинилхолина во время общей анастезии. Злокачественная гипертермия сопровождается повышением концентрации CO2 в выдыхаемом воздухе и тепла, накоплением лактата и ростом потребления кислорода организмом. Криз злокачественной гипертермии является потенциально летальным осложнением общей анестезии и требует быстрого разрешения в минимальные сроки. Единственный препарат, который способен купировать острое состояние злокачественной гипертермии, - дантролен. На данный момент, согласно законодательству РФ дантролен запрещен к ввозу и не легализован. Лечение и диагностика злокачественной гипертермии является непростой задачей для российских анестезиологов, а также представляет угрозу для людей с генетической предрасположенностью к возникновению данного синдрома.
Лечение и диагностика злокачественной гипертермии, дантролен
Короткий адрес: https://sciup.org/143178304
IDR: 143178304 | УДК: 616.1/.9 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2022.1.PHYS.1
Текст научной статьи Злокачественная гипертермия
Злокачественная гипертермия (ЗГ) представляет собой состояние острого гиперметаболизма клеток поперечнополосатой мускулатуры, спровоцированного нарушением транспорта ионов кальция из саркоплазматического ретикулума. ЗГ характеризуется накоплением лактата, увеличением производства тепла, углекислого газа и потребления мышцами кислорода. Провоцирующим фактором при возникновении ЗГ у пациентов с предрасположенностью является применение общей анестезии во время хирургического вмешательства [1].
Данное состояние чревато тяжелыми последствиями для всех систем организма. Самым серьезным последствием ЗГ является летальный исход, возникающий как следствие прогрессирования эктопической желудочковой аритмии. Патологические симптомы включают миоглобинемию, острое диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови, отек легких, отек мозга, фибрилляцию.
Этот генетический синдром носит аутосомно-доминантный характер и обусловлен преимущественно мутациями в генах рианодинового рецептора (RYR), что сопровождает нарушения потенциал-зависимого кальциевого канала L-типа (CACNA1S) и STAT3 (кодирует STAT-активатор транскрипции и сигнальный белок) [2].
Впервые генетическая детерминированность ЗГ была установлена в исследовании, опубликованном в выпуске журнала “Lancet” 1960-го года. Описание указанной патологии было сделано на основе случая послеоперационной гипертермии у молодого мужчины. Анамнез показал, что у 10 из 24 кровных родственников проявились симптомы ЗГ, приведшие к летальному исходу [3].
ЗГ является достаточно редким наследственно-обусловленным синдромом. При применении сукцинилхолина в качестве общего анестетика данная патлогия проявляется в одном случае на 60 000 пациентов. При использовании летучих ингаляционных анестетиков наблюдается один случай на 220 000 человек. При умеренной степени анестезии был отмечен один случай на 4 500 пациентов [1]. Почти 50 % всех реакций приходится на детей младше 5 лет. Статистика также демонстрирует, что 3/4 всех зарегистрированных летальных исходов приходится на представителей мужского пола (в том числе и детей) [4].
В связи с высоким риском летального исхода и быстрым, фульминантным течением, пред анестезиологами встает задача своевременного определения классической формы молниеносного эпизода злокачественной гипертермии. Ключевым становится диагностика синдрома до проявления полного спектра классических признаков ЗГ, поскольку время постановки диагноза коррелирует с эффективностью лечения.
Патофизиология синдрома ЗГ
Локализация биохимических реакций, характерных для ЗГ наблюдается в поперечнополосатой мускулатуре и отчасти в системе гемопоэза. Однако последующие патологические изменения воздействуют на состояние всех систем организма. В результате генетической мутации в рианодиновых рецепторах RYR и под воздействием указанных выше триггеров в организме пациента происходит нарушение деятельности кальциевых каналов в саркоплазматическом ретикулуме. В результате концентрация ионизированного Ca2+ возрастает до восьми, относительно нормальной [3].
В процессе накопления Ca2+ происходит его сцепление с тропонином, чья функция состоит в препятствовании сокращению скелетной мускулатуры. В результате данного патологического процесса тропонин перестает выполнять свои функции, а в организме формируется стабильный актин-миозиновый комплекс. Данный химический процесс приводит к патологическому сокращению скелетной мускулатуры и нарастающей мышечной ригидности.
Дальнейшая цепная реакция ведет к патологическим изменениям в работе других систем организма. В связи с невозможностью мышечного расслабления энергия АТФ расходуется в значительных объемах, которые быстро истощаются. Организм пытается компенсировать дефицит АТФ при помощи активации гликогенеза и фосфорилаткиназной системы. В результате уазанных трансформаций в организме анаэробные механизмы приходят на смену аэробным, вызывая тем самым повышение концентрации лактата и нарушение кислотно-основного равновесия.
Отек скелетной мускулатуры провоцирует разрушение мембраны мышечных клеток. Данный процесс вызывает такие явления как гиперкалиемия, гиперкальциемия, миоглобинурия, а также повышение концентрации креатинофосфокиназы в крови. В связи с патологическими изменениями, затрагивающими все системы организма, в первую очередь страдают сердце и головной мозг.
Миоглобинурия может привести к острой почечной недостаточности. Дополнительные опасные для жизни осложнения включают ДВС-синдром, застойную сердечную недостаточность, ишемию кишечника и компартмент-синдром конечностей. Когда температура тела превышает примерно 41 °С, ДВС-синдром является частой причиной смерти [5].
Мутации в геноме
За последние три десятилетия стало ясно, что склонность к возникновению синдрома злокачественной гипертермии обусловлена мутациями в трех генах: RYR1, CACNA1S и STAC3 [2, 5].
RYR1 – это рианодиновый рецептор, в составе которого насчитывается 5,032 аминокислот. Ионы Са2+ высвобождаются из саркоплазматического ретикулума (СР) посредством RYR1, выполняющего роль канала. При отсутствии мутаций рианодиновый рецептор активируется АТФ, галотаном, кофеином, микромолярныйми концентрациями кальция, низкими концентрациями рианодина. Инактивация канала происходит вследствие воздействия миллимолярных концентраций кальция и высоких концентраций рианодина.
Исследования ЗГ проводилось на примере свиней, у которых также наблюдается подобная патология. Было выяснено, что животные имеют схожий ген, отвечающий за работу RYR1. Генетический дефект у пораженных особей был обнаружен при анализе состава лимфоцитов крови [6]. В результате исследований выяснилось, что свиньи, склонные к проявлениям ЗГ, имеют мутацию в нуклеотиде 1843, в котором цитозин занимает место тимина, присутствующего у здоровых особей. Замена аминокислоты, как следствие, приводит к тому, что в RYR1 в нуклеотиде 615 вместо аргинина обнаруживается цистеин.
Исследования генетического кода людей, склонных к ЗГ показало, что они также имеют мутацию в рианодиновом рецепторе. Патологические изменения проявились в нескольких генах 19 хромосомы в позиции 13.1.
Генетическая детерминированность ЗГ у человека объясняется более сложными механизмами, чем в случае популяции свиней. В первую очередь, в случае свиней мутации в RYR1 передаются по рецессивному типу. Что же касается людей, изменения в рианодиновом рецепторе носят аутосомно-доминантный характер. При этом лишь две семьи из изученных ста имеют схожую со свиньями мутацию в геноме. Кроме того, у людей симптомы ЗГ коморбидны и проявляются с иными нарушениями в работе функций мышечной ткани. В то же время, генетически такие нарушения обусловлены в мутациях генов, удаленных от того участка генетического кода, который отвечает за воспроизводство RYR1 [1].
Иными словами, можно заключить, что проявление ЗГ у людей имеет ряд возможных причин. С момента сообщения о первом человеческом варианте RYR1, связанном с ЗГ, сотни пробандов ЗГ и тысячи членов их семей были проверены на наличие ассоциированных с ЗГ вариантов RYR1. Ассоциированные с ЗГ варианты были обнаружены более чем в половине изученных семейств из разных популяций.
Но небольшое число восприимчивых к ЗГ семейств несут мутацию во втором гене – CACNA1S, кодирующем субъединицу α -1S белка Ca v 1.1 (кальциевый канал L-типа).
Функциональный анализ ассоциированных с ЗГ вариантов CACNA1S показал, что их влияние на связь возбуждения и сокращения скелетной мускулатуры было аналогично мутациям в RYR1 [2, 6].
Гомозиготная мутация STAC3, выявленная с миопатией у коренных американцев, приводит к восприимчивости ЗГ. Считается, что нормальное функционирование белка Stac3, кодируемого STAC3, необходимо для эффективного совместного расположения дигидропиридиновых рецепторов и RYR1 [6].
Анализ баз данных вариаций секвенирования следующих поколений подтвердил высокий уровень аллельной гетерогенности в RYR1 и CACNA1S по сравнению с другими генами генома, то есть оба этих гена имеют высокий уровень естественной изменчивости. Эти исследования показали, что большая часть вариантов RYR1, найденных в базах данных, были редкими, с частотой 0,00001 или меньше [2].
Дефекты метаболизма Na+ каналов и ли-ганд-зависимого кальциевого канала IP3 (ино-зитол-1,4,5-трифосфата) делают вклад в избыточное накопление Са2+, который, в свою очередь, является ключевым компонентом в цепочке факторов, приводящих к проявлениям ЗГ [1].
Триггерные факторы
Химические вещества, а также факторы, способные вызывать ЗГ, называются триггерными агентами.
Люди с описанными выше мутациями в геноме проявляют признаки ЗГ после введения в организм скелетных миорелаксантов (сукцинилхолина хлорида, декаметония, гал-ламина, d-тубокурарина) и всех ингаляционных анестетиков, кроме закиси азота (веселящий газ) [4].
Чаще всего ЗГ вызывает сукцинилхолин. Этот препарат противопоказан детям, так как вызывает гиперкалиемию с недиагностиро-ванной миопатией.
В XX веке было распространено мнение, что стероидные миорелаксанты (векуроний и панкуроний) не вызывают ЗГ. Однако исследования 1990-х гг. опровергли эту идею. На настоящий момент лишь местные эстетики (включая амидные и эфирные) считаются полностью безопасными [2].
Необходимо отметить, что помимо непосредственно триггерных препаратов имеется ряд веществ, которые усугубляют симптоматику ЗГ, хотя они не провоцируют возникновение начальной реакции (табл. 1).
Помимо перечисленных препаратов потенциально триггерным фактором при возникновении ЗГ является использование ингаляционных седативных устройств в послеоперационном периоде в отделении интенсивной терапии (ОИТ) при различных патологических состояниях. Пациенты, восприимчивые к ЗГ, также находящиеся в отделении интенсивной терапии, могут подвергаться риску такого воздействия. Введение севофлурана пациентам с помощью устройства AnaConDa® (The Anaesthetic Conserving Device (ACD) – миниатюрный испаритель для проведения ингаляционной седации) было признано безопасным для медицинских работников с оговоркой, что система газоотведения должна быть исправна [5].
Таблица 1. Перечень безопасных и потенциально триггерных препаратов, применяемых для ингаляционной анестезии
Table 1. List of safe and potentially trigger drugs used for inhalation anesthesia
|
Потенциально опасные препараты |
Препараты, не вызывающие симптомов ЗГ |
|
|
У пациента, поступившего в отделение интенсивной терапии по поводу люмбалгии, был зарегистрирован случай ЗГ, вызванный введением севофлурана с помощью устройства AnaConDa®. Восприимчивость к ЗГ была подтверждена позже, что подчеркивает важность дифференциальной диагностики ЗГ у пациентов интенсивной терапии, госпитализированных по поводу других состояний при использовании этих седативных устройств [5].
По данным современных исследований некоторые случаи ЗГ имеют психосоматическую природу. Симптомы могут быть вызваны негативными переживаниями, связанными с оперативным вмешательством: повышенным уровнем тревоги, депрессивными состояниями. В 1966 году синдром стресса у изучаемых свиней был идентифицирован как «бодрствующий» эпизод ЗГ (“awake” MH episode). Стрессовые состояния вызывают быструю смерть у этих животных.
Физические нагрузки и тепловой удар (“heat-stroke”), как потенциальные триггеры для ЗГ, продолжают обсуждаться. Gronert и Denborough сообщили о пациентах с «бодрствующими» формами ЗГ, пациентах с тепловой нагрузкой, вызванной физическими упражнениями, которые ответили на дантро-лен. Возможно, наиболее убедительный, хотя и неудачный эпизод ЗГ, вызванный физическими упражнениями, был описан Tobin с соавторами: смертельный случай у 13-летнего мальчика, который пережил клинический эпизод ЗГ, наступивший после тренировки несколько месяцев спустя. У него и других членов семьи была обнаружена мутация RYR1 [7].
Исследования на мышах с мутацией Y522S в гене RYR1 указывают на их аномальную чувствительность к повышенным температурам окружающей среды, что приводило к аномальным высвобождениям Ca2+. Однако этот результат следует рассматривать с некоторой осторожностью, так как гомозиготная мутация Y522S у мышей является летальной на ранних стадиях эмбрионального развития. Это отличает их от фенотипа, наблюдаемого с гомозиготной мутацией R615C у свиней и небольшим количеством гомозиготных вариантов RYR1 у людей. Однако раннее было показано, что мыши, гетерозиготные по мутации Y522S, проявляли ослабленную тепловую чувствительность после эксцентрических упражнений [5].
В другом исследовании сообщается, что гетерозиготная по мутации R163C мышь является более репрезентативной для фенотипа человека и, таким образом, может служить важной модельной системой для дальнейшего изучения ЗГ, вызванной физическими нагрузками. Тепловой стресс также вызывает фульминантный эпизод ЗГ у мышей, экспрессирующих кроличий эквивалент мутации T4826I человеческого гена RYR1.
Brown с соавторами сообщали о возможном вирусном триггере [8].
Заболевания, повышающие риск развития злокачественной гипертермии:
-
• центроядерная миопатия [9];
-
• болезнь Дюшенна;
-
• мышечная дистрофия типа Фукуяма;
-
• синдром Кинга – Денброха;
-
• синдром Шварца – Дамбела [3].
Третьего июня 2019 года американское общество анестезиологов (ASA) опубликовало протокол конференции, проведенной Ассоциацией злокачественной гипертермии Соединенных Штатов. По результатам конференции нет достаточных данных для прогнозирования повышенной нагрузки ЗГ у пациента с наличием в анамнезе рабдомиолиза, связанного с жарой или упражнениями. Пациенты с ЗГ, не связанной с анестезией в анамнезе, должны рассматриваться в индивидуальном порядке с помощью данных контрактурной биопсии или генетического тестирования [10].
Пробы на предрасположенность к ЗГ
В настоящее время «золотым стандартом» для диагностики ЗГ является in vitro тест контрактуры (IVCT), который основан на контрактуре мышечных волокон в присутствии галотана или кофеина.
Биоптат берется из четырехглавой мышцы бедра (могут использоваться biceps brachii, mm. quadriceps femoris, vastus lateralis и vastus medialis [11]). Во время биопсии структура мышечных волокон должна оставаться сохранной, не следует производит натяжение фрагмента. Электрокоагуляцию не применяют до окончательного иссечения би-оптата [11].
Биоптат разделяется на волокна, которые затем протягиваются между электродами в растворе Рингера – Локка. Далее мышечный образец подвергают воздействию супермаксимального тока. Сокращения миоцитов анализируются. Далее часть волокон подвергается воздействию галотана, к другому пучку мышечных волокон добавляют кофеин [13].
Были изучены две широко используемых формы IVCT: одна европейской группой ЗГ (EMHG), другая – североамериканской (NAMHG), применяли галотан-кофеиновый контрактурный тест – CHCT. Используя протокол EMHG, человека считают восприимчивым к ЗГ (MHS), если результаты и кофеинового и галотанового теста положительны.
Используя протокол NAMHG, человек диагностируется как MHS, когда или галотановый, или кофеиновый тесты положительны, и MNH, когда оба теста отрицательны. Протокол EMHG является более чувствительным, так как он уменьшает число ложноположительных и отрицательных результатов.
IVCT является дорогостоящим диагностическим методом. Его применение ограничивает необходимость специализированных центров, хирургической процедуры под анестезией, ненадежность результатов (ложноположительные или ложноотрицательные результаты). В модификации протокола используют фторированный эфир севофлурана. Испытания с этим агентом не привели к однозначным ответам, согласующимся с галотаном [5].
Альтернативой IVCT выступает генетический анализ. Наиболее распространенным методом данной диагностики является секвенирование и мультиплексная амплификация лигазно связанных проб (MLPA). MLPA базируется на амплификации участков геному на основе одной пары праймеров. Данный метод считается наиболее предпочтительным в связи с его экономичностью и простотой в реализации. Специфика применения метода делает его менее чувствительным, поскольку в его рамках лишь несколько маленьких участков ДНК подвергаются детальному анализу. Существует более чувствительный, хотя тоже достаточно экономичный метод, который получил название высокоточный анализ кривых плавления (HRM).
Если мутация выявлена в геноме пациента с симптомами ЗГ, исследование кровных родственников является достаточно простой процедурой, так как поиск ведется только в направлении одной конкретно определенной мутации.
В ряде случаев биоптат подвергается биохимическим или гистологическим методам анализа, которые позволяют точнее определить патофизиологию злокачественной гипертермии в каждом конкретном случае [11].
Другие биохимические, гематологические и физические тесты менее чувствительны и специфичны для диагностического использования. Еще одним недостатком диагностических тестов является то, что результаты трудно интерпретировать у пациента, который страдает от других миопатий. Например мышечная дистрофия Duschenne, где концентрация внутриклеточного Ca2+ повышена на базовом уровне [5].
В некоторых странах вместо генетических методов анализа предпочтение отдается галотан-кофеиновому контрактурному тесту (ГККТ), который проводится у нескольких родственников идентифицированного пациента. Причина такого выбора состоит в том, что отрицательные показатели генетического анализа не гарантируют отсутствия предрасположенности к ЗГ, в то время как ГККТ гарантирует более точный результат.
Своевременное выявление ЗГ в России сопряжено с рядом сложностей. В первую очередь стоит проблема недостаточной технической оснащенности больниц, в частности отсутствие капнографов, которые дают возможность проведения срочной диагностики. Кроме того, в стране не имеется ни одного центра, где выполняется ГККТ, и существует единственная лаборатория, в которой проводится генетическая диагностика ЗГ.
Работа по преодолению указанных сложностей активно ведется комитетом по проблеме ЗГ, созданным в 2012 г. Члены сообщества задействованы в создании ряда консультативно-диагностических центров на террито- рии России. Первая лаборатория была создана на базе Клинического госпиталя МСЧ МВД России в Санкт-Петербурге. Кроме того, Всемирная федерация обществ анестезиологов (WFSA) предоставила российским коллегам грант на обучение специалиста по технологии ГККТ [11].
Клиническая картина ЗГ
Как правило дебют ЗГ происходит сразу после индуцирования одного из препаратов, указанных в таблице 1, или в ранний постоперационный период. Имеется описание случая возникновения симптомов ЗГ на второй день после оперативного вмешательства, спровоцированных устройством AnaConDa®.
Ранним признаком ЗГ, согласно современным исследованиям, считается повышение концентрации СО 2 в выдыхаемом воздухе (ЕТСО 2 ). При этом рост этого показателя даже на 5 мм рт. ст. выше нормы является сигналом для более внимательного наблюдения за состоянием пациента [1]. По этой причине капнография, как один из компонентов анестезиологического мониторинга, представляет особое значение в диагностике патологии [3].
Таким образом имеются два самых первых и главных диагностических признака, которые следует использовать анестезиологам для современного выявления ЗГ:
-
1) рост концентрации ЕТСО 2 ;
-
2) повышение температуры тела и повышение частоты сердечных сокращений.
Необходимо отметить, что имеются различные причины повышения концентрации ЕТСО 2 , связанные как с проблемами в аппаратуре (низкопоточная анестезия; нарушение индивидуального режима вентиляции; ошибки в анестезиологическом мониторинге, углубление анестезии у пациентов на спонтанном дыхании), так и с иными патологиями систем организма [11].
Что же касается роста температуры и тахикардии, эти симптомы также требуют вни- мательного мониторинга и последующей диагностики ЗГ или иных отклонений в состоянии пациента.
Отчет Североамериканского регистра злокачественной гипертермии (NAMHR), Ассоциации ЗК США (MHAUS) (создана в Соединенных Штатах в 1981 г.) показал, что рутинное использование мониторинга температуры тела имеет важное значение для минимизации заболеваемости и смертности от ЗГ [14]. Larach и коллеги показали, что при анализе смертности от ЗГ у 8 из 84 пациентов риск смерти был примерно в 14 раз выше у тех пациентов, у которых мониторинг температуры не использовался, и в 9,7 раза выше, когда применялся только мониторинг температуры кожи. Данные также показали, что вероятность каких-либо осложнений увеличилась в 2,9 раза при повышении температуры на 2 º С и в 1,6 раза на 30-минутную задержку при использовании дантролена [5].
Сложность диагностики ЗГ вызвана тем, что пациенты, находящиеся во время операции на самостоятельном дыхании, не исследуются с точки зрения концентрации ЕТСО 2. В случае отсутствия капнографии диагностика ЗГ осуществляется на основе наличия и сочетания таких признаков как генерализованная мышечная ригидность, гипертермия, тахикардия, тахипноэ, цианоз. Самыми значимыми признаками возможного проявления ЗГ являются уменьшение концентрации РаО 2 при росте РаСО 2 , гиперкалиемия, миоглобинемия и смешанный ацидоз [1].
Именно повышение РаСО2 в сочетании симпатической стимуляцией провоцирует возникновение аритмии у пациентов с ЗГ. Схема типичного развития данного симптома строится по следующему алгоритму. Сначала проявляется тахикардия и экстрасистолия. С развитием патологической симптоматики первичные признаки аритмии переходят в брахикардию, и в конечном итоге происходит остановка сердца. Остановка сердечной деятельности в данном случае провоцируется резкой гиперкалиемией, развивающейся в сочетании с метаболическими расстройствами и общей гипоксией.
Возрастание симпатического тонуса в ходе развития признаков ЗГ приводит сначала к подъему артериального давления, а впоследствии к его резкому снижению по причине вторичного угнетения миокарда. [3].
Сукцинилхолин-индуцированный тризм жевательных мышц (MMR) встречается у одного из 100 детей при анестезии галотаном и сукцинилхолином. Гипертонус и ригидность жевательной мускулатуры может быть клиническим вариантом как ответ на введение сук-цинилхолина, как предвестник острой злокачественной гипертермии, и/или связана с клинически значимым рабдомиолизом [5].
Когда развивается выраженная ригидность жевательных мышц, особенно если не применялся сукцинилхолин, то необходимо немедленно прекратить введение триггерного препарата и проводить мониторинг пациента на дополнительные признаки острой злокачественной гипертермии, отложить плановые процедуры до полного анализа клинической ситуации [10].
В критическом случае анестезия может продолжиться «наиболее аккуратными» препаратами. После MMR пациентов нужно перевести в отделение интенсивной терапии и проверить на признаки ЗГ. Рабдомиолиз происходит фактически у всех пациентов, испытывающих MMR и повышение креатинкиназы (CK), поэтому анализы должны проверяться регулярно [5].
Шкала клинической оценки (CGS) – набор клинических, диагностических критериев для ЗГ – широко и эффективно используется для ранжирования побочных реакций на анестетики от «маловероятной ЗГ» до «почти определенной ЗГ». Тем не менее, присвоенный ранг CGS может недооценивать вероятность ЗГ для «более мягких» случаев, когда анестетик, вызывающий ЗГ, был выведен на ранней стадии реакции, а также для случаев без адекватного мониторинга [2].
Дифференциальный диагноз
При подозрении на ЗГ необходимо проводить дифференциальную диагностику со злокачественным нейролептическим синдромом (ЗНС). Во-первых, классический эпизод ЗГ проявляется после начала анестезии или в конце операции, в то время как ЗНС может проявиться в течение более протяженного отрезка времени. Во-вторых, ЗГ – это генетическое расстройство, а у злокачественного нейролептического синдрома (ЗНС) нет специфической генетической составляющей. Тем не менее, эта этиологическая особенность не несет клинической пользы. В-третьих, ЗНС, индуцированный нейролептиками, не проявляется в случаях с пациентами, проявившими симптомы ЗГ. У пациентов со злокачественной гипертермией не было симптомов ЗНС. При наличии предрасположенности к ЗГ применение нейролептического аналгезии имеет положительные результаты. В то время как при ЗНС такие миорелаксанты, как кураре и панкуроний, приводят к снижению мышечного тонуса и вялости, при ЗГ такие симптомы не наблюдаются [4].
Во время дифференциальной диагностики следует отсечь иные возможные основания для возникновения тахикардии. В частности данный симптом может проявиться при применении антихолинергических средств или слабом наркозе, гиповолемии, гиповентиляции, гипоксемии, тиреотоксическом кризе. Кроме того, синусовая тахикардия может возникнуть при наличии в анамнезе порфирии и нераспознанной феохромоцитомы.
Лечение
Лечение, как и диагностика, должно быть быстрым, в течение первых нескольких часов, до развития осложнений в виде органных расстройств.
В 1993 г. MHAUS разработала ряд рекомендаций, призванных снизить летальность ЗГ. В результате перемен в клинических подходах к патологии, а также изменений в административной сфере, удалось добиться снижения смертности с 80 % в 1990-е гг. до 10–20 % к 2014 г.
Далее предлагается вариант протокола работы с пациентом, находящимся в острой фазе ЗГ. Данный протокол основан на рекомендациях MHAUS и наиболее актуальных российских и зарубежных исследованиях:
-
1. Прекратить введение препаратов-триггеров. Немедленно остановить операцию и приступить к экстренным мерам.
-
2. Произвести гипервентиляцию легких кислородом в максимальной концентрации.
-
3. Немедленно ввести 2–3 мг/кг дантро-лена внутривенно. Допустимо применение до 10 мг/кг и более препарата во время последующих введений. Продолжать введене дантро-лена по 1,0 мг/кг через каждые 6 часов на протяжении следующих 24–48 часов [11].
-
4. Восстановить кислотно-основное равновесие путем введения 1–3 мЭкв/кг НСО3– внутривенно.
-
5. Положить лед на голову, пах и шею. Ввести охлажденный физиологический раствора по 15 мл/кг через каждые 10 минут троекратно.
-
6. Устранить гипергликемию. В первую очередь ввести раствор 0,5 г/кг глюкозы с 0,15 Ед/кг инсулином. Вторым шагом является внутривенное введение CaCl 2 2–5 мг/кг.
-
7. Ввести новокаинамид (1 мг/кг/мин. до 15 мг/кг) или лидокаин (1 мг/кг) для лечения аритмии.
-
8. Ввести маннитола 0,5 г/кг или фуросемида 0,5–1,0 мг/кг внутривенно для поддержания адекватного диуреза (не менее 1 мл/кг/час). Как правило в каждом флаконе дантролена уже имеется 150 мг маннитола.
-
9. Произвести установку уретрального катетера, катетеризировать центральную вену и артерию.
-
10. Производить непрерывный мониторинг концентрации сывороточных электролитов (Ca, Cl, K, Na, P), газов крови, кислотноосновного статуса организма, уровня креатинфосфокиназы, а также следить за общим состоянием гомеостаза.
-
11. Проводить коагуляционные тесты каждые 6 часов до нормализации состояния, корректировать коагулопатию в случае возникновения.
-
12. По завершении острой фазы ЗГ пациент должен быть переведен в отделение интенсивной терапии как минимум на 24 часа.
-
13. Постоянно следить за температурой пациента.
-
14. Провести беседу с семьей пациента по завершении лечения, чтобы оповестить родственников о необходимости превентивной диагностики склонности к ЗГ [1].
Указанный протокол является апробированным и наиболее эффективным подходом к лечению острых проявлений ЗГ. Тем не менее, отдельные меры могут корректироваться в случае каждого пациента, учитывая индивидуальные особенности организма. Несмотря на то, что ряд исследований рекомендует замену наркозного аппарата вместо полной остановки оперативного вмешательства, данный подход не является оправданными, поскольку может привести к усугублению симптомов и возможному летальному исходу.
Особенности дантроленакак основного препарата против ЗГ
Дантролен является единственным препаратом, обеспечивающим эффективное лечение ЗГ. Механизм влияние вещества на организм в точности не определен. Тем не менее, последние исследования продемонстрировали, что ключевым фактором в лечебном воздействии дантролена является прямое или косвенное ингибирование рецептора райано-дина, связанного с процессом высвобождения Ca2+. Препарат также эффективен в лечении НЗС, а также спастической и экстазиной интоксикации. Главной сложностью в использовании дантролена является плохая растворимость препарата в воде, которая вызывает задержку в процессе подготовки внутривенных растворов [16].
Отсутствие регистрации дантролена не позволяет принять рекомендации ФАР (Федерация анестезиологов и реаниматологов) по ведению пациентов с кризом ЗГ и ПЗГ на территории РФ, подготовленные Г.Г. Прокопьевым и К.М. Лебединским и обсужденные на конференции в Геленджике еще в мае 2012 г., хотя многочисленные попытки врачами предпринимались.
Официально зарегистрированы случаи успешного применения препарата, в том числе у ребенка А.М., 4 лет (предполагаемый криз ЗГ в КБ № 122 ФМБА РФ, март 2013 г.). Применение препарата было оформлено документально в истории болезни, с участием профессоров К.М. Лебединского и Ю.С. Александровича, как действия в ситуации крайней необходимости, когда нарушение действующих правовых норм было единственным способом предотвратить наступление тяжких последствий – смерти ребенка [17].
В связи с вероятностью возникновения ЗГ даже при применении безопасных препаратов (см. табл. 1), возможно профилактическое применение дантролена. Однако необходимо помнить, что препарат вызывает широкий спектр побочных эффектов, включая сла- бость мышц и их поражение в некоторых случаях, сонливость, тошноту и рвоту, флебиты. Также имеется ряд противопоказаний при беременности, поскольку дантролен оказывает влияние на тонус матки и состояние плода.
Таким образом, в виду указанных побочных эффектов профилактическое использование дантролена рекомендуется если пациент уже пережил острую ЗГ на фоне стресса. Превентивное введение препарата также осуществляется при лечении пациентов с ЗГ и сопутствующим заболеваниями сердца, почек или дыхательной системы. Профилактическая доза дантролена составляет 2,5 мг/кг и должна вводиться перед анестезией.
Нужно отмтить, что одновременное применение с верапамилом провоцирует гиперкалиемию и коллапс сердечно-сосудистой системы. В сочетании с дилтиаземом и метопрололом дантролен способен вызвать асистолию (отмечена при исследовании на свиньях), возникающую вследствие гиперкалиемии.
Было высказано предположение, что статины могут влиять на мышечные реакции у людей с риском развития ЗГ [18], поскольку положительные результаты контрактуры с использованием протокола Европейской группы ЗГ наблюдались у некоторых пациентов, получавших терапию статинами. Vladutiu и др. исследовали 197 человек с тяжелой статиновой миопатией и сравнили группу с двумя другими группами: 163 пациента с легкой статиновой миопатией и 122 пациента в группе, толерантной к статинам. Варианты RYR1 были идентифицированы в трех случаях тяжелой статиновой миопатии, у одного пациента с легкой миопатией, у восьми пациентов с немедикаментозной миопатией, и никаких вариантов не было в контроле [19].
Выводы
Злокачественная гипертермия является генетическим заболеванием скелетных мышечных клеток, влияющих на гомеостаз мио-плазмического кальция. ЗГ остается серьезным фактором риска для восприимчивых людей, проходящих общую анестезию с использованием летучих триггерных препаратов или подвергшихся действию других, нефармакологических факторов. Хотя мутации в двух генах с высоким уровнем аллельной гетерогенности однозначно связаны с механизмом развития ЗГ, нельзя сбрасывать со счетов возможность участия других генов. За последние 30 лет смертность от ЗГ снизилась, но в то же время распространенность генетических вариантов в общей популяции, по оценкам экспертов, намного выше, чем первоначально считалось.
ЗГ вызывает гиперметаболическую реакцию, которая может быть фатальной, если лечение, в том числе введение дантролена натрия, не осуществляется оперативно. Быстрая оценка и отказ от альтернативных диагнозов может привести к правильной диагностике и лечению и, следовательно, значительно снизит осложнения, включая почечную недостаточность, сердечную дисфункцию, распространенную внутрисосудистую коагуляцию и смерть. После реакции пациенты должны наблюдаться в течение как минимум 24 часов из-за возможности рерудес-ценции. Поскольку это генетическое заболевание, члены семей таких пациентовдолжны быть направлены в специализированный центр ЗГ для дальнейшего тестирования и консультирования.