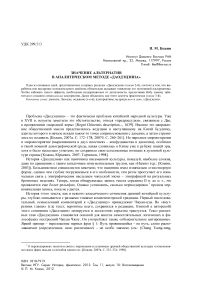Значение альтернатив в аналитическом методе «Даодэцзина»
Автор: Кожин Павел Михайлович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 10 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Одна из основных идей, представленных в первых разделах «Даодэцзина» (чжан 2-й), состоит в том, что выработка или внедрение положительного свойства обязательно вызывает появление его негативной альтернативы. Чтобы избежать такого эффекта, необходимо воздерживаться от деятельности, предоставив Небу самому заботитьсяосоздании оптимальных альтернатив. Далееобъяснено, как этого достичь практически (чжан 3-й).
Даосизм, лао-цзы, недеяние (у-вэй), альтернативы, мудрецы шэн и сянь, "даодэцзин"
Короткий адрес: https://sciup.org/14737658
IDR: 14737658 | УДК: 299.513
Текст научной статьи Значение альтернатив в аналитическом методе «Даодэцзина»
История «Даодэцзина» как памятника письменной культуры, пожалуй, наиболее сложна, даже по сравнению с таким загадочным монументальным трудом, как «Ицзин» (ср.: [Кожин, 2003]). Большинством специалистов замечено, что памятник имел изначально стихотворную форму, однако чем глубже погружаешься в его особенности, тем резче проступает его изначальная связь с эпиграфическим наследием чжоуской эпохи – эпиграфикой на ритуальных бронзовых изделиях. Теперь, когда обнаружилась запись текста середины II в. до н. э., это проявляется еще более рельефно. Однако установить, сколько перекодировок 1 прошла первоначальная запись, пока не удается.
История этого текста, как и всякого классического сочинения древней китайской культуры, глубоко связывается с разными этапами комментаторской традиции. Первый последовательный, осмысленный комментарий к «Даодэцзину» принадлежит Чжуан-цзы. Во «внутренних главах» (где текст, вероятнее всего, сохранился в редакции, близкой к авторской) этого сочинения «Даодэцзин» цитируется и достаточно серьезно трактуется. Текст различных глав «Даодэцзина» становится основой для многих самостоятельных логических и философских построений Чжуан Чжоу. Он употребляет также «объяснительное цитирование». Яркий пример – переложение первых фраз § 1: Путь проявившийся – не путь, слово распознаваемое (определенное, ясно различимое) – не особо значимо (см.: [Chang Tsung-tung,
1982]) 2. Только с трактата Ван Би начинается обычная комментаторская работа над текстом «Даодэцзина», когда он воспринимается как единое, незыблемое монументальное сочинение, а трактуются лишь отдельные «темные места». Хотя Ван Би еще старается присовокупить к своему комментарию и определенные смысловые трактовки текста. В дальнейшем комментаторская традиция ко всем каноническим текстам обретает стандартный вид: становится разъяснением конкретных положений или объяснением отдельных знаков. Работая над переводом 1-го чжана текста, я пришел к выводу, что уже в нем присутствуют древние глоссы, нарушающие его изначальную стихотворную форму [Кожин, 2011. С. 117–123]. Благодаря публикации сводного текста памятника, выполненной А. М. Карапетьянцем и А. А. Крушин-ским [1998. С. 350–351], появилась возможность увидеть тексты чжанов в их как бы графической форме. Благодаря этому отчасти проясняются некоторые структурные, причинноследственные, логические построения. Уже во 2-м чжане , достаточно внутренне компактном, посвященном трактовке одной, хотя и руководящей, идеи, четкость, ясность построения проявляется особенно наглядно. Параграф трактует вопрос о взаимосвязи альтернативных явлений и внутренней зависимости, объединяющей их в неразрывные пары, когда соединение противоположностей создает новую сущность. Собственно, в структуре сознания, в структуре мышления она оказывается равноценным диалектическим построениям. Именно эта идея увлекла всех комментаторов, а затем и специалистов Нового времени, открывших для себя и стремящихся внедрить в сознание масс идею об обязательном присутствии во всяком явлении альтернативных качеств. В европейской культуре это положение в XVII–XVIII вв. нашло демонстрационное выражение в устройстве «музеумов», обозначенных как «кунсткамеры». В них показывали, как любое естественное проявление природных свойств могло получать необычное и даже уродливое развитие. В конце концов, в XIX в. это нашло отражение и в общественной мысли, теперь гласящей, что прекрасное, положительное обязательно должно сопровождаться безобразным, отрицательным. В какой-то мере эта идея была созвучна изначальным представлениям об обязательном присутствии в мире добра и зла и их извечном противоборстве. В Средние века она получила теологическое обоснование в христианстве, но была так или иначе присуща всем ведущим религиозным и религиознофилософским системам. В XIX в. она распространилась в очень широком диапазоне профанных знаний и наук и особенно повлияла на определенные тенденции изобразительного и повествовательного искусства, где изображение безобразного, мерзкого становилось порою показателем правдивости, реалистичности художественной трактовки. Таким образом, данная идея оказалась вполне созвучна европейскому мировосприятию и миропониманию.
Однако в китайском тексте подразумевается несколько особая ситуация. Да, действительно, альтернативы существуют, альтернативы обязательны и всеобъемлющи. Однако речь идет, по сути, не об этом. Вопрос заключается в том, как, чем и в каких условиях порождаются эти альтернативы. Либо человек, выдвигая какое-то позитивное положение, обязательно вызывает к жизни его негативную альтернативу, либо он, выключая себя из созидательного процесса, дает возможность самой природе, Небу, мирозданию выработать определенное позитивное явление и найти ему наиболее безопасную для природы и общества альтернативу. Именно во 2-м чжане объясняется последний подход, с которым связана сущность и необходимость «недеяния» ( увэй ). Другими словами, трактат очень последовательно вводит читателя, скорее, даже адепта, в свою внутреннюю сферу, последовательно поясняя в начале (§ 1) дао и мин как термины, показывая, что «постоянное ( чан ), подлинное Дао» безымянно и не имеет пределов, тогда как имя дается человеком и сразу создает терминологическое ограничение. Такое ограничение подразумевается самим понятием термина , т. е. узкого, целенаправленного толкования определенного явления, понятия, вещи, необходимого человеку для строгого искусственного разграничения классов слов и обозначаемых ими предметов и явлений, которые в бытовой речи могут восприниматься как тождественные, хотя в действительности определяют действия или предметы, находящиеся в сложных разноуровневых (по глубине и прочности внутренних связей) формах взаимодействия между собой.
Таким образом, в 1-м чжане Философ поделил мир на познанный, в значительной мере понятный, подвластный человеку и непознанный, полностью остающийся в безбрежной космической сфере [Кожин, 2011. С. 117–123]. А во 2-м чжане Лао-цзы предложил стратегию, которая дает возможность даосам, наблюдая космическую жизнь, но не вмешиваясь в нее, осуществлять правильное руководство народом . Азы этой стратегии описаны в следующем чжане (§ 3), где объясняется, что нужно для того, чтобы народ и элиты ( шэн жэнь )3 не искали новшеств, не стремились к реформам.
При переводе текста я продолжаю пользоваться прежде выработанными приемами. Во-первых, я рассматриваю последовательно все знаки, имеющиеся в тексте, с позиций их словоупотребления в относительно небольшом наборе древних классических сочинений. В него входят: «Ицзин», «Шуцзин», «Шицзин», «Лицзи», отчасти «Чуньцю» и «Цзочжуань». Во-вторых, я стараюсь учитывать количественные группировки знаков не только в каждом чжане , но и в структурных частях одного параграфа. В-третьих, я учитываю возможность иных прочтений отдельных знаков, не соответствующую их современной трактовке. В данных параграфах, 2-м и 3-м, это последнее обстоятельство не актуально, хотя в целом текст Лао-цзы, как показывают необычайно многообразные способы перевода отдельных знаков и их групп, содержит достаточно много возможностей для специфических трактовок различных иероглифов, весьма далеких от современных словарных определений 4. В-четвертых, я стараюсь не использовать узко специальную терминологию различных гуманитарных наук, а как способ общепонятных объяснений интердисциплинарных проблем ввожу, насколько это возможно, в тексты и пояснения бытовую лексику, не столь строго детерминированную и позволяющую достигать возможно большей вариабельности подходов и констатаций. Это особенно необходимо при современном «переходном» состоянии многих областей гуманитарных исследований (в нашей стране это более рельефно выражается после отхода от тотального единообразия «марксистских» научных методологий и принципов, но стремление к неограниченному разнообразию мнений и воззрений становится общемировым явлением) и порою их чрезмерной разобщенности.
Значение понятия «недеяние» специалисты определяют, руководствуясь собственными подходами к анализируемым принципам и вопросам. Двухтысячелетний период непрерывной комментаторской активности, основанной на различных исходных религиозных, бытовых, научных соображениях, создал невероятное разнообразие трактовок. Формулировки, которые бы позволили вывести такое определение непосредственно из текста Даодэцзина, обнаружить в самом содержании книги практически невозможно. Впрочем, это вполне понятно, учитывая как характер текста, так и его подсобную роль в процессе изустного обучения. Однако различные разделы по-разному могут подсказывать смысловую детерминацию этого центрального во всем учении положения. Проще всего представить это понятие и связанный с ним образ действий как отказ от выработки самостоятельных принципиальных решений, трансформирующих уже существующие формы взаимодействия индивидуумов, групп и коллективов. А также невмешательство «мудрых людей» (шэнжэнь) в процессы, происходящие в природе, в те естественные преобразования, которые она сама (но, в соответствии с древнекитайскими представлениями, «по воле Неба») производит. По сути, речь должна идти (в приложении к классическим научным концепциям Запада) о проявлениях «натуральных законов» развития, когда силы природы, взаимодействуя, сами находят воз- можности для преодоления внутренних противоречий развития и тем самым в наиболее безболезненной форме выводят прогрессивные сущности на более высокие уровни прогресса. Такой стратегический подход к действительности полностью соответствует реализации природного принципа синергетики. Можно метафорически заявить, что Лао-цзы предвосхитил появление того неуклюжего социально-политического учения, которое уравнивает длительное действие естественных сил природы с сиюминутными, часто хаотичными действиями людей, стремящихся воплотить какой-либо свой благонамеренный замысел в возможно более краткий срок [Аршинов, 2001; Каганов, 2003] 5. И он сумел в кратких словах, в частности, противопоставляя группы «мудрых» (шэн) и «совершенномудрых» (сянь) представителей древнекитайских элит, показать превосходство даоских мудрецов (шэн) над конфуцианцами (сянь), т. е. над теми ритуалистами-ортодоксами, кто верил в свою способность «исправлять природу человека», не ограничивая себя в этом отношении никакими пределами 6.
THE MEANING OF ALTERNATIVES IN THE ANALITICAL METHOD OF «DAODEJING»
One of the main ideas presented in the initial parts of «Daodejing» (2nd zhang ) is that elaboration and introduction of any positive quality surely cause the appearance of its negative alternative. In order to escape this affect one must abstain from activity (non-deed), let the Heaven itself to take care about creation of optimal alternatives. The next part (3rd zhang ) gives an explanation how to gain this result in practice.
Приложение
Даодэцзин
2-й чжан (§ 2)
В Поднебесной узнали красоту. Поощряли красоту. За нею [появилось] безобразное (ненавистное, отвратительное).
Узнали доброту. Следом [явилось] недоброе. Ибо 7 существующим затем порождается несуществующее.
Трудность и легкость оказываются взаимно зависимы.
Длинное и короткое вступают в связь. Высокое и низкое сближаются. Голоса и звуки музыки связываются гармонией.
Прежнее с последующим согласуются.
[Поэтому] мудрые люди ( шэнжэнь ) в делах придерживаются недеяния, а в учении – безмолвия ( бу ян– без слов).
Все ( вань у – 10 000 вещей) вещи [тогда] не отказываются быть активными ( цзо эр бу цы 8). Они рождаются, [но ими никто] не обладает ( шэн эр бу ю ).
Действуют, но не доминируют ( ши 9 ). Дела осуществляются, но [результат] не оберегают. А коли не оберегают, то [вещи] не отдаляются.
3-й чжан (§ 3)
[Если] не превозносить совершенномудрых ( сянь 10), [то] люди не соревнуются (не вступают в борьбу). [Если] не [будет] страстного стремления к богатству, [то] в народе не будет воровства. [Если] не видеть вожделенного, [то] сердца народа не будут волноваться. Поэтому мудрые люди ( шэнжэнь ) управляют так, чтобы не смущать сердца народа, чтобы сердца их были пустыми, а желудки – полными, воля их была слаба, а кости – прочны. Постоянно добиваются, чтобы в народе не было знаний и вожделений. Добиваются от знающих мужей, чтобы они не осмеливались действовать. Деяние недеянием – это способ ( цзя дянь 11) как не обуздывать [народ].