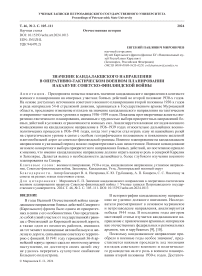Значение кандалакшского направления в оперативно-тактическом военном планировании накануне Советско-финляндской войны
Автор: Мироничев Е.П.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Статья в выпуске: 2 т.46, 2024 года.
Бесплатный доступ
Предпринята попытка показать значение кандалакшского направления в контексте военного планирования на северных участках боевых действий во второй половине 1930-х годов. На основе доступных источников советского военного планирования второй половины 1930-х годов и ряда материалов 54-й стрелковой дивизии, хранящихся в Государственном архиве Мурманской области, прослежено изменение взглядов на значение кандалакшского направления на тактическом и оперативно-тактическом уровнях в период 1936-1939 годов. Показаны противоречивые аспекты оперативно-тактического планирования, связанные с трудностью выбора приоритетных направлений боевых действий в условиях ограниченности военных сил. Анализируется влияние взглядов военного командования на кандалакшское направление в 1936-1939 годах относительно дальнейших военно-политических процессов в 1936-1941 годах, когда этот участок стал играть одну из важнейших ролей на стратегическом уровне в связи с особым географическим положением и появлением железной и автомобильной дорог до cоветско-финляндской границы. Военное планирование на кандалакшском направлении в указанный период можно охарактеризовать как несистемное. Военное командование не имело конкретного выбора приоритетного направления боевых действий, но постепенно пришло к мнению, что именно кандалакшское направление должно играть важную роль в северной Карелии и Заполярье. Делается вывод о необходимости дальнейшего, более глубокого изучения военного планирования на Севере.
Военное планирование, 1930-е годы, кандалакшское направление, ухтинское направление, советско-финляндская война, заполярье, кандалакша, ухта, ленинградский военный округ
Короткий адрес: https://sciup.org/147242938
IDR: 147242938 | УДК: 94(470.2) | DOI: 10.15393/uchz.art.2024.1013
Текст научной статьи Значение кандалакшского направления в оперативно-тактическом военном планировании накануне Советско-финляндской войны
В годы Великой Отечественной войны кандалакшское направление боевых действий Северного (Карельского) фронта было одним из приоритетных в связи с его особенностями. Оно представляло собой узкий участок от государственной границы с Финляндией до Кировской железной дороги, а также один из немногих районов, имевших на тот момент полноценные автомобильную и железную дороги, связывавшие советскую территорию с финской. В 1941 году германский 36-й армейский корпус провел здесь во многом неудачное наступление, не достигнув своих целей: ему не удалось перерезать сухопутное снабжение Кольского полуострова.
В историографии кандалакшскому направлению не уделено должного внимания. Исследователи рассматривают в основном мурманское и петрозаводское направления, анализируются победы 1944 года. В последние годы автором настоящей статьи изучается кандалакшское направление с привлечением архивных материалов как отечественных федеральных и региональных архивов, так и зарубежных [9], [10].
Поскольку кандалакшское направление приобрело в военные годы особое значение1, представляется важным проследить ход эволюции взглядов советского военного и политического руководства на его роль в военном планировании второй половины 1930-х годов. Достаточ- но глубоко проработана история боевых действий на юге Заполярья исследователями, занимающимися изучением Советско-финляндской войны 1939–1940 годов [14]. Но военное планирование на этом участке в более ранние периоды фактически не становилось объектом изучения. Лишь частично об этом упоминает Д. Г. Семёнов [16]. В целом оперативно-стратегические планы войны с Финляндией в 1930-е годы раскрывает Ю. М. Килин [5]. К стратегическому и оперативно-стратегическому планированию СССР до 1939 года в общих чертах в историографии обращались, например, И. П. Макар [7] и С. Н. Михалёв [12], большое значение играют воспоминания М. В . Захарова2. Также тема затрагивается зачастую в контексте планирования 1940–1941 го-дов3 или в политическом [1] и мобилизационном аспектах общегосударственного [4] и регионального уровней [15]. Однако тактический и оперативный уровни военного планирования в большинстве своем остаются нерассмотренными.
В данной статье важную роль играют документы 54-й стрелковой дивизии (сд), полученные Мурманским областным комитетом ВКП(б) в ходе взаимодействия по хозяйственным, строительным и иным вопросам и хранящиеся в Государственном архиве Мурманской области (ГАМО), а также косвенные данные и материалы других временных периодов федеральных архивов, находящиеся в открытом доступе, но не вводившиеся в научный оборот в контексте военного планирования на Севере или не рассматривавшиеся с точки зрения планирования на Северо-Западе.
***
Существовавший к 1935 году стратегический план войны на Западе во многом устарел из-за стремительных политических изменений. Согласно этому плану, главная задача СССР – разгром Польши, которая могла привлечь в качестве союзника Румынию, в то время как прибалтийские страны, Финляндия и Германия сохранили бы нейтралитет4. К началу 1935 года, по мысли заместителя наркома обороны М. Н. Тухачевского, ситуация поменялась: Германия могла стать главным организатором антисоветской интервенции в союзе с Польшей, а прибалтийские страны и Финляндия – плацдармами, помощниками антисоветских сил. Тем не менее важнейшим стратегическим направлением оставалось западное и юго-западное, где предполагалось сосредоточить в первые два месяца войны от 120 до 160 стрелковых дивизий, тогда как на Финляндию, Эстонию и Латвию вместе взятых выделялось всего от 10 дивизий. Из них по принятому плану 1935 года пять дивизий находилось на Карельском перешейке, одна стрелковая дивизия и одна стрелковая бригада – в Карелии [1: 33]. Тухачевский, рассчитывая численность войск, рассматривал не только теоретическое количество, но и реальное, исходя из существовавших тогда возможностей: против Финляндии можно было выделить пять стрелковых дивизий. Войскам ставились оборонительные задачи, что соответствовало условиям – они располагались бы на крайне широком фронте в 1200 км, не имели резервов и были изолированы друг от друга.
В планах 1936 и 1937 годов задачи поменялись. Первоначально они ограничивались разгромом финских войск на Карельском перешейке и захватом укрепрайонов силами Северо-Западного фронта в 16 дивизий. Однако в 1937 году план предусматривал активную задачу по разгрому финской армии уже от «Мурманского района» до Карельского перешейка. Войска должна были занять Петсамо, Каяни, Нурмес и Сортавалу. Но численность войск в Карелии по обоим планам составляла две стрелковые дивизии из 16 на весь фронт [1: 32, 33]. На оперативно-тактическом уровне это, вероятно, означало лишь ограниченные действия вдоль коммуникаций на наиболее угрожаемых участках.
В марте 1938 года начальник Генштаба РККА Б. М. Шапошников представил наркому обороны записку об основах стратегического развертывания Вооруженных сил СССР в случае войны против коалиции фашистских государств5. Она содержала конкретные данные по северо-западному направлению. В случае выступления Финляндии, Эстонии и Латвии ожидалось развертывание с их стороны 20 пехотных дивизий, а также размещение на их территории германских войск. Основными направлениями со стороны финнов представлялись «межозерное» с двумя пехотными дивизиями и одной кавалерийской бригадой (петрозаводско-олонецкое) и Карельский перешеек с семью пехотными дивизиями. Противник на карельском и кольском участках не конкретизировался, разведка не ожидала здесь крупных сил. С советской стороны к северу от Ладожского озера и до Мурманска включительно действия должны были свестись к активной обороне границ и вторжению на территорию Финляндии с задачей нарушения связи Финляндии со Швецией, а также к захвату Петсамо и полуостровов Рыбачий и Средний. Для действий на Северо-Западе планировалось разместить 17 стрелковых и две кавалерийские дивизии, шесть танковых бригад, из которых непосредственно в северной Карелии и на юге Заполярья (направление обозначено как «Ухта – Кемь») находилась одна стрелковая дивизия. 13 ноября 1938 года записка была рассмотрена и принята на Главном Военном Совете РККА6.
Что касается Финляндии, то советская разведка выявляла тенденции к усилению финской агрессии, особенно по отношению к советским северным территориям. В феврале 1935 года заместитель наркома внутренних дел Я. С. Агранов получил добытые агентурой в октябре 1934 года предложения германского военного атташе полковника Гартмана к спецдокладу контрразведывательного отдела штаба Рейхсвера о советской армии. В этих предложениях, среди прочего, рассматривалась внешнеполитическая оценка стран – соседей СССР. О Финляндии германский атташе писал, что она в собственных целях будет стремиться использовать конфликты с Советским Союзом для присоединения в конечном счете советской Карелии и Кольского полу-острова7. Примечательно, что финская разведка в 1930-е годы сосредоточилась на северо-западных районах СССР и выявляла транспортные, экономические и иные условия на территории Карелии и Заполярья [6: 171]. Известны и конкретные военные планы Финляндии, предполагавшие действия на советской территории, включая не только Ленинград и петрозаводское направление, но и северные районы [5: 117–122].
С середины 1930-х и вплоть до лета 1939 года силы РККА от северной Карелии до Баренцева моря ограничивались 54-й стрелковой дивизией, Северной военной флотилией (затем Северным флотом) и некоторыми другими формированиями. Если стратегические планы на Севере известны, то оперативные и тактические на данный момент можно лишь предполагать: в силу малочисленности, особенностей организационно-штатной структуры, комплектования и иных факторов, вероятно, до 1937 года предполагались исключительно оборонительные задачи на наиболее угрожаемых направлениях. Затем же, исходя из стратегического плана 1938 года, 54-я и вторая, выдвинутая по плану развертывания дивизия, вероятнее всего, ограничивались в большей мере пассивными действиями и продвижением до того момента, пока не были бы встречены значительные финские силы на тех же важных направлениях.
На юге Заполярья и в северной Карелии таковыми являлись кандалакшское и ухтинское направления. Это вытекало из естественных природных условий, а также особенностей расположения населенных пунктов и путей сообщения. Но к 1939 году, несмотря на вышеуказанную записку Генштаба с указанием на Ухту, видимо, на оперативно-тактическом уровне не было единого мнения о том, какое из двух приоритетное.
Об этом свидетельствует записка по вопросу подготовки театра военных действий кандалакшского направления и мероприятий бывшего командования 54-й Мурманской стрелковой дивизии по подготовке войск для действий в условиях этого театра в период 1936–1937 годов, написанная в январе 1939 года начальником особого отдела дивизии младшим лейтенантом госбезопасности Быстровым8.
В указанной записке, во-первых, отмечается бурное экономическое развитие Заполярья, особенно Кандалакшского района, сочетаемое с богатством природных ресурсов и полезных ископаемых, незамерзающим портом Мурманск и важнейшей единственной сухопутной артерией – Кировской железной дорогой. Это означало, что Заполярье при большом экономико-логистическом значении имеет и крайне уязвимые места – узкие участки от финской границы до железной дороги.
Во-вторых, возможно проследить и ожидания от вероятного противника на тактическом уровне. Быстров делает акцент на диверсионном характере действий финских отрядов:
«Местность этого района также способствовала выполнению этой авантюры (захвата Кандалакши. – Е. М. ): от озера Имандра до озера Ковдозеро почти отсутствуют водные преграды. Эта полоса позволяет проходить мелким подразделениям и отрядам без особого труда, и крупным отрядам вооруженных и артиллерией с прокладкой дорог… выдвинувшиеся в район Кандалакша части противника смогли бы без должного отпора, с малыми силами прервать жел. дор. в особо опасных местах (дамба через Канда Губа, мосты через р. Нива у Зашеек), разрушить жел. дор. узел и навредить в гидроэлектростанции. Все эти диверсионные действия весьма вредно отразились бы на успешности ведения боевых действий на Мурманском направлении и побережье Баренцева моря… захват северной части Карелии – Кандалакшского направления грозил чрезвычайно большими трудностями и многочисленными потерями в людском составе по очищению этой территории. Пришлось бы вводить количество войск в три-четыре раза больше, чем противника…»9.
С большой долей вероятности эти убеждения были основаны на данных разведки [16: 413]. Финские планы подтверждают предположение об использовании небольших подразделений: в районе Салла должен был действовать 17-й егерский батальон, выполнявший задачу разбить немногочисленные силы РККА, а затем вести на участках Кировской железной дороги диверсии малыми отрядами [5: 119, 120].
Что же касается направлений боевых действий, то, судя по записке Быстрова, командовавший дивизией в 1936 году комбриг Г. Д. Антонов и штаб дивизии считали приоритетным ухтинское направление. Кандалакшское же фактически не имело обороны, там не планировалось строить дорогу. Мнение о ненужности кандалакшского направления, по информации начальника особого отдела, культивировалось среди командиров и личного состава, поэтому местность даже не осваивалась.
При детальном рассмотрении «выбор» бывшего командира дивизии имел вполне явные основания. Во-первых, это планы развертывания 1937–1938 годов. Во-вторых, если исходить из того, что 54 сд была единственной значимой сухопутной силой на Севере, но растянутой на сотни километров и потому имевшей оборонительные задачи, а со стороны финнов ожидались действия малыми группами, то в данном случае ухтинское направление было более выгодным для финской армии. Именно на нем размещалось множество небольших поселений, среди жителей которых преобладали финны и карелы. Это означало, что финские отряды могли потенциально рассчитывать, например, на помощь информацией и провизией со стороны сочувствующего населения. Кандалакшское направление таковыми «возможностями» не обладало: восточнее поселка Алакуртти на финской территории и государственной границы был только «зимник»; какие-либо поселения отсутствовали вплоть до Кандалакши. Для советской стороны ухтинское направление в то же время являлось невыгодным, поскольку упомянутая растянутость сил дивизии вместе с необходимостью контролировать поселения района действительно требовали большего количества подразделений. Можно предположить, что выделение при стратегическом развертывании второй дивизии на северный сектор было бы недостаточным. В-третьих, видимо, учитывался опыт 1918–1920 годов, когда Финляндия активно вмешивалась в события, происходившие в Беломорской Карелии, с целью отторжения территории от Советской России [13]. На кандалакшском же направлении финские отряды действовали не так результативно.
В записке Быстров утверждал, что кандалакшское направление имеет куда большее значение. Мотивировал он это более выгодными условиями местности, а также тем, что финны уже проводили соответствующую подготовку, обеспечивая себя дорогами вплотную до границы от Рованиеми и Оулу до Алакуртти. К сожалению, на данный момент нет информации, насколько это коррелировалось с установками командования военного округа в 1936–1937 годах, а в контексте планов развертывания 1937–
1938 годов неясно, почему Быстров вопреки им фактически требовал перенести внимание с ухтинского на кандалакшское направление. Неизвестно, какое влияние оказала записка Быстрова, однако в начале 1939 года был принят очередной оперативный план Северо-Западного фронта, по которому 54 сд должна была захватить города Каяни и Нурмес, видимо, действуя на ребольском направлении, а 104 сд находилась бы на мурманском направлении и обороняла Кандалакшу [5: 170]. Таким образом, роль кандалакшского направления на оперативном уровне повысилась – на нем требовалась прочная оборона. Определенным образом на тактическом уровне приоритет обороны на юге Заполярья подтвердился в марте 1939 года в предложениях командира 54 сд комбрига Н. А. Гусевского по оборонным работам в Мурманской области10.
Командир дивизии предлагал строительство целого ряда объектов по всей территории области и среди прочего большое внимание уделял объектам, относящимся так или иначе к кандалакшскому направлению. По его мнению, требовалось строительство четырех дорог: Кандалакша – Умба, Кандалакша – пос. Слюдоразработок, Кандалакша – оз. Верхний Верман (приграничье), Кандалакша – Лоухи – Кемь – Сорока. Для усиления авиационной группировки предлагалось строительство аэродромов в Кировске и северо-западнее Кандалакши. Были необходимы ротные и батальонные укрепленные районы. Так, предполагалось строить ротные укрепрайоны в пос. Слюдоразработок, севернее оз. Верхний Верман, западнее оз. Нижний Верман, восточнее оз. Каменное. Для сравнения: на ухтинском направлении в целом определялись четыре ротных укрепрайона, не образовывавших единый участок и разбросанных по территории. Гусевский отмечал, что это лишь минимум объектов. Хотя в целом ЛВО не смог обеспечить сколь-нибудь существенное строительство обороны и путей сообщения на севере [5: 171, 172], видимо, часть объектов все-таки построили – они стали использоваться уже в 1941 году, когда начались бои в районе старой границы. В то же время укрупнение сил РККА в Заполярье еще с середины 1930-х годов сопровождалось хронической нехваткой стройматериалов, жилплощади, трудовых ресурсов, денежных средств, кадров и т. д.11 Это тормозило реализацию планов по укреплению Кольского полуострова и северной Карелии и создавало большие проблемы в обеспечении войск.
Можно заключить, что до осени 1939 года кандалакшское направление, видимо, не выделялось в военном планировании на оперативно-стратегическом уровне. Тем не менее рассмотрение роли кандалакшского направления до Советско-финляндской войны представляется неполным без упоминания ее планирования, хода и результатов. Именно она стала своего рода подтверждением идей о важности кандалакшского направления, возникавших на тактическом уровне в предшествующий период.
Война с Финляндией выдвинула юг Заполярья на первый план: силы 9-й армии РККА должны были стремительно наступать на кандалакшском и ухтинском направлениях с целью выхода к Ботническому заливу. Направления, ранее не предполагавшиеся для столь активных действий, видимо, были выбраны по причине их стратегического потенциала: серьезного противника не ожидалось, а достижение обозначенной цели ставило Финляндию в тяжелое положение. В результате войны действия 122 сд на кандалакшском направлении стали одним из наиболее глубоких продвижений советских войск на территорию Финляндии. Был накоплен и опыт организации тыла на этом участке, в связи с чем активизировалось строительство Со-рокско-Обозерской ветки железной дороги [8]. В 1940 году группировка войск на кандалакшском направлении резко увеличилась, а до границы с Финляндией в Куолаярви по условиям мирного договора началось строительство еще одной ветки железной дороги, имевшей стратегическое значение [3].
Стоит упомянуть, что в силу выгодных условий кандалакшское направление играло большую роль и в германском планировании в 1940–1941 годах [9], но подготовка оказалась посредственной, что привело к германским неудачам на Севере [11]. Кандалакшское направление как вероятный участок проведения наступательных операций рассматривалось также военно-политическим руководством Великобритании и Франции в 1940 году [2].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в 1936–1939 годах до начала Советско-финляндской войны кандалакшское направление, изначально не рассматривавшееся как значимое, постепенно заняло важное место в военном планировании. Документы 54 сд показывают, что понимание большой роли Кандалакши расширялось на тактическом уровне – командиры на местах начали понимать важность данного направления. Однако это понимание, появившееся и у Ленинградского воен- ного округа, сталкивалось помимо формального подхода к планированию еще и с чисто практическими проблемами развертывания и расквартирования большого количества войск.
Важный вопрос ставит записка Быстрова, написанная в противоречии со всеми планами стратегического развертывания с 1937 по 1939 год. Исходя из поставленных в них задач, активные действия предполагались, в сущности, на ухтинском направлении. Поэтому, надо полагать, бывшее командование дивизии, обвинявшееся Быстровым в неправильном подходе, следовало этим установкам: например, упоминавшиеся города Каяни и Нурмес находятся именно в полосах ухтинского и ребольского направлений. Ретроспективно же начальник особого отдела дивизии оказался в определенной степени прав: в конце 1939 года РККА, действовавшая на кандалакшском направлении, благодаря более выгодным условиям местности достигла больших результатов. В полной же мере идеи Быстрова своеобразно подтвердились в 1941 году, когда тактические неудачи под Кандалакшей могли привести к осложнению оперативной и даже стратегической обстановки, что заставляло обращать на этот участок внимание даже Ставки ВГК.
Записка Быстрова свидетельствует, что на оперативном уровне не были поставлены конкретные задачи войскам на Севере. Практически прямо на это указывает информация в акте приема Наркомата обороны СССР С. К. Тимошенко от К. Е. Ворошилова в 1940 году: «не разработаны и отсутствуют оперативные планы, как общий, так и частные»12. Можно предположить, что оперативные планы Северо-Западного фронта (ЛВО), разрабатывавшиеся в 1936–1938 годах, являлись во многом лишь дублированием плана стратегического развертывания, потому не имели конкретизации действий выделенных сил. Этот аспект, как представляется, фактически показан Ю. М. Килиным при описании оперативных планов [5: 121, 122]. При четком, глубоко проработанном оперативном плане идеи о выборе приоритетных направлений высказывались бы в виде предложений изменить существующий план, а не в виде дискуссии и обвинений прежнего командования на уровне дивизии.
Вопросы планирования тактического и оперативно-тактического уровня на северных приграничных участках в период до осени 1939 года требуют дальнейшего изучения, поскольку являются неотъемлемой частью общих военных и политических процессов, приведших в 1941 году к двойственным результатам боевых действий уже Великой Отечественной войны.
Список литературы Значение кандалакшского направления в оперативно-тактическом военном планировании накануне Советско-финляндской войны
- Барышников В. Н. Финская война. М.: Кучково поле, 2023. 448 с.
- Барышников В. Н. План «петсамской операции» 1940 г. западных союзников по материалам Архива Министерства иностранных дел Финляндии // Санкт-Петербург и страны Северной Европы: Материалы Десятой ежегодной междунар. науч. конф. (16-17 апреля 2008 г.). СПб., 2009. С. 116-130.
- Зеленская Ю. Н. Кировская железная дорога в 1940-1941 гг. // Военная история: люди, судьбы, конфликты: Материалы VIII междунар. конф., Санкт-Петербург, 19 ноября 2021 года. СПб.: Санкт-Петербургская гос. бюджет. учреждение Дом молодежи «ФОРПОСТ» Выборгского района, 2021. С. 120-123.
- Кен О. Н. Мобилизационное планирование и политические решения (конец 1920-х - середина 1930-х гг.). М.: ОГИ, 2008. 512 с.
- Килин Ю. М. Карелия в политике советского государства. 1920-1941. Петрозаводск: Петрозаводский государственный университет, 1999. 277 с.
- Лайдинен Э. П., Веригин С. Г. Финская разведка против Советской России. Специальные службы Финляндии и их разведывательная деятельность на Северо-Западе России (1918-1939). Выборг: Военный музей Карельского перешейка, 2019. 304 с.
- Макар И. П. Из опыта планирования стратегического развертывания вооруженных сил СССР на случай войны с Германией и непосредственной подготовки к отражению агрессии // Военно-исторический журнал. 2006. № 6. С. 3-9.
- Материально-техническое обеспечение Красной армии в вооруженных конфликтах и локальных войнах (конец 1930-х - начало 1940 гг.): Военно-теоретический труд. М.: ООО «Буки Веди», 2016. 382 с.
- Мироничев Е. П. Военно-стратегическое положение кандалакшского направления к началу Великой Отечественной войны // Военная история России: Материалы XIV междунар. конф., Санкт-Петербург, 18 ноября 2021 года. Т. 1. СПб.: Санкт-Петербургское гос. бюджет. учреждение «Центр патриотического воспитания молодежи "Дзержинец"», 2021. С. 464-468.
- Мироничев Е. П. «Особую опасность представляет кандалакшское направление.»: боевые действия на юге Заполярья в 1941 году: Монография. Красноярск: ООО «Научно-инновационный центр», 2022. 126 с.
- Мироничев Е. П. Деятельность немецкой разведки на кандалакшском направлении в 1941 году (по документам армии «Норвегия» и 36-го армейского корпуса) // Научно-исследовательская работа обучающихся и молодых ученых: Материалы юбилейной 75-й Всерос. (с междунар. участием) науч. конф. обучающихся и молодых ученых, Петрозаводск, 3-23 апреля 2023 года. Петрозаводск: Петрозаводский государственный университет, 2023. С. 116-119.
- Михалёв С. Н. Стратегическое руководство. Россия / СССР в двух мировых войнах XX столетия / Под ред. В. А. Золотарева. Красноярск: РИО КГПУ, 2000. 459 с.
- Попов Д. А. Финский излом. Финская интервенция в Карелии в 1918-1920 годах. Т. 1. От Кеми до Тар -ту 1918-1920 гг. Выборг: Военный музей Карельского перешейка, 2023. 272 с.
- Раунио А., Килин Ю. Сражения зимней войны. Выборг: Военный музей Карельского перешейка, 2018. 320 с.
- Репухова О. Ю. Мобилизационное планирование в Карелии в предвоенное десятилетие // Studia Humanitatis Borealis. 2015. № 1. С. 4-14.
- Семёнов Д. Г. Финская Лапландия в конце 1930-х гг.: «скрытая милитаризация»? // Первопроходцы крайнего Севера: Четырнадцатые Феодоритовские чтения: к 450-летию блаженной кончины преподобного Феодорита Кольского, в начале XVI века просветившего Евангельским светом земли Кольского Севера: Материалы историко-краеведческой конф., Апатиты, 16-19 сентября 2021 года. Мурманск: Мурманская епархия, 2022. С. 410-415.