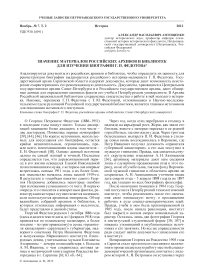Значение материалов российских архивов и библиотек для изучения биографии Г. П. Федотова
Автор: Антощенко Александр Васильевич
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 7 (128) т.2, 2012 года.
Бесплатный доступ
Анализируются документы из российских архивов и библиотек, чтобы определить их ценность для реконструкции биографии выдающегося российского историка-медиевиста Г. П. Федотова. Государственный архив Саратовской области содержит документы, которые дают возможность всесторонне охарактеризовать его революционную деятельность. Документы, хранящиеся в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга и в Российском государственном архиве, дают обширные данные для определения основных фактов его учебы в Петербургском университете. В Архиве Российской национальной библиотеки сохранились свидетельства о работе в ней молодого историка. Наконец, переписка Г. П. Федотова с Т. Ю. Федотовой, отложившаяся в Научно-исследовательском отделе рукописей Российской государственной библиотеки, является главным источником для понимания мотивов его поступков.
Биография г. п. федотова, российские архивы и библиотеки, санкт-петербургский университет
Короткий адрес: https://sciup.org/14750270
IDR: 14750270 | УДК: 930.1(091)
Текст научной статьи Значение материалов российских архивов и библиотек для изучения биографии Г. П. Федотова
О Георгии Петровиче Федотове (1886–1951) в последние годы пишут много. Только диссертаций защищено более двадцати, в том числе – две докторские. Появились первые монографии [39], [44], [46]. Но корпус источников, используемых для воссоздания его биографии, остается крайне незначительным, ограничиваясь, прежде всего, воспоминаниями вдовы мыслителя – Е. Н. Федотовой [48]. Однако данный источник далеко не самый полный и точный. Последнее определяется тем, что дореволюционный период в его жизни освещался Еленой Николаевной по воспоминаниям мужа, с которым она впервые встретилась осенью 1911 года, а их более близкое знакомство началось лишь весной 1919-го. В результате к «ошибкам памяти» самого Георгия Петровича добавились некоторые ошибки при изложении услышанного от него. В первую очередь это относится к конкретным фактам, реконструкция которых осуществляется надежнее, если используются архивные материалы. Обзор важнейших собраний архивов и библиотек, в которых отложилась информация о мыслителе, будет представлен в данной статье.
Георгий Федотов родился 1 октября 1886 года (здесь и далее в тексте даты до 1 февраля 1918 года приводятся по юлианскому календарю, а более поздние – по григорианскому) в семье «правителя канцелярии» саратовского губернатора, надворного советника Петра Ивановича Федотова и выпускницы Мариинского института благородных девиц, учительницы музыки Елизаветы Андреевны – дочери полицмейстера г. Вольска А. М. Иванова, о чем сохранилась актовая запись в метрической книге церкви Рождества Богородицы в г. Саратове [16; 63 об.–64].
Через год, когда отец перебрался в столицу в надежде на карьерный рост, Жорж, как звали его близкие, вместе с матерью переехал в ее родной город Вольск, где они жили у деда. Через три года безуспешных мытарств П. И. Федотова в столице семья вновь воссоединилась в Воронеже, где Петр Иванович получил должность «правителя губернской канцелярии», а его сын поступил в мужскую гимназию. Правда, как свидетельствуют скрупулезные изыскания А. Н. Акиньшина [36], архивные материалы дают нам сведения лишь о служебном продвижении отца в этот период, но не об учебе сына, так как фонд Воронежской мужской гимназии в областном архиве не сохранился. А. Н. Акиньшиным уточнена также дата смерти отца – 3 апреля 1898 года (а не 1897 год, как указано во всех биографиях философа).
После окончания гимназии в 1904 году Георгий поступил в Петербургский технологический институт, чтобы реализовать после его окончания свою юношескую мечту о просвещении рабочих в духе социал-демократических идей. Правда, учеба в нем была кратковременной (в 1905 году, после начала революции, институт был закрыт) и носила скорее номинальный характер. Остались лишь две фотографии Георгия в институтской студенческой форме [30; 107] и никаких упоминаний в опубликованных источниках о его занятиях. Но все же справедливости ради следует найти документы о зачислении его в институт.
Возвращение Георгия на Рождество 1905 года в Саратов стало прологом его активного включения в пропагандистскую работу местной социал-демократической организации, контакты с лидером которой А. Я. Ветровым он установил через
Т. Ю. Дмитриеву в мае этого года. Вскоре он оказался в поле зрения саратовских блюстителей порядка, что отразилось в многочисленных материалах делопроизводства Саратовских губернского жандармского управления и охранного отделения, а также в их рапортах саратовскому губернатору и в его решениях, отложившихся в фонде губернской канцелярии. Значительная часть этих материалов введена в научный оборот саратовскими краеведами [40], [41], [42], [43], [45]. На их основе можно детально восстановить причины и условия всех трех арестов Георгия в 1905, 1906 и 1909 годах, а также неудачной попытки задержания летом 1910 года.
Первый арест вполне обоснованно был воспринят Георгием как романтическое приключение. Позже он написал в письме Т. Ю. Дмитриевой об этом так: «В одну прекрасную ночь при аресте районного комитета, он стремительно попал в тюрьму, чтобы на другой день также стремительно оказаться на свободе» [17; 52]. 24 августа 1905 года ротмистр охранного отделения Федоров получил предписание начальства явиться вместе «с чинами полиции» на Астраханскую улицу в дом Левочкина, чтобы произвести обыск в квартире мещанина Менделя Элева Шушкова. Поскольку «квартира оказалась запертою, а окна закрыты ставнями и, так как таковую добровольно не отпирали, то наряду пришлось войти в нее силою» [6; 5]. Во второй из комнат квартиры полицейские застали сходку 16 пропагандистов, «представителей противоправительственной социал-демократической организации», как значилось в рапорте. Среди них был и «студент Санкт-Петербургского Технологического института Г. П. Федотов», который вместе с другими задержанными по приказу начальника охранного отделения был отправлен «под стражу в губернскую тюрьму» [6; 5 об.]. К счастью, при обысках ни у него лично, ни на его квартире не было обнаружено компрометирующих улик. Полицейские власти вынуждены были отпустить его и ограничиться воспитательным мероприятием – визитом «жандармского офицера, который пришел, как ангел-хранитель, чтобы предостеречь его» [17; 52 об.]. Боясь скомпрометировать себя в глазах товарищей, внук полицмейстера грубо выдворил жандарма, а потом решил, что лучше уехать из Саратова самому. Это было верным решением, поскольку начавший расследование ротмистр отдельного корпуса жандармов Пастрюхин, изучив все найденные при обысках на других квартирах материалы, пришел к заключению, что в городе «под руководством Саратовского комитета РСДРП образовался целый ряд профессиональных рабочих, распадающихся на группы, союзов (так в источнике. – А. А.), деятельность которых направлена на ниспровержение путем вооруженного восстания существующего обществен- ного строя» [6; 67]. Активно участвовавшие в деятельности этих организаций арестованные на квартире М. Э. Шушкова восемь пропагандистов были осуждены по ст. 120 Уголовного уложения, предусматривавшей высылку, а еще пять привлекались к дознанию в качестве свидетелей. Георгий Федотов был в их числе, но повестка явиться в жандармское управление не застала его дома, так как он был уже далеко. В начале сентября он уехал в г. Аткарск, где жили его дедушка и бабушка по материнской линии. Отсюда, дождавшись Т. Ю. Дмитриеву¸ Г. П. Федотов отправился вместе с нею в Петербург, заехав на день в Москву.
Вновь в Саратов он вернулся накануне Рождества 1906 года, когда в городе разгорались революционные бои, а губерния была на «военном положении». Имя активно включившегося в пропагандистскую работу Г. П. Федотова снова замелькало в жандармских рапортах. В них отмечалось, что в дебатах с кадетами на собраниях, устраиваемых в преддверии выборов в Государственную думу, Георгий отстаивал самые радикальные положения о ее бесполезности и необходимости созыва Учредительного собрания, призывал к вооруженной борьбе за изменение существующего строя. Это позволяло отнести его к самой радикальной части социал-демократов – большевикам, что усиливало внимание к нему филеров, докладывавших, что «речи его всегда носили явно революционный характер» [7; 309 об.–310, 318 об.–319], [8; 66], [10; 194 об.–195, 198 об.]. Почувствовав, что тучи сгущаются над его головой, Георгий решил вновь покинуть Саратов, чтобы укрыться в тиши какого-нибудь маленького городка Саратовской губернии. В перехваченном жандармами 11 марта 1906 года письме говорилось: «Сегодня уехали три хороших, самых лучших работника», среди которых, как выяснилось в ходе разыскных мероприятий, был и Георгий Федотов, выехавший «утренним поездом с бесплатными билетами по Рязанско-Уральской железной дороге до ст. Козлов» [10; 83 об.]. Однако эти сведения явно запоздали – разыскиваемый был уже в Вольске, где он скрывался под именем Владимира Александровича Михайлова до середины апреля [33; 12–23].
Возвращение Георгия в родной город было вновь замечено чинами жандармского управления, так как он оказался среди тех, кто готовился к организации первомайских выступлений саратовских рабочих и неоднократно выступал на митингах в течение всего мая. Достаточно осведомленные о делах саратовской социал-демократической организации, очевидно, благодаря деятельности тайного агента, жандармы зафиксировали факт избрания Г. П. Федотова в ее общегородской комитет 11 июня 1906 года и его участия в боевой дружине РСДРП. В итоге 7 июля было принято постановление Особо- го совещания МВД, которым предписывалось арестовать Г. Федотова и еще шестерых «смутьянов». Мерой пресечения определялась двухгодичная высылка в Архангельскую губернию. Обычно датой последовавшего за этим второго ареста Федотова в литературе называют 8 июля или ночь с 8 на 9 июля 1906 года. Однако внимательное знакомство с архивными материалами позволяет уточнить эту дату и выявляет весьма забавный казус. Сразу же по получении постановления Особого совещания саратовские жандармы провели аресты. Однако Георгия Федотова не оказалось в числе арестованных, так как в предписании о розыске он был назван Григорием. Незадачливые служаки доложили полицмейстеру, а тот – губернатору, что «Федотов около месяца назад скрылся в г. Ригу, где он, по слухам, арестован» [5; 52–52 об., 58 об.]. Чтобы проверить «слухи», граф С. С. Татищев вынужден был послать запрос лифляндскому губернатору, который, естественно, опроверг их.
Эта отсрочка имела важное значение, поскольку именно в это время Г. Федотов подал ходатайство о зачислении его на историко-филологический факультет (ИФФ) Петербургского университета, а мать представила в МВД прошение о замене административной ссылки в Архангельскую губернию высылкой в Германию. Все обстоятельства пересмотра дела и реализации нового постановления (вплоть до рапорта о пересечении Г. П. Федотовым и его матерью границы на ст. Александров) отражены в документах, отложившихся в фонде канцелярии Саратовского губернатора [5; 55 об.–56¸ 61, 65, 72, 73, 76, 79–79 об., 82, 83, 85, 87, 89–91 об., 94–94 об., 99, 104–105].
После возвращения из Германии Г. П. Федотов неоднократно попадал в поле зрения саратовских жандармов, когда приезжал на рождественские и пасхальные каникулы в 1909 году. В рапортах наблюдения его характеризовали как связного между петербургской и саратовской социал-демократическими организациями, передававшего адреса явок, шифры для переписки и денежные средства. Более того, в одном из них Георгий назван представителем Центрального комитета Российской социал-демократической партии, что, возможно, имело под собой основание. 14 февраля 1909 года на ст. Белоостров был задержан член ЦК РСДРП В. П. Ногин, бежавший из сибирской ссылки и намеревавшийся по заграничному паспорту, выданному на имя Г. П. Федотова, пересечь границу. Правда, обыск, произведенный 24 февраля у Георгия на квартире в Петербурге, не дал улик для задержания [9; 52 об., 63]. Оно было осуществлено позже – 16 мая в Саратове. Однако и на этот раз у жандармов не нашлось достаточных улик, чтобы довести дело до суда. 29 мая он был освобожден из-под стражи. Все официальные материалы за- держания, протокол допроса, а также письмо матери, не заставшее сына в тюрьме, отложились в деле Саратовского губернского жандармского управления [8].
Последняя неудачная попытка задержания, предпринятая саратовскими жандармами в июне 1910 года, и последующие разыскные мероприятия, длившиеся вплоть до явки Г. П. Федотова в апреле 1912 года с повинной, во всех деталях засвидетельствованы в двух делах [4], [9] и были довольно подробно охарактеризованы саратовской исследовательницей З. Е. Гусаковой [43; 178–180]. Поэтому здесь следует лишь отметить, что Георгий принял все меры, чтобы отвести подозрение от своих младших братьев, что дало желаемый результат: братья были освобождены без каких-либо последствий для них.
Главным местом учебы Г. П. Федотова, как уже отмечалось, стал ИФФ Петербургского университета, куда он был зачислен в 1906 году, а не после возвращения из Германии в 1908-м, как порой отмечается в литературе. Важнейшие формальные моменты учебы отразились в официальных документах, отложившихся в личном деле студента Г. П. Федотова [23]. Обязательными документами дела являются личные заявление от 17 июля 1906 года на имя ректора с просьбой принять его на ИФФ, копия метрического свидетельства и оригинал аттестата зрелости с отличными отметками по всем предметам, изученным в Воронежской мужской гимназии. Главным препятствием для восстановления Георгия в числе студентов столичного университета после его возвращения из Германии в 1908 году стал, как ни странно, финансовый вопрос. Он должен был оплатить «посещение университета» и «гонорары» лекторов, что было сделано его матерью, вдовой высокопоставленного саратовского чиновника, обратившейся за субсидией в казенную палату г. Саратова. Подробная переписка университетской канцелярии с департаментом Государственного казначейства по данному вопросу отложилась в деле. Другим вопросом, который пришлось решать Георгию, был вопрос о зачете ему четырех семестров обучения в Берлинском и Йенском университетах. При поддержке тогдашнего декана ИФФ Ф. Ф. Зелинского он был улажен, как и вопрос об отсрочке воинской службы. Наконец, следует отметить благосклонное отношение университетского руководства к Г. П. Федотову и в случае его неудачной поимки жандармами летом 1910 года. Несмотря на то что 3 июля этого года начальник Саратовского губернского жандармского управления направил ректору университета секретный запрос о Г. П. Федотове, 21 августа проректор И. Д. Андреев распорядился выдать ему свидетельство об окончании университета с указанием курсов, прослушанных в нем, без предъявления выпускником «матри- кул и отпускного билета». Завершает дело циркуляр Департамента народного просвещения от 17 апреля 1912 года, сообщавший о разрешении министром внутренних дел студенту Г. П. Федотову сдавать государственные экзамены после явки с повинной.
Успешная сдача экзаменов, зафиксированная в протоколах «испытательной комиссии» [27; 2], [28; 92], и замена ссылки в Архангельскую губернию административной высылкой в Карлсбад Лифляндской губернии с сокращением ее срока с трех лет до полугода позволили профессору И. М. Гревсу, руководившему исследовательской работой Г. П. Федотова, уже весной 1913 года ходатайствовать «об оставлении» его при университете «для приготовления к профессорской деятельности». Соответствующие документы о выполнении учебной программы, продлении сроков работы над магистерской диссертацией, назначении стипендии и принятии в число приват-доцентов университета отложились в другом личном деле начинающего историка [22]. Наряду с официальными документами о формальной стороне подготовки к сдаче магистерских экзаменов и написания диссертации в нем отложились отчеты начинающего историка за 1914 и 1915 годы, дающие представление о формировании замысла исследования [31]. Здесь же хранятся представления и ходатайства И. М. Гревса, в которых он высоко оценивал способности своего ученика [19; 30–31], [20; 30– 30 об.], [21; 94–95].
Однако личные дела не единственный источник, содержащий сведения об учебе Г. П. Федотова. Более того, в них не отложились документы, дающие представление о сроках сдачи и вопросах на экзаменах, об оценке знаний. Они зафиксированы в протоколах ИФФ и сводных экзаменационных ведомостях, фронтальный просмотр которых позволил выявить все материалы, относящиеся к сдаче им магистерских экзаменов и чтению «пробных лекций» [24; 165], [25; 133, 175, 177], [26; 252, 275]. Однако «клау-зарную работу» Георгия найти пока не удалось.
Почти одновременно с зачислением в приват-доценты Петербургского университета в декабре 1916 года Г. П. Федотов был принят «вольнотру-дящимся» в Публичную библиотеку. Материалы о его служебной деятельности отложились в архиве библиотеки и подробно охарактеризованы в статье Г. В. Михеевой [47]. К ее обзору можно лишь добавить, что осенью 1917 года Г. П. Федотов неоднократно, но безуспешно баллотировался на все вакантные должности, что, очевидно, обусловлено катастрофическим ухудшением его финансового положения [1; 77 об.], [2; 29 об.], [3; 17, 24, 25, 25 об., 26, 30].
Последний фактор нельзя недооценивать при выяснении причин, определивших после долгих раздумий его решение вернуться в родной
Саратов [37], где основным местом его работы в 1920–1922 годах стал университет. К сожалению, университетские архивные фонды этого периода практически полностью утрачены вследствие пожара. Из материалов, в которых упоминался Г. П. Федотов, сохранились лишь два штатных расписания и командировочное удостоверение для поездки в октябре 1921 года в Тамалу с целью «заготовки продовольствия служащих и профессоров университета» [11; 4, 6], [12; 30], [13; 116]. Тем ценнее материалы Общества истории, археологии и этнографии при Саратовском университете, активным участником заседаний и членом правления которого был Георгий Петрович [41], [15]. Сохранившиеся протоколы заседаний общества позволяют определить даты его присутствия на заседаниях, а значит – время пребывания в Саратове, что важно, так как он направлялся Петроградским университетом в Саратов «для чтения лекций» на определенный срок, а не на постоянную работу. На их основе также можно реконструировать приблизительный круг его общения и интересов. В протоколах есть краткие записи обсуждения докладов, в которых иногда принимал участие Георгий Петрович. Так, он откликнулся на сообщения В . А. Бутенко «Политические идеи Гизо» и Г. А. Ильинского по книге профессора М. К. Любавского «История западного славянства», а при обсуждении доклада А. Н. Штылько «Из недавнего прошлого. Бывшая саратовская губернская власть в ее отношении к местной прессе (по архивным материалам)» Г. П. Федотов, возможно не без иронии, «отметил новую для него мысль докладчика о том, что местная власть, смелая в своих поползновениях по борьбе с печатью, на деле оказывалась бессильной, скованной юридическими нормами» [14; 20–20 об.]. Однако главными событиями здесь стали выступления самого Г. П. Федотова в присутствии 300 слушателей с докладом «Об утопии Данте» на заседании 27 ноября 1921 года, посвященном 600-летию этого выдающегося итальянского мыслителя, и с докладом «Государство перед судом церкви в Меровингскую эпоху» на одном из заседаний 1922 года. Думается, что о содержании этих докладов можно судить по публикациям в первом томе «Собрания сочинений Г. П. Федотова» [32; 124–153, 301–311].
Вернувшись в Петроград в 1922 году, Г. П. Федотов оказался в сложном положении, так как был принят 24 июля сотрудником 1-го разряда в Исторический институт Петроградского университета «сверх штата» [22; 54], да и то, судя по всему, ненадолго. Попытки найти в фондах Центрального государственного архива Санкт-Петербурга следы его деятельности в этом учреждении в 1923–1925 годах, то есть в период до отъезда из России, пока не увенчались успехом. Поэтому единственным свидетельством о его деятельности в это время остается упоми- нание вдовой в воспоминаниях о его переводческой работе для частных издательств. Правда, в библиографии работ Г. П. Федотова нет указаний на результаты этой работы. Возможно, что сборник рассказов Дж. Джойса «Дублинцы», вышедший в 1927 году с предисловием Е. Н. Федотовой, был переведен им.
До сих пор речь шла об официальных документах, отложившихся в архивных фондах учреждений, так или иначе связанных с судьбой Г. П. Федотова. Но помимо их, к счастью, сохранились документы личного происхождения, прежде всего письма Георгия Петровича. Три его письма к И. М. Гревсу хранятся в Петербургском филиале архива РАН [18; 1–7 об.]. Одно из этих писем, посланное из Парижа в 1925 году, было опубликовано французской исследовательницей Д. Бон в «Вестнике РХД» (1998. № 177). Однако не менее важны и маленькая открытка, посланная из Парижа летом 1913 года, и письмо от 18 апреля 1921 года. Если первая подтверждает гипотезу о двухмесячной поездке Г. Федотова в Париж для работы в Национальной библиотеке задолго до эмиграции, то письмо позволяет понять мотивы его возвращения из Саратова в Петроград в 1922 году.
Самая большая коллекция писем Георгия Петровича – это его письма к Татьяне Юлиановне Дмитриевой (1884–1976), переданные вместе с другими бумагами семьи Дмитриевых в 1977 году в рукописный отдел Государственной библиотеки им. В. И. Ленина (ныне – НИОР РГБ) ее бывшей гимназической ученицей, историком Е. Н. Кушевой. Среди корреспондентов Г. П. Федотова Т. Ю. Дмитриевой принадлежит особое место: долгие годы он был безответно влюблен в нее, а потому в письмах открывал ей все свои сокровенные мысли. Немаловажна длительность и интенсивность переписки, начавшейся в июне 1905 года и продолжавшейся с некоторыми перерывами вплоть до января 1920-го. Большая часть коллекции – 131 письмо – была опубликована с моим послесловием в 12-м томе собрания сочинений [33], что освобождает от их подробной характеристики. Здесь следует лишь отметить, что эти письма позволяют восстановить не только очень многие события «российского» периода биографии мыслителя, но и понять формирование его личности, на которое, по признанию самого Г. Федотова, оказала огромное влияние его возлюбленная. С одной стороны, именно Татьяна Дмитриева вовлекла его в пропагандистскую деятельность среди рабочих, содействовала его знакомству с саратовскими социал-демократами. С другой – любовь к ней открыла Георгию красоту мира, что позволило преодолеть сформированную эстетическим нигилизмом радикальных демократов «душевную ненависть», подпитывавшую его первоначальные революционные устремления. Он с благодарностью воспринял ее влияние, не замечая до поры до времени, что оно не только обогащает духовно, но и разрушает целостность его мировосприятия, вызывает трещины в его душе. Впрочем, последнее не пугало его, тогда он еще не ведал страха, а воспринимал жизнь как праздник, где есть место и революции, и любви.
Однако со временем чувство любви вступило в противоречие с чувством общественного долга и революционными устремлениями Георгия, привело его к осознанию узости пропагандистской деятельности. Понимание необходимости преодолеть ее сдерживающие развитие собственной личности знаменовало кризис идентичности, воспринятый самим Г. П. Федотовым как метафорическая смерть. Но духовная смерть стала прологом душевного возрождения на совершенно иных путях, далеких от революционных схваток, которыми были обозначены начальные вехи XX столетия.
По техническим причинам в том вошли не все письма. Среди неопубликованных посланий наиболее важными являются пять, написанных в Берлине во время рождественских каникул в конце декабря 1906 года. На почти тридцати листах он воспроизвел «историю о том, как познакомились Жорж и Таня и что из этого вышло» [33; 67]. Эти послания подготовлены мною к печати, и первое из них вышло в «Историческом архиве» (2011. № 4).
Помимо писем Г. П. Федотова в фонде Дмитриевых сохранились сопутствующие им материалы: конспекты, наброски работ философского характера, переводы, литературные опыты и стихотворения. Часть их была мною опубликована [29], [33; 439–446], [34], [35], другая – подготовлена к публикации в журнале «Вопросы философии». Как представляется, в своей совокупности эти материалы позволят лучше понять процесс становления мировоззрения Георгия Федотова в студенческие годы, от которых не осталось опубликованных работ.
Завершить обзор можно лаконично и лапидарно: воссоздание биографии Г. П. Федотова возможно только на основе скрупулезного изучения документального материала архивов и библиотек. Причем на данном этапе следует особое внимание обратить на зарубежные архивы и библиотеки.
* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
Список литературы Значение материалов российских архивов и библиотек для изучения биографии Г. П. Федотова
- Архив Российской национальной библиотеки (далее -АРНБ). Ф. 1. Оп. 1 (1911-1917). Д. 197.
- АРНБ. Ф. 1. Оп. 1 (1917). Д. 129.
- АРНБ. Ф. 2. Оп. 1 (1917). Д. 1.
- Государственный архив Саратовской области (далее -ГАСО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 8547.
- ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 7112.
- ГАСО. Ф. 53. Оп. 1 (1905). Д. 143.
- ГАСО. Ф. 53. Оп. 1 (1907). Д. 94.
- ГАСО. Ф. 53. Оп. 1 (1909). Д. 64.
- ГАСО. Ф. 53. Оп. 1 (1910). Д. 63.
- ГАСО. Ф. 57. Оп. 1 (1906). Д. 29.
- ГАСО. Ф. Р.-332. Оп. 1. Д. 230.
- ГАСО. Ф. Р.-332. Оп. 1. Д. 250.
- ГАСО. Ф. Р.-332. Оп. 1. Д. 178.
- ГАСО. Ф. 407. Оп. 2. Д. 346.
- ГАСО. Ф. 407. Оп. 2. Д. 349, 350, 362, 363, 366, 389.
- ГАСО. Ф. 637. Оп. 2. Д. 834.
- Научно-исследовательский отдел рукописей РГБ. Ф. 745. К. 4. Д. 17.
- Петербургский филиал Архива РАН. Ф. 726. Оп. 2. Д. 313.
- Российский государственный исторический архив (далее -РГИА). Ф. 733. Оп. 155. Д. 707.
- РГИА. Ф. 733. Оп. 156. Д. 114.
- РГИА. Ф. 733. Оп. 156. Д. 490.
- Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (далее -ЦГИА СПб). Ф. 14. Оп. 1. Д. 10765.
- ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 47244.
- ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3 (Т. 4). Д. 16180.
- ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3 (Т. 4). Д. 16196.
- ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3 (Т. 4). Д. 16216.
- ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 20. Д. 57.
- ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 20. Д. 64.
- «Вторая муза историка» (стихотворения Г. П. Федотова)/Публ. А. В. Антощенко, Комент. Д. Д. Гальцына//Мир историка. Вып. 4. Омск: Изд-во ОмГУ, 2008. С. 400-404.
- Мастера русской историографии: Георгий Петрович Федотов/Публ. А. В. Антощенко, С. С. Бычкова, Г. С. Петрушиной//Исторический архив. 2009. № 4. С. 104-119.
- «Талантливый и оригинальный, увлеченный и трудолюбивый, очень ценный ученый» (эпизод из научной жизни Г. П. Федотова)/Публ. и комент. А. В. Антощенко//Мир историка. Вып. 6. Омск: Изд-во ОмГУ, 2010. С. 394-403.
- Федотов Г. П. Собр. соч.: В 12 т. Т. 1: Абеляр. Статьи 1911-1925 гг./Сост., вст. ст., примеч. С. С. Бычкова, примеч. М. Г. Галахтин. М.: Мартис, 1996. 349 с.
- Федотов Г. П. Собр. соч.: В 12 т. Т. 12: Письма Г. П. Федотова и письма различных лиц к нему. Документы/Сост., коммент. А. В. Антощенко, С. С. Бычков. М.: Изд-во «Тэтис Паблишн», 2008. 504 с.
- Федотов Г. П. Deus sive Amor//Вестник РХД. 2011. № 198. С. 90-95.
- Федотов Г. П. Каким образом пессимизм может быть основой жизни//Вестник РХД. 2012. № 199. С. 78-82.
- Акиньшин А. Н. Воронеж в биографии Г. П. Федотова//Воронежская беседа на 1999-2000 гг. Воронеж, 2001. С. 92-99.
- Антощенко А. В. Долгие сборы в Саратов (к биографии Г. П. Федотова)//Историографический сборник. Вып. 23. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2008. С. 72-82.
- Антощенко А. В. Трагедия любви (Путь Г. П. Федотова к Истории)//Мир историка. Вып. 4. Омск: Изд-во ОмГУ, 2008. С. 50-75.
- Галямичева А. А. Георгий Петрович Федотов: жизнь и творческая деятельность в эмиграции. Саратов: Изд. центр «Наука», 2009. 256 с.
- Г усакова З. Е. Из биографии философа, историка и публициста Г. П. Федотова//Советские архивы. 1991. № 6. С. 87-89.
- Гусакова З. Е. Штрихи к биографии члена ИСТАРХЭТ Г. П. Федотова//Краеведение и архивное дело в провинции: исторический опыт и перспективы развития: Труды Саратовского Обл. музея краеведения. Саратов: Локатор, 2006. С. 76-79.
- Гусакова З. Е. Становление философа//Кто есть кто в Саратовской губернии? Личность, биография, призвание. Саратов: Приволжское изд-во, 2007. С. 205-208.
- Гусакова З. Е. Георгий Федотов и Саратов//Саратовский краеведческий сборник. Вып. 4. Саратов: Наука, 2008. С. 171-181.
- Зайцева Н. В. Логика любви: Россия в историософской концепции Георгия Федотова. Самара: Самар. ун-т, 2001. 243 с.
- Катков С., Лукин С. Возвращение (к биографии Георгия Федотова)//Годы и люди. Вып. 7. Саратов: Приволжское кн. изд-во, 1992. С. 37-41.
- Киселев А. Ф. Страна грез Георгия Федотова (размышления о России и революции). М.: Логос, 2004. 322 с.
- Михеева Г. В. К биографии русского философа Г. П. Федотова//Отечественные архивы. 1994. № 2. С. 100-102.
- Федотова Е. Н. Георгий Петрович Федотов (1886-1951)//Федотов Г. П. Лицо России: Статьи 1918-1930. 2-е изд. Paris: YMCA-Press, 1988. С. I-XXXIV.