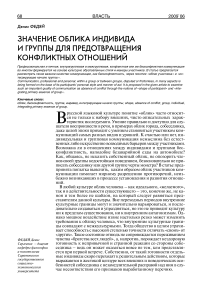Значение облика индивида и группы для предотвращения конфликтных отношений
Автор: Федяй Денис Сергеевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 6, 2009 года.
Бесплатный доступ
Профессиональная и личная, внутригрупповая и межгрупповая, конфликтная или же бесконфликтная коммуникация во многом формируется на основе культурно обусловленных стиля и манеры участников. В статье предлагается рассмотреть такое важное качество коммуникации, как бесконфликтность
Облик, бесконфликтность, группа, индивид, интегрирующее начало группы
Короткий адрес: https://sciup.org/170164902
IDR: 170164902
Текст научной статьи Значение облика индивида и группы для предотвращения конфликтных отношений
В русской языковой культуре понятие «облик» часто относится не только к набору внешних, чисто описательных характеристик исследуемого. Умение правильно и доступно для слушателя воспроизвести в речи, в примерах облик города, собеседника, даже целой эпохи приходит с умением становиться участником коммуникаций самых разных видов и уровней. К счастью или нет, индивидуальная и групповая коммуникация немыслима без естественных либо искусственно возводимых барьеров между участниками. Возможна ли в отношениях между индивидами и группами бесконфликтность, наподобие безаварийной езды на автомобиле? Как, общаясь, не исказить собственный облик, не опозорить членов своей группы недостойным поведением, безосновательно не приписать собеседнику или другой группе черты монстра? В статье предпринята попытка выяснить, каким образом облик участников коммуникации помогает мирному разрешению противоречий, неизбежно возникающих в процессе установления и развития отношений.
ФЕДЯЙ Денис Сергеевич – доцент кафедры философии и политологии
Саратовского государственного социальноэкономического университета
В любой культуре облик человека – как идеального, «желаемого», так и в действительности существующего – это, конечно же, не канон и тем более не шаблон, на который следует равняться представителям данной культуры. Вне переходных периодов внутренние культурные границы могут и значительно варьироваться, и последовательно создаваться и упраздняться, но это не приводит культуру ни к пределам существования, ни к внутренним антагонизмам. Однако мощное воздействие извне настолько резко может изменить требования к облику человека, что внутренние культурные границы совпадают с межкультурными. Тогда общество в целом утрачивает способность с высокой степенью точности отличать «своих» от «других». Такое состояние отнюдь не сопровождается переживанием чувства «братства всех людей», а, напротив, порождает нездоровую готовность к непривычной и странной реакции со стороны собеседника – ведь он может оказаться вовсе не тем, кем представляется при первой встрече. Собственно, от такой готовности отдельные индивиды скоро переходят к решительным действиям, которые выражаются в жестокой цензуре всех внешних и поведенческих особенностей собеседника с незамедлительной расправой над ним в случае несоответствия его признаков выработанному перечню.
Практика непрерывной «проверки» на годность, применяемая, между прочим, также к самому себе, имеет многовековую «популярность» у серьёзно настроенных представителей различных религий. Пожалуй, среди европейских религий наивысшего развития она достигла в средневековом католичестве и в православии. Проверка состоит в регулярном выискивании в окружающих и в самом себе греховных, порочных, нечистых намерений, переживаний, мыслей. Этот контроль распространяется и на облик уподобиться «неверным», «отступникам» даже внешне также предосудительно. Иначе говоря, верующий обязан являть собою некий эталон и всемерно заботиться о его идеально безупречном состоянии.
Именно следование таким правилам поведения чаще всего выделяет верующего из окружения, способствует закреплению за верующим ярлыка «фанатик». Так, к религиозной стороне его отношений с окружающими добавляется психологическая, социальная и даже политическая. Этим, наряду с прочим, объясняется исторически устойчивая связь политических сил и религиозных деятелей: ведь служение правителю должно быть ревностным и добросовестным. Религиозная схема поведения здесь оказывается весьма кстати, отсюда и фигуры китайских «божественных» императоров, о которых сегодня большинству известно со школьных лет.
Но вне религии подобные проверки на чистоту собственной и чьей-то сущности должны быть санкционированы как-то иначе. То есть, возникает столь любимый современными политиками вопрос о легитимности требований, которые некий индивид желает предъявить окружающим и самому себе. Что характерно, наработанный в советское время опыт поиска «врага в самом себе» – один из наиболее удачных именно в управленческом отношении способ адаптации указанной религиозной практики к условиям светского (да ещё и атеистического) общества. «Поиск врага в себе» – есть точная и, более того, талантливая копия монашеской обязанности по хранению чистоты помыслов.
У особо строгих «цензоров» существует даже ими самими оправдываемая и часто применяемая уловка. В какой-то момент всё чаще речь заходит о спорных случаях, и трудно разобраться, действительно ли собеседник находится по эту сторону цен- зурного барьера, или же он искусно замаскировался. Внезапно оказывается, что никаких чётких окончательных правил определения принадлежности к «своим» нет, а лидер группы в произвольном порядке, нередко в зависимости от настроения, «легитимирует» собеседника, либо объявляет его «врагом».
Когда такие «спорные» случаи возникают всё чаще (а это неизбежно), процесс цензурного надсмотра переходит в иное качество и востребованными становятся совсем иные категории и ценности, нежели цвет волос, глаз и одежды, речь с акцентом или что-то подобное. По инициативе лидера группы (социальной, политической, религиозной, национальной) начинаются претендующие на самостоятельную философию рассуждения о некоем «духе» (русском, демократическом, коммунистическом), о том, что этот дух якобы «выше» всех материальных и эмпирически воспринимаемых признаков групповой принадлежности. Проще говоря, формируется эзотерическая часть групповой идеологии и психологии, позволяющая выстраивать уже внутреннюю иерархию более надёжно и устойчиво: ведь усомниться в чувстве «духа», которым руководствуется лидер группы – значит, продемонстрировать собственную примитивность, прямолинейность неофита.
Таким образом, даже верно созданный облик не всегда гарантирует индивиду бесконфликтность отношений, а в кризисные периоды общественного бытия, когда всякая фальшь воспринимается особенно болезненно, как раз безупречный и во всём соответствующий заданному идеалу облик может вызвать особенное недовольство и подозрение. Разумеется, подозрение может исчезнуть, когда такой собеседник обнаружит свою компетентность и в общении на обычные для данной группы темы (вполне «тестовые» вопросы). Всё это напоминает детскую игру в разведчики, только с той разницей, что играют в это взрослые, а последствия таких «игр» зачастую далеко не детские. Но если собеседник с «соответствующим» (ожиданиям) обликом вдруг окажется не готов поддержать беседу, выполнить какие-то ритуальные действия, расправа будет весьма жестокой – никакая откровенная неверность групповым идеалам не наказывается столь беспощадно, как прикрытая и тщательно обставленная предосторожно- стями. В строгом смысле, чаще всего это никакая не лживость и тем более не преднамеренное желание вводить в заблуждение окружающих, а именно наивная спонтанная попытка субъекта «соответствовать».
Отсюда понятно, что в обществах с «переходной» системой ценностей господствует ревностное отношение и к внешним атрибутам групповой (и в более обширном плане – социальной) принадлежности, идентичности. Бесконфликтность, впрочем, способна сохраняться до некоторых пор, пока, например, кто-то не «нацепит» имеющую символический смысл одежду. Такой индивид немедленно привлечёт к себе пристальное внимание «референтной» группы. Надевание определённых предметов гардероба кем-то «подозрительным» может быть расценено как балаган, глумление над символом; а если при прочих равных условиях общество или группа сталкивается и с откровенно одиозными поступками такого индивида, то в данном случае шансов на пощаду у него нет.
Если бесконфликтность желаема в отношениях с представителями иных культур, религиозных или политических взглядов, не менее востребована она и при выработке индивидом отношения к «таким же, как я». Поэтому, говоря, например, о сообществе, рассматриваемом как среда для внедрения новых лиц (мигрантов), вначале следует решить вопрос о внутренних взаимоотношениях в этой среде. Заинтересованный в отстаивании собственной уникальности индивид вовсе не должен испытывать восторг от того, что вокруг него накапливаются ему подобные. Они постепенно образуют группу, а даже в самой гармоничной и сплочённой группе периоду стабильного существования и слаженных действий предшествуют порой весьма длительные внутригрупповые перестановки и антагонистические взаимодействия. Это самое сложное для индивида состояние: для формирования, утверждения и легитимации персональной идентичности требуется подобающее окружение, но в то же время оно способно и сдерживать особо экспрессивные её проявления в интересах сохранения своей известной гомогенности. «Следует также иметь в виду, что в той мере, в какой отдельный человек отдается служению своей группе, он получает от неё форму и со- держание своего собственного существа. Добровольно или не добровольно, но член малой группы сплавляет свои интересы с интересами совокупности, и, таким образом, не только они делаются его интересами, но и его интересы становятся её интересами»1.
В группах и сообществах, которые состоят из индивидов, различных по многим признакам, всегда присутствует особое, но вполне реальное интегрирующее начало. Например, общее дело, единая территория проживания (например, в общежитии или в коммунальной квартире могут образовываться пусть формальные, но всё же группы, что помогает решать общие жилищные или юридические вопросы), руководство на производстве. Всякое намеренное упоминание об этом интегрирующем начале служит не просто признаком желания оповестить окружение о существовании группы.
Во-первых, такой сигнал далеко не всегда адресован в какое-то безликое абстрактное, окружающее группу пространство; это бывает нужно для успешной межгрупповой коммуникации, когда по оглашённому интегрирующему фактору противоположная сторона узнаёт, зачем вообще группа существует и в силу чего в данный момент желает (или не желает) устанавливать контакт. Поэтому здесь речь идёт о чём-то намного более значимом, чем сомнительная трата сил на сигналы фонового характера. Ведь группа квакающих лягушек издаёт эти звуки не только и не столько потому, что лягушки физически не могут издавать какие-то другие. Всякий биолог знает, что животное не будет отправлять сигнал в среду только по причине отсутствия других интересов или физиологических нужд. Тем более это относится к стае или стаду, к рою и колонии.
Психосоциальные же основы информирования окружающих о самом наличии группы и о её характере, даже о структуре, намного более сложны. Ведь выделение «такого же, как я», равно как и множества «таких же, как я», возможно и на основе ошибочной расшифровки каких-то признаков или сигналов. Самый простой пример – человек, одетый в белый халат: это может быть и парикмахер, и повар, и ла- борант, и медицинский работник. Но это всего лишь один-единственный невербальный сигнал, и он связан в сознании каждого реципиента с разветвлённой системой ассоциаций и воспоминаний, страхов и надежд, понятий и схем поведения. Поэтому в таких случаях (а их, видимо, подавляющее большинство) факторы интеграции могут переквалифицироваться индивидами в факторы формальной бесконфликтности («терплю тебя только потому, что ты всё-таки тоже адвокат, как и я»). Когда же определение «как и я» уже не может быть, по мнению индивида, применено, скажем, к коллеге, последний из коллеги или сотоварища превращается в потенциального участника конфликта. Такие ситуации наиболее интересны в плане исследования метаморфоз самой бесконфликтности и её, так сказать, аналогов и антагонистов.
Во-вторых, когда сигнал, извещающий об интегрирующем начале, воспроизводится членами группы «для внутреннего употребления», тоже следует говорить о ряде важных функций:
– создание общей атмосферы, где каждый чувствует и осознаёт себя как важную и значимую часть целого. Индивид в полной мере испытывает и удовлетворение от признания его нужным и незаменимым, и ответственность за своё поведение;
– стимуляция активности. Когда спортсмены повторяют друг другу «мы – команда!», или военные упоминают о том, что они – боевое братство, внутри этих сообществ возрастает мотивация к действию, подтверждается состояние сплочённости (а значит, готовности к совместным действиям);
– напоминание о наличии других, отличных по исходным принципам и характеру деятельности групп и сообществ, к которым следует относиться так, как заведено в данной группе. Всякий член группы есть её полноправный представитель, в его лице другие люди встречаются как будто со всей группой. Если, скажем, пионер позволяет себе издеваться над октябрёнком, это вопиюще дискриминирует всю пионерскую организацию для многих октябрят. Нарушитель правил группового поведения, не отменяющихся для него даже при нахождении вне группы, подвергается суровому наказанию с целью исправления, а при безуспешности наказания – и исключению из организации (группы);
– существует и чисто ритуальное значение называния интегрирующего начала. Особенно когда группа (сообщество) находится на начальном этапе формирования, важно выработать принцип, идею, ориентир, который с момента его избрания и утверждения играет роль инициирующего, а впоследствии охранительного начала. В любом сообществе – от самого немногочисленного до самого крупного – едва ли не решающим моментом является его название, аналог имени человека. Только с упоминанием имени перед нами возникает не продавец, водитель трамвая или горнолыжник, а реальный человек со своим происхождением, настоящим и будущим. Без названия сообщество превращается в простое скопление «каких-то людей», невыразительное и не воспринимаемое всерьёз. Если группа, объявившая себя «братством», узнает, что её называют «бандой» или тем более «сворой», потребуются многие усилия для восстановления группы в исходном желаемом статусе.
Такие особенности присущи любой группе, поэтому желание членов одного сообщества конфликтовать с другим сообществом не может быть полностью выведено только из взаимного неприятия интегрирующего начала. Факторы же, способствующие взаимной конфронтации, можно отыскивать десятками, и всякий раз они предстанут как значимые и даже неустранимые. Вопрос в том, возможно ли для нескольких совершенно разных сообществ интегрирующее начало столь высокого порядка, что оно было бы способно устранить антагонистические взаимодействия между интегрирующими началами рассматриваемых групп (сообществ). Ведь только в этом случае достижима минимальная приемлемая конфликтность, когда индивиды спорят, обвиняют и даже оскорбляют друг друга, ищут предлога продемонстрировать собственное превосходство и недостатки другого, но, несмотря на всё это, доводят совместную деятельность до заранее запланированного результата.