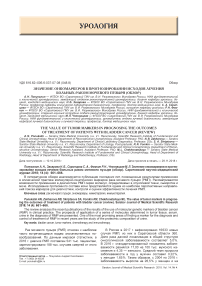Значение онкомаркеров в прогнозировании исходов лечения больных раком мочевого пузыря
Автор: Понукалин А.Н., Захарова Н.Б., Скрипцова С.А., Фомкин Р.Н., Чехонацкая М.Л.
Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj
Рубрика: Урология
Статья в выпуске: 4 т.14, 2018 года.
Бесплатный доступ
В литературном обзоре анализируются публикации последних лет, посвященные результатам применения в клинической практике молекулярно-генетических маркеров рака мочевого пузыря (РМП). Рассматриваются возможности применения в диагностике РМП серии молекул, определяемых в опухолевой ткани, сыворотке и моче. Исследование протеомного состава мочи представляется одним из наиболее перспективных направлений поиска маркеров для диагностики, контроля и оценки эффективности лечения РМП.
Иммунотерапия, онкомаркеры, рак мочевого пузыря, химиотерапия
Короткий адрес: https://sciup.org/149135165
IDR: 149135165 | УДК: 616.62-006.6-037-07-08
Текст научной статьи Значение онкомаркеров в прогнозировании исходов лечения больных раком мочевого пузыря
В России в 2017 г. зафиксировано 16633 новых случая РМП, из них в Саратовской области 360. Доля рака данной локализации в общей структуре онкологической заболеваемости составляет 5,0%. В 2016 г. стандартизированный показатель заболеваемости равнялся 17,00 на 100 тыс. мужского населения и 4,35 — женского. Средний темп прироста заболеваемости в год у мужчин составил 0,22%, у женщин 1,65%. Таким образом, с 2004 по 2016 г. заболеваемость выросла на 26,5% у женщин и на
-
15,1 % у мужчин. Суммарный же риск развития РМП в течение жизни значительно выше у мужчин (1,51 %), чем у женщин (0,24%). Средний возраст больных с впервые в жизни установленным диагнозом РМП в России: 66,5 года у мужчин и 69,2 года у женщин. У 64,8% больных диагностированы I и II стадии заболевания, у 21,5% III стадия, у 10,6% IV стадия [1, 2]. Летальность больных РМП в течение 2017 г. после установления диагноза составила 14,9% [3, 4]. Для снижения смертности больных РМП ведущее значение имеет раннее выявление рецидива и метастазов как в до-, так и в послеоперационном периоде.
После радикального лечения вероятность рецидива опухоли в первый год колеблется от 10 до 67%, а допустимость прогрессии в течение пяти лет достигает 55% [5, 6]. Применение «классической» системы оценки рисков развития рецидивирования и прогрессии опухолевого роста (таблицы EORTC) не дает гарантии правильности выбора тактики лечении [7]. Несмотря на эффективность компьютерной томографии (КТ) и позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) для выявления метастазов после радикальных оперативных вмешательств у больных РМП, они относятся к дорогостоящим процедурам и их нельзя проводить многократно. Существует настоятельная необходимость применения простого, но экономически эффективного показателя или технологии исследования для прогноза течения заболевания [6–8].
По сравнению с методическими подходами к оценке тяжести опухолевого процесса, утвержденными в клинических рекомендациях, использование биомаркеров в диагностике РМП имеет ряд существенных преимуществ (повышенная чувствительность, объективное измерение), методы их количественного определения удобны и безопасны [9–11]. Это обстоятельство привело к появлению целого ряда работ, направленных на поиск характеристик биологических свойств клеток РМП [12]. В настоящее время установлен ряд потенциальных прогностических маркеров, характеризующих молекулярные изменения клеток РМП [13, 14]. Среди них: делеции хромосом; потеря регулирования клеточного цикла и клеточная пролиферация; потеря контроля роста или «включение» ангиогенеза, сопровождающего метастазированиe. Установлено, что каждый тип опухолевых клеток больных РМП характеризует свои индивидуальные геномные повреждения. От них зависят клинический характер заболеваниям, его прогноз, стратегия лечения больных РМП. Хромосомные делеции клеток РМП установлены на хромосомах 9, 13 и 17. Инактивация гена на хромосоме 9 представляет собой начальный период развития РМП [15, 16].
Вместе с тем при выборе стратегии лечения больных РМП предпочтение отдается простым и экономически эффективным показателям, в частности целому ряду сывороточных и мочевых белков. Серологические биомаркеры РМП могут быть отнесены к наиболее перспективным показателям для выбора стратегии и контроля лечения [17]. Во многих исследованиях показано, что достаточно высокую чувствительность и специфичность при определении стадии опухолевого роста и активности метастазирования у больных РМП имеют онкоассоциированные цито-кератины [18]. Цитокератины (ЦК) — структурные белки цитоскелета эпителиальных клеток [19, 20]. К ЦК относятся 20 различных белков, содержание которых нарастает в кровотоке при разрушении опухолевых клеток и усилении протеолиза. Инвазивный рост злокачественных опухолевых клеток при РМП сопровождается нарастанием таких растворимых фрагментов цитокератинов, как тканевый полипеп-тидный антиген (tissue polypeptide antigen, TPA) и тканевый полипептид-специфический антиген (tissue polypeptide-specificantigen, TPS) в сыворотке крови [21]. Исследование данных онкомаркеров у одного и того же больного проводится многократно с целью принятия клинических решений. Эти сывороточные биомаркеры наиболее эффективны при мониторинге лечения у пациентов с мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря (МИРМП).
Основным недостатком названных сывороточных маркеров считается их низкая специфичность [23–25]. В связи с этим при выявлении критических величин данных онкомаркеров у больных РМП возникает необходимость назначения уточняющих исследований (цистоскопических и гистологических), что значительно ограничивает их применение в клинической практике [25].
За последние годы получены убедительные доказательства роли ангиогенеза в прогрессии и реци-дивировании РМП [26, 27]. Фактор роста эндотелия сосудов (vascular endothelial growth factor, VEGF) отнесен к независимому показателю развития рецидивов и метастазов в послеоперационном периоде у больных РМП [28, 29]. Его нарастание в сыворотке крови связано с увеличением плотности микрососудов опухолевой ткани. У больных МИРМП высокий уровень VEGF до операционного вмешательства считается предиктором развития рецидива после цистэктомии [30–32].
К потенциальным маркерам опухолевого ангиогенеза относятся: плацентарный фактор роста (PlGF), щелочной фактор роста фибробластов (bFGF), инсулиноподобный фактор роста (IGF-I), фактор роста гепатоцитов (HGF), фактор некроза опухоли α (TNF-α), фактор роста из тромбоцитов (PDGF), трансформирующий фактор роста (TGF-β), ангиопоэтин-1, оксид азота (NO), эндотелиин и другие [33–35].
Исследование уровня сывороточных маркеров не включено в большинство клинических рекомендаций, однако их достаточно часто определяют при лечении больных РМП в Европе для прогнозирования реакции или резистентности к специфической терапии, наблюдения после оперативных вмешательств у пациентов с прогрессией заболевания. При использовании опухолевых маркеров сыворотки в диагностическом процессе у больных РМП необходимо учитывать следующее:
-
а) ни один из доступных маркеров не увеличивается у всех пациентов с РМП даже с прогрессирующим заболеванием, и для мониторинга необходимо определение панели маркеров в сыворотке крови (TPA, TPS VEGF и др.);
-
б) маркеры чувствительны к обнаружению отдаленных метастазов и при диагностике локальных рецидивов;
-
в) основным недостатком существующих маркеров сыворотки для РМП является низкая специфичность. Это не позволяет их использовать при скрининге для выявления ранних стадий заболевания.
Цитологическое исследование мочи является наиболее часто используемым диагностическим методом в клинической практике [36, 37]. Мочевая цитопатология основана на интерпретации морфологических изменений в дезагрегированных клетках и относится к дорогостоящей методике. Вместе с тем для выполнения цитологического исследования требуется профессионально подготовленный и опытный цитопатолог. Неправильный сбор и обработка образцов могут отрицательно влиять на точность результатов. Возможность получения ложного положительного значения очень высока при внутри-пузырной химиотерапии, лучевой терапии. Цитологический анализ мочи может выявлять карциному in situ (CIS) с чувствительностью 80-90% и специфичностью 98-100%. Чувствительность метода связана со степенью клеточной дифференцировки опухолевых клеток: достигает при G128%, G277%, G39o%, в среднем около 40% [38].
Моча относится к одному из наиболее популярных объектов поиска биомаркеров РМП. В течение последних лет благодаря усовершенствованным методам молекулярной биологии выявлены новые классы диагностических и прогностических биомаркеров. Они учитывали не только отдельные белки, но и взаимодействия между молекулами в путях, которые, как известно, были опухолегенными [39–47]. Протеом мочи содержит подробную информацию об изменениях физиологического состояния человека [48–51]. Процедура сбора ее образцов неинвазивна и безопасна, может проводиться с любой периодичностью, что значительно облегчает проведение исследований в динамике с целью мониторинга развития заболеваний или контроля эффективности лечения [49, 50]. Определение онкомаркеров в моче в основном проводят методами протеомики, основанными на иммунохимическом анализе. Применение конкретного маркера мочи в клинической практике связано с необходимостью «более простых, лучших, более быстрых и дешевых» средствах диагностики и мониторинга эффективности лечения РМП [47, 48]. Наиболее распространенными из них стали: опухолевый антиген мочевого пузыря (БТА), белок ядерной матрицы 22 (NMP22), антиген UBC (urinary bladder cancer), теломераза мочи, тесты на наличие генетических мутаций (чаще всего рецептор фактора роста фибробластов 3 (FGFR3) и TP53), изменение метилирования ДНК, структуры хроматина и, в последнее время, наличие специфической микроРНК и другие [40–42, 52, 53].
Поиск значимых в диагностике РМП маркеров мочи представляет собой неинвазивный подход для молекулярной характеристики опухоли. Для определения биомаркеров в моче в настоящее время начинают появляться доступные наборы реагентов (в том числе отечественного производства) и соответствующее лабораторное оборудование.
Каковы перспективы применения молекулярных маркеров в оценке эффективности химио- и иммунотерапии у больных РМП?
Варианты лечения РМП с комбинированной химиотерапией (ХТ) в качестве основы оставались относительно неизменными в течение последних тридцати лет. Она считалась практически единственным методом лечения неоперабельных местно-распространенных и диссеминированных форм уротелиального рака [54, 55]. Предоперационная химиотерапия позволяет воздействовать на микрометастазы на ранних этапах лечения, потенциально отражает чувствительность к химиопрепаратам in vivo. Существует точка зрения, что пациенты, ответившие на неоадъювантную ХТ (НАХТ), могут обладать более благоприятным прогнозом в отношении исхода заболевания [54, 56, 57]. У пациентов, ранее не получавших системного лечения, стандартом первой линии терапии является назначение многокомпонентных режимов, основанных на цисплатине: гемцитабин/ цисплатин (GC); метотрексат, цисплатин, винбластин с доксорубицином или без него. Данный вид ХТ обеспечивает ответ на лечение в 46-50% случаев при медиане общей выживаемости 13,8 месяца [57–59]. Вместе с тем около 50% больных РМП имеют противопоказания к назначению цисплатина, определяемые скоростью клубочковой фильтрации. Препаратом выбора второй линии химиотерапии в настоящее время признан винфлунин [60].
Преимущества проведения ХТ при лечении больных РМП определили поиск лабораторных, клинических, морфологических и молекулярно-генетических показателей ее эффективности. Анализ более 3000 случаев РМП выявил, что у пациентов с локализованными в пределах органа злокачественными новообразованиями, по сравнению с радикальной цистэктомией, НАХТ на 9% улучшает безрецидивную выживаемость, на 5% общую выживаемость [61,62]. Однако последующее наблюдение за пациентами после НАХТ показало, что клинические исходы при МИРМП неудовлетворительны: 5-летняя выживаемость составила менее 15%; для всех стадий около 77% [63]. Кроме того, значительная часть пожилых больных МИРМП с целым рядом сопутствующих заболеваний не в состоянии перенести стандартные режимы химиотерапии. Takata R. et al. (2010) представили результаты исследования в биоптатах опухоли панели из 2764814 генов, выявленных с помощью микрочипов. Установлено 14 генов у 9 больных с положительным результатом после НАХТ и разработана схема оценки ее эффективности [63]. Одна из последних разработок в области молекулярно-генетической диагностики посвящена изучению панели из 20 генов, повышение экспрессии которых является предиктором инвазии в лимфоузлы и позволяет отобрать пациентов высокого риска для проведения НАХТ.
В 2000-х гг. Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA, США) для лечения метастатического РМП рекомендована иммунотерапия на основе новых препаратов. Это связано с появлением убедительных экспериментальных и клинических исследований, показавших значение иммунной системы в онкогенезе, опухолевой прогрессии и ответе на противоопухолевую терапию [64]. РМП отличают высокая мутационная нестабильность и высокая степень иммуногенности опухолевых клеток. Клеткам опухоли свойственна высокая экспрессия PD–L1, прямо коррелирующая со стадией заболевания и степенью их дифференцировки [65, 66]. Данные белки, PD-1 (поверхностный рецептор T-клеток, при связывании с опухолевым лигандом PD–L1) и, в меньшей степени, PD–L2 являются участниками подавления противоопухолевого ответа иммунной системы. Медикаментозная блокада белков PD-1 и PD–L1 приводит к восстановлению противоопухолевого ответа [66, 67]. Показано, что иммунотерапия значительно снижает риск рецидива РМП и увеличивает процент пациентов без развития в послеоперационном периоде рецидивов и метастазов. В последнее время системная иммунотерапия стала стандартом ухода за многими пациентами с ранее обработанной метастатической уротелиальной карциномой. На Конгрессе Европейского общества медицинской онкологии (ESMO) в 2018 г. группа исследователей представила первые результаты испытаний одобренных для лечения РМП лекарственных препаратов для иммунотерапии (Check Mate
032) [68]. В настоящее время для лечения РМП и лечения первой линии для пациентов, которые не имеют права на ХТ цисплатином, одобрены: Avelumab (Bavencio ®): связывается с лигандом PD-1/PD–L1; Durvalumab (Imfinzi TM): связывается с лигандом PD-1/PD–L1; Nivolumab (Opdivo ®): связывается с лигандом PD-1/PD–L1; Pembrolizumab (Keytruda ®): связывается с лигандом PD-1/PD–L1 [68, 69].
На современном этапе иммунотерапия становится одним из наиболее перспективных методов лечения РМП. Вместе с тем основой оптимизации химио-и иммунотерапии остается персонифицированный подход к контролю и мониторингу эффективности проводимого лечения, в частности с помощью биомаркеров. Ученые приступили к поиску специфичных и чувствительных биомаркеров для индивидуализированного прогнозирования молекулярных событий у больных после иммунотерапии. Конечной целью является разработка надежных прогностических маркеров, которые будут точно прогнозировать ответ опухолевых клеток на проводимое лечение. Вполне возможно, что разработка новых биомаркеров опухолевого ответа на иммунотерапию позволит установить ряд новых прогностических показателей, характеризующих молекулярные изменения на начальных стадиях развития РМП [70, 71].
Таким образом, в последнее десятилетие, несмотря на увеличение доказательной базы диагностического значения серии молекул, определяемых в опухолевой ткани, сыворотке, моче в диагностике РМП, поиски надежного маркера заболевания продолжаются. Это связано с высокими требованиями, предъявляемыми к так называемому «идеальному маркеру» опухолевого роста, а также с разнообразием генетических мутаций, приводящих к развитию РМП, и с необходимостью их выявления на начальных стадиях формирования опухоли. Появление такого нового направления в лечении больных МИРМП, как иммунотерапия, увеличивает значение поиска маркеров РМП. Весомый вклад вносят исследования протеомного состава мочи. Возможно, данное направление позволит найти оптимальные, неинвазивные маркеры, определение которых будет технически несложным, не затратным для клиникодиагностических лабораторий любого уровня, допускающим неоднократные повторные исследования.
Список литературы Значение онкомаркеров в прогнозировании исходов лечения больных раком мочевого пузыря
- Global Burden of Disease Cancer Collaboration. Global, regional, and national cancer incidence, mortality, years of life lost, years lived with disability, and disability-adjusted life-years for 32 cancer groups, 1990 to 2015: A systematic analysis for global burden of disease study. JAMA Oncol 2017; 3: 524-48
- Kaприн А. Д., Старинский В. В., Петрова Г. В. Состояние онкологической помощи населению России в 2015 году. М.: МНИОИ им. П. А. Герцена - филиал ФГБУ "НМИРЦ" Минздрава России, 2016; 236 с.
- Каприн А.Д., Старинский В. В., Петрова Г. В. Злокачественные новообразования в России в 2014 году (заболеваемость и смертность). М.: МНИОИ им. П. А. Герцена - филиал ФГБУ "НМИРЦ" Минздрава России, 2016; 250 р.
- Носов ДА., Болотина Л. В., Воробьев Н.А. и др. Практические рекомендации по лекарственному лечению рака мочевого пузыря. Злокачественные опухоли 2016; (4): 338-42
- Sylvester RJ, Meijden АР, Oosterlinck W, et al. Predicting recurrence and progression in individual patients with stage Та T1 bladder cancer using EORTC risk tables: a combined analysis of 2596 patients from seven EORTC trials. Eur Urol 2006; 49 (3): 466-77. 10.1016/j.eururo.2005.12.031. PMID: 16442208 URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gOv/pubmed/1 6442208 DOI: 10.1016/j.eururo.2005.12.031.PMID
- Каприн А.Д. Современные концепции лечения рака мочевого пузыря. Современная онкология 2004; 4: 34-18
- Каприн А.Д., Аполихин О.И., Алексеев Б.Я. и др. Сравнительная оценка прогностических систем EORTC и CUETO при мышечно-неинвазивном раке мочевого пузыря. Онкоурология2018; 14(2): 162-70
- Ми-Д.Х. Органосохраняющее лечение при инвазивном раке мочевого пузыря. Онкоурология 2005; (2): 27-32
- Clinical Guidelines of the European Association of Urology on muscle-invasive and metastatic bladder carcinoma. Actas Urol Esp 2010; 34(1): 51-62
- Liedberg F, Mansson W. Lymph node metastasis in bladder cancer. Eur Urol 2006; 49: 13-21
- Babjuk M, Burger M, Zigeuner R, et al. EAU guidelines on non-muscle-invasive urothelial carcinoma of the bladder: update 2013 Eur Urol 2013; 64 (4): 639-53. URL: https://
- DOI: 10.1016/j.eururo.2013.06.003
- Glaser AP, Fantini D, Shilatifard A, et al. The evolving genomic landscape of urothelial carcinoma. Nat Rev Urol 2017; 14 (4): 215-29. URL:
- DOI: 10.1038/nrurol.2017.11
- Kirkali Z, et al. Bladder cancer: epidemiology, staging and grading, and diagnosis. Urology 2005; 66 (6A): 4-34
- Аль-Шукри С. А., Ткачук В. Н., Волков Н. М., Дубина М. В. Прогностические молекулярно-генетические маркеры рака мочевого пузыря (обзор литературы). Онкология 2009; (2): 78-84
- Volpe A, et al. Bladder tumor markers: a review of the literature. The International Journal of Biological Markers 2008; 23 (4): 249-61
- Goebell PJ, Knowles MA. Bladder cancer or bladder cancers? Genetically distinct malignant conditions on the urothelium. Urol Oncol 2010; 28 (4): 409-28
- Полищук Л. А., Телегеева П. Г., Стаховский А.Э. и др. Новые специфичные молекулярные диагностические маркеры при онко-урологических заболеваниях. Лабораторна диагностика 2010; 4 (54): 46-51
- Pu XY. et al. The value of combined use of surviving, cytokeratin 20 and mucin 7 mRNA for bladder cancer detection in voided urine. J. Cancer Res. Clin. Oncol. 2008; 134(6): 659-665
- Понукалин A. H., Попков B.M., Захарова H. Б., Михайлов В. Ю. Онкомаркеры в диагностике стадии инвазии рака мочевого пузыря. Медицинский вестник Башкортостана 2013; 8 (2): 213-17
- Konety BR, Lotan Y, Konety BR. Urothelial bladder cancer: biomarkers for detection and screening. BJU International 2008; 102(9): 1234-41
- Castro J, et al. Erythrocyte and platelet phospholipid fatty acids as markers of advanced non-small cell lung cancer: comparison with serum levels of sialic acid, TPS and CYFRA 21-1. Cancer Invest 2008; 26 (4): 407-18
- Wang C, Sun Y, Han R. XRCC1 genetic polymorphisms and bladder cancer susceptibility: a meta-analysis. J. Urology 2008; 72: 869-72
- ShirodkarSP, Lokeshwar VB. Bladder tumor markers: from hematuria to molecular diagnostics where do we stand? Expert review ofAnticancer Therapy 2008; 8 (7): 1111-23
- Jacobs LB, LeeTC, Montie JE. Bladder cancer in 2010: how far have we come? CA Cancer J Clin 2010; 60: 244-72
- Fergelot P, Rioux-Leclercq N, Patard JJ. Molecular Pathways of tumor angiogenesis and new targeted therapeutical approches in renal cancer. Prog Urol 2005; 15 (6): 1021-9
- GarcHa-Closas M, Malats N, Real FX, et al. Large-scale evaluation of candidate genes identies association between VEGF polymorphism and bladder cancer risk. PLoS Genet 2007 Feb 23; 3 (2): e29.
- DOI: 10.1371/journal.pgen.0030029
- Goddard JC, Sutton CD, Furness PN, et al. Microvessel density at presentation predicts subsequent muscle invasion in supercial bladder cancer. Clin Cancer Res 2003 Jul; 9 (7): 2583-6
- Stenzl A, Cowan NC, De Santis M, et al. Update of the Clinical Guidelines of the European Association of Urology on muscle-invasive and metastatic bladder carcinoma. Actas Urol Esp 2010; 34(1): 51-62
- Глыбочко П. В., Понукалин А. Н., Захарова Н.Б., Шахапазян Н.К. Значение маркеров опухолевого роста и ангиогенеза в диагностике рака мочевого пузыря. Онкоурология 2009; (2): 56-60
- Аль-Шукри С. X., Корнеев И.А., Яг-муров О. Д. и др. Роль ангиогенеза опухоли в течении переходно-клеточного рака мочевого пузыря. Актуальные вопросы патологической анатомии 2010; (2): 37-8
- Попков В. M., Понукалин А. Н., Захарова Н. Б. Фактор роста эндотелия сосудов в диагностике метастазов мы-шечно-инвазивного рака мочевого пузыря. Онкоурология 2016; 12 (2): 53-7
- Harper J, Moses MA. Molecular regulation of tumor angiogenesis: mechanism and therapeutic implication. EXS 2006; 96: 223-68
- Rey del J, Prat E, Ponsa I, et al. Centrosome clustering and cyclin D1 gene amplification in double minutes are common events in chromosomal unstable bladder tumors. ВМС Cancer 2010; 10:280-91
- Bollman D, Bollman M, Bankfalvi A, et al. Quantitative molecular grading of bladder tumours: A tool for objective assessment of the biological potential of urothelial neoplasias. Oncol Rep 2009; 21: 39-47
- Lindgren D, Frikvesi A, Guidionsson S, et al. Combined gene expression and genomic profiling define two intrinsic molecular subtypes of urothelial carcinoma and gene signatures for molecular grading and outcome. Cancer Res 2010; 70 (9): 3463-72
- Tritschler ML, Sommer J. Straub, et al. Urinary cytology in Era of fluorescence endoscopy: redefining the role of an established method with a new reference standard. Urology 2010; 76(3): 677-80
- He H, Han C, Hao L, Zang G. Immunocyt test compared to cytology in the diagnosis of bladder cancer: a meta-analysis. Oncol Lett 2016; 12: 83-8.
- DOI: 10.3892/ol.2016.4556
- TodenhoferT, Hennenlotter J, EsserM, etal. Combined application of cytology and molecular urine markers to improve the detection of urothelial carcinoma. Cancer Cytopathol 2013; 121: 252-60.
- DOI: 10.1002/cncy.21247