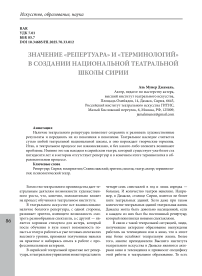Значение «репертуара» и «терминологий» в создании национальной театральной школы Сирии
Автор: Аль Мунер Джамаль
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Искусство, образование, наука
Статья в выпуске: 3, 2025 года.
Бесплатный доступ
Наличие театрального репертуара позволяет сохранять и развивать художественные результаты и передавать их из поколения в поколение. Театральное наследие считается сутью любой театральной национальной школы, и оно порождает творческие термины. Итак, в театральном процессе все взаимосвязано, и без какого-либо элемента возникают проблемы. Именно это мы находим в сирийском театре, который существует уже более ста пятидесяти лет и в котором отсутствует репертуар и в конечном итоге терминология в образовательном процессе.
Репертуар, Сирия, восприятия, Станиславский, зритель, школа, театр, актер, терминоло- гия, психологический театр
Короткий адрес: https://sciup.org/170211039
IDR: 170211039 | УДК: 7.01 | DOI: 10.34685/HI.2025.70.33.012
Текст научной статьи Значение «репертуара» и «терминологий» в создании национальной театральной школы Сирии
Богатство театрального производства дает театральным деятелям возможности художественного роста, что, конечно, положительно влияет на процесс обучения в театральном институте.
В театральном искусстве все взаимосвязано: наличие богатого репертуара, с одной стороны, развивает зрителя, имеющего возможность смотреть разнообразные спектакли, а с другой — является хорошим стимулом для актера, который после обучения в вузе имеет возможность попасть в театр и работать в уже готовых спектаклях высокого уровня, применяя полученные навыки на практике и набираясь опыта в работе с профессиональными актерами.
В сирийской театральной практике нет репертуара, и театральное управление может представить четыре-семь спектаклей в год и лишь изредка — большее. И количество театров невелико. Например, в Дамаске, столице Сирии, имеется не более пяти театральных зданий. Хотя даже при таком количестве театральных зданий театральная жизнь Дамаска могла быть довольно насыщенной, если в каждом из них был бы постоянный репертуар, который пополнялся новыми спектаклями.
В связи с такой театральной ситуацией, люди, получившие актерское образование вынуждены работать на телевидении или в кино, что в итоге еще более ослабляет театральную жизнь. Более того, многие преподаватели Высшего института театрального искусства в Дамаске являются актерами кино и телевидения и привносят специфику этой работы в театральное образование. То есть в перспективе студенты, обучавшиеся у таких преподавателей, перестают думать о театре, и планируют свою карьеру на телевидении и в кино.
Отсутствие театрального репертуара и переход актеров к работе на телевидении и в кино приводит к тому, что выпускники театрального вуза перестают быть театральными актерами. Ведь, как известно, театральная жизнь требует от актера постоянной работы над собой, а когда нет театра необходимость подобной работы отпадает. Как показывают наблюдения, 90% выпускников прекращают работать над собой после окончания института, т. е не продолжают работать над техникой речи и голосом, движением, внешней и внутренней техникой актера. Некоторые упражнения и этюды выполняются только в процессе работы над спектаклем на репетициях или перед выходом на сцену, что снижает качество актерского мастерства и приводит к ослаблению техники актера. Таким образом, возможность формирования собственной школы уменьшается.
О важности ежедневных упражнений говорил К. С. Станиславский: «Весь вопрос только в ежедневных упражнениях.<> Ваша главная задача — техника и техника. Это очень трудно, но когда вы это познаете, то будет очень легко. Почему трудно? Потому что это требует систематической, ежедневной работы. Каждый день нужно делать упражнения. И не только над словом, но и над всем физическим аппаратом».1
В период с начала восьмидесятых до середины девяностых театральное движение в Сирии было очень мощным: существовали крупные спектакли благодаря Дамасскому театральному фестивалю,2 где представлялись как сирийские, так зарубежные театральные постановки, игравшие важную роль в формировании театральной памяти и дающиее возможность наблюдать опыт других стран. «Репертуар и зритель образуют некое единство, и познавать закономерности формирования репертуара и аудитории следует в совместном их изучении, при этом обязательно вписанном в более широкий социально-куль- турный контекст, ибо и те, кто создает спектакль, и те, для кого он создается, суть порождение некоего культурного пространства».3 В связи с этим развивается и зрительское восприятие, ведь зритель играет важнейшую роль в формировании театрального искусства. Внутренние отношения между зрителями и актерами Ю. А. Кренке объяснял следующим образом: «В театре зритель и актеры как бы условливаются между собой, что они временно, пока идет спектакль, будут к этой условной жизни относится, как к безусловной, обе стороны, знают что это лишь игра, но условно хотят считать ее настоящей жизнью. В силу этого безмолвного соглашения, зрители и актеры хотят относиться к сценической неправде, как к жизненной правде».4 То есть сценическая вера является основой для формирования этих отношений, следовательно создать и сохранить её становится сутью школы переживания.
Театр удовлетворяет социальные потребности человека. По выражению К. С. Станиславского, «театр сильнее книги, прессы, школы; сценическое искусство так ярко, образно и полно раскрывает произведение, что оно становится доступно всем».5 Л. Новицкая отмечает, что «сила театра в том, что он воздействует на зрителя почти всеми существующими видами искусства, соединенными воедино; люди идут в театр развлечься, но незаметно для себя выходят из него обогащенными новыми мыслями, чувствами, новым познанием жизни».6
Таким образом, театр существует в тесном взаимодействии между актером, играющим спектакль, и зрителем, что и является своеобразным двигателем театрального искусства. Зрителей можно разделить на два типа: зритель-любитель, воспринимающий искусство своим природным чутьем и тягой к прекрасному, и зритель-профессионал, который помимо природного чутья владеет также особыми навыками восприятия и оценивания спектакля и знает принципы искусства. Зритель-профессионал обладает «насмо-тренностью», а значит может оценить качество спектакля, что, конечно, влияет на развитие театра в целом.
Половина любого спектакля — это зритель, и генеральная репетиция перед премьерой еще не означает, что спектакль готов полностью, это только его половина. Спектакль обретает завершенность только с присутствием зрителя, и с каждым последующим показом и новым зрителем постоянно развивается и формируется, т. е. отношения между спектаклем и зрителям — как вдох и выдох.
Любовь разных людей к театру является поводом для их собрания в зале, то есть театр имеет объединяющее начало. В Сирии на протяжении довольно долгого времени эта страсть, основанная на эмоциональной коммуникации, была очень сильной, и зрители приходили на спектакли вне зависимости от их качества. Как замечал Станиславский, «количество аплодисментов далеко не всегда находится в прямой зависимости от подлинного успеха».7
Зрительская осведомленность дает необходимый толчок творчеству, так как ее развитие также происходит через искусство. Иными словами, искусство творит, беря за основу реальную жизнь, и соприкасаясь с произведением искусства, зритель воспринимает его, и то, что он видел, влияет на его реальную жизнь, изменяя ее. В театральном искусстве успех взаимодействия между реальной жизнью и творчеством во многом зависит от актера. «Если актеру удается создать глубокий человеческий характер или за внешним поведением зритель почувствует глубокий второй план, то зритель скажет себе “Ага, разгадал его” и вот это разгадывание за внешним поведением того, чем живет актер, есть самое драгоценное в искусстве актера, и именно это “я унесу из театра в жизнь’’».8
Наличие же театрального репертуара способствует росту и накоплению опыта, развивает характер театрального движения в целом. Опыт способствует развитию искусства в целом, что отражается на деятельности режиссеров, актеров и педагогов, которые переносят его на своих студентов.
Укрепление отношение между зрителем и театром, а также воспитание «профессионального» зрителя происходит через регулярный театральный репертуар.
Репертуар помогает сформировать театральную школу, обладающую особым стилем, и открывает горизонты для студента, уверенного, что после окончания учебы он сможет стабильно работать в театре.
В процессе накопления опыта появится наследие, передающееся из поколения в поколение и обрастающее новым опытом, что впоследствии может стать хорошей основой для театральной школы, где сценическая азбука организует в ученике порядок работы над собой, текстом и ролью.
И как подчеркивал Ю. А. Кренке, «сценическое воспитание должно на первых порах быть направлено на следующее:
-
1- развитие художественного вкуса
-
2- чувства художественной правды
-
3- чувства меры
4-искренности и простоты
-
5- сценической убедительности».9
Примечательно, что за все годы работы в театральной сфере не было деятелей, которые смогли бы изучить профессию актера и обобщить свой практический опыт, чтобы сформулировать научную систему для актерской и режиссерской профессии, как это смог сделать Ли Страсберг, отталкивавшийся от системы Станиславского в своем методе работы с актером, в США. Стоит заметить, что Ли Страсберг заимствовал у Станиславского только один элемент — эмоциональную память, на котором и построил все свой метод. Однако сам Станиславский позднее отказался от эмоциональной памяти как отправной точки актерского существования на сцене и в последний период жизни нашел новый прием в работе с актерами, который позже был назван методом физических действий. Физическое действие возбуждает эмоциональную память, которая в данном случае является результатом, а не отправной точкой в работе над ролью, как у Страсберга.
9 Кренке Ю. А. Практический курс воспитание актера. Санкт-Петербург. Лань Лавнета музыки. 2021. С.25–26.
В Сирии же актерское искусство осталось в рамках личных взглядов и опыта каждого актера, на протяжении многих лет понимание и восприятие профессии актера в Сирии прошло через различные этапы, однако с научной точки зрения мастерство актера оставалось неизученным. Следует подчеркнуть, что помимо переводных изданий или сборников исследований зарубежных авторов, где написанное предстает в интерпретации или комментариях переводчика, не существует книг о мастерстве актера, написанных сирийскими авторами. Иными словами, с момента появления на территории Сирии театра европейского типа в 1871 году, до открытия театрального института в 1977 году в театральном творческом сообществе Сирии не было предпринято ни одной серьезной попытки сформулировать накопленный театральный опыт, характеризующий сирийскую театральную школу.
Понятия школы в искусстве, имеет большое значение: «Школа — это категория времени. И категория пространства. Школа — это долго. Сначала она складывается из деталей, крупиц, нюансов, привычек, традиций, запретов... Школа — далеко»10.
Таким образом, более ста лет в театральной жизни Сирии можно было наблюдать лишь отдельные случаи, когда уникальная природа актера, режиссера или драматурга выделяла их на фоне остальных. Многие из этих дарований держали свой «творческий рецепт» в секрете, некоторые пытались передать свой опыт ученикам, но эта передача знаний не сопровождалась научным методом: процесс обучения представлял собой подражание учеником манере своего учителя, поэтому и результатом были готовые рецепты для исполнения художественных шаблонов, таких как трагедия и комедия в соответствии со стилем каждого учителя-актера.
Как известно, у каждого актера свой стиль и свой подход к работе над ролью, каждый актер — это особый случай, что и отличает исполнение одной и той же роли разными актерами. Именно поэтому является ошибкой переносить уникальный стиль одного актера на других, так как в конечном итоге, это приводит к уничтожению актерской индивидуальности во время творческого процесса создания образа. К сожалению, после открытия института можно было наблюдать случаи, когда целый курс играл одним стилем, подражая своему педагогу. Здесь стоит привести слова великого актера, педагога, писателя Вольдемар Пансо: «Если школа — это место, где учащийся должен найти себя, то там должны быть очень умные, тонкие учителя. Иначе можно легко потерять себя и ‘‘найти’’ учителя, то есть стать подражателем. Конечно, отдельные оригинальные самоучки могут возникнуть в фокусе театральной жизни и без всякого специального образования. В театр нередко приходят из самодеятельности люди, наделенные от природы большим талантом. Это всегда было и будет. И очень хорошо. Но это нисколько не нарушает правила, что артисты сегодняшнего и завтрашнего театра вырастают в школе.»11 Конечно, такой подход к преподаванию принципиально отвергается, поскольку противоречит самой идее академического подхода к образованию, где профессия изучается на научной основе. Существует достаточное количество подобных примеров, однако такой подход не достигает целей подлинного театрального искусства.
Чтобы проследить корни этой проблемы, надо вернуться к азбуке профессии, основанной Станиславским. По его выражению, проблема зависит от того, что такие актеры находятся под гипнозом одного образа, и действуют через него и живут одной жизнью с образом, созданным не от себя. Такие актеры пытаются увидеть свой стиль и свою манеру в ученике, так как это сохраняет их баланс с образом, в котором они живут: «Но бывают актеры, для которых ими воображаемый образ становится их alter ego, их двойником, их вторым “я’’. Он неустанно живет с ними, они не расстаются. Актер постоянно смотрит на него, но не для того, чтобы внешне копировать, а потому что находится под его гипнозом, властью и действует так или иначе потому, что живет одной жизнью с образом, созданным вне себя».12
Существование школы имеет большое значение, потому что «задача театральной школы и всякого театрального педагога состоит в рас- крытии и развитии творческой индивидуальности каждого ученика.»13 и отсутствие театральной школы означает отсутствие терминологий в актерском творчестве.
Термин — это одно слово, несущее в себе глубокий смысл, отражающее накопленный опыт, содержащее понимание профессии. Когда актер воспринимает содержание термина через практику, ему достаточно лишь услышать это слово, как в нем начнется целый спектр самых разнообразных процессов, «Особая функция, в которой выступает слово в качестве термина, — это функция названия»14 и не нужны никакие самые сложные объяснения, которые приводят лишь к рассудочности и пассивности. Актер много думает и мало действует, к тому же отсутствие терминологии заставляет преподавателя или режиссера много говорить, объясняя актеру какую-то ситуацию, что соответственно приводит к более активной работе мозга, чем сердца. Актер как будто становится теоретиком. И тут хотелось бы вспомнить слова Ли Страсберга о том, что у актера должно быть горячее сердце и холодная голова.
Отсутствие терминологии в процессе обучения и существование на месте их неполных объяснений растрачивает творческую энергию, которая не попадает в нужное направление даже если это полное и ясное объяснение. Терминология определяет путь работы, и замена общих объяснений терминологией помогает интенсифицировать процесс и облегчить достижение актерских целей, поскольку с помощью терминологии актер гораздо легче управляет своими духовными силами.
Определение терминологии творческого процесса позволит делать более точные шаги с самого начала обучения. Термин — это голова пирамиды, расположенная на масштабном фундаменте, и если на его место поставить описание творческого состояния, то оно не будет направлять актера к процессу творчества, не приведет его к сценической вере, следствием чего становится игра результата или состояния персонажа, а не проживание его.
Возникает важный вопрос: должна ли влиять точность перевода и терминология на восприятием актером своей профессии?
Разумеется, да «изучения театральной терминологии для раскрытия истории национального театра»15 и точность термина имеет большое значение не только в творчестве актера, но и в формировании национальной театральной школы.
В переводе на арабский язык Ш. Шакером книг К. С. Станиславского «Работа актера над собой в творческом процессе переживания/во-площения» переведены как «Подготовка актера в творческом процессе переживания/воплоще-ния». На наш взгляд, между двумя названиями имеется существенная разница: «действенная» «работа над собой» заменена на более пассивную «подготовку». Станиславский неоднократно обращал внимание на лень, как одну из «болезней актера»: «Многие же из теперешних студентов совсем не работают над ролями дома, не готовятся к репетициям; не интересуются материалом, связанным с создаваемым образом, с эпохой произведения. Они считают, раз есть педагог, — он за них подумает, сделает. Борясь с этим, мы, педагоги, заставляем студентов делать на группе доклады об авторе, эпохе; составлять подробные биографии, течение дня каждого действующего лица; искать, кто умеет рисовать эскизы костюмов, причесок.»16 таким образом, профессия актера заключается прежде всего в индивидуальной, личной работе, а не в пассивном положении человека, ожидающего, что кто-то его подготовит. «Надо самим работать, а не рассчитывать на кого-то, не ждать, что с вами кто-то может проделать чудеса»,17 — говорил К.С.Станиславский.
И в этом смысле точность терминологии чрезвычайно важна, так как именно она готовит актера как к первому подходу к профессии, так и в индивидуальной работе. Именно термин с первых мгновений приводит организм актера в движение и наделяет ответственностью, поскольку с ним связано дальнейшее развитие. К. С. Станиславский пишет: «Огромное большинство актеров уверено, что на репетициях надо работать, а дома можно отдыхать».18 Однако на репетициях обычно разбираются действия и ощущения, которые хранятся в эмоциональной памяти, и актер, у которого с помощью точных терминов в душе посеяно зерно роли, продолжает думать о ней не только на репетиции, но и дома, и на улице, и везде, где он находится, чтобы извлечь воспоминания и ощущения из своей души. В процессе репетиций и работы над ролью актер должен накопить опыт, и если актер работает только на репетиции, это значит, что он не понял сути своей профессии, а терминология не находит отражения в его душе.
Термин системы Станиславского «внутреннее сценическое самочувствие» был переведен на арабский язык как «состояние внутренних театральных чувств», а понятие «подсознание в сценическом самочувствии актера» как «подсознание в состоянии театральных чувств». Вообще слово «состояние» довольно часто используется при переводе различных терминов на арабский язык. Однако в случае с профессией актера слово «состояние» может означать статичность, изображение эмоций и вести актера к фокусировке на чувстве, а затем и к игре состояния или его изображению, что в корне противоречит смыслу того театра, о котором говорил Станиславский, где действие является основным элементам.
Богатство арабского языка позволяет перевести данный термин иначе, например, «внутреннее театральное “сценическое’’самочувствие», то есть так же, как он звучит в оригинале, и это не будет противоречить ни смыслу, ни первоначальному виду на русском языке. Невозможно предсказать состояние чувства, но можно определить сценическое действие. Когда актер выполняет определенную сценическую задачу на каждом спектакле, у него могут возникать различные чувства и эмоции. И целью настоящего исследования является показать то, что в основе актерского искусства лежит действие.
Шариф Шакир — лучший переводчик театральной литературы с русского языка на арабский, однако даже в его переводе можно найти неточности, которые не связаны с возможностями арабского языка, одного из самых выразительных языков мира. Неточности, допущенные, Ш. Шакиром скорее можно связать с культурными особенностями, с тем, что при переводе он столкнулся с тем пониманием актерской профессии, которое было до появления книг К .С. Станиславского на арабской почве. На самом деле подобных неточностей не так много.
В действительности же научно доказано, что словарный состав и синтаксис русского и арабского языков достаточно богаты, чтобы иметь возможность довольно точно переводить с одного языка на другой без утраты смысла. Исследования показывают, что любое русское слово или выражение можно объяснить через арабский язык и наоборот. Следовательно, необходимо провести работу и найти точные арабские соответствия для русских театральных терминов, не прячась за трудности перевода, столкновение культур и невозможность выразить те или иные смыслы. Это чрезвычайно важно для будущего сирийской театральной педагогики, так как в театральных терминах, введенных в театральную науку К. С. Станиславским, уже заложено то самое действенное начало, которое дает телу и мышлению актера импульс к действию.
Станиславский видел в искусстве переживания «глубокое и последовательное воплощение принципов сценического реализма. Только такое искусство, утверждал он, выполняет задачу общественного служения, поскольку отвечает всем запросам мысли и сердца человека, является как бы книгой жизни».19
Реализм требует подготовки внутренней техники, но это не означает: что работа в других направлениях должна носить внешний характер: сценическое оправдание, вера должны присутствовать в любом жанре, даже в гротеске, водевиле, комедии дель арте и т. п. Как подчеркивал Станиславский, важность сценической веры в актерском искусстве не зависит от жанра текста, это отличие психологической школы. «Артисты Comedie в ролях Мольера не живые люди, а манекены. Вот почему самый лучший Тартюф, которого я видел, это был наш русский, артист Ленский, он не играл по традициям, а создавал роль и был интересен»,20 — писал режиссер.
Зритель является активным участником театрального процесса, его реакция имеет непосредственное воздействие как на ход спектакля, так и на все театральное движение в целом. И в этом смысле школа психологического театра придает большое значение именно зрительскому восприятию происходящего на сцене, давая актеру инструменты для создания сценической веры, то есть установлению прочного контакта между зрителем и актером, что является важным шагом для создания театрального репертуара. Как подчеркивал актер, педагог и писатель Вольдемар Пансо: «Обновление театра начинается со школы.»21
Психологическая школа отражает глубокое понимание человеческой жизни, и усвоение системы означает принятие огромного количества задач, развивающих видение жизни с точки зрения психологической техники, которой д о лжно стать второй природой актера.