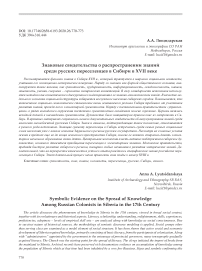Знаковые свидетельства о распространении знаний среди русских переселенцев в Сибири в XVII веке
Автор: Люцидарская А.А.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается феномен знания в Сибири XVII в., который трактуется в широком социальном контексте, учитывая его эволюционно-историческое измерение. Наряду со знанием как формой общественного сознания, анализируются такие явления, как грамотность, эрудированность, информированность, осведомленность, навыки, опытность, умения, сноровка - горизонты эмпирических компетенций. В силу лапидарности источников используется методология семиотического дискурсивного моделирования в ее знаково-симоволическом изводе. В качестве модельного элемента социальной структуры избирается неслужилое население сибирских городов. Показывается, что интенсивное социально-экономическое становление вновь осваиваемого региона Сибири требовало от участников развития знаний, прежде всего элементарной грамотности. Наряду с поставленными правительством «управленцами» в рядах воеводского окружения постепенно грамотностью овладевали многие горожане. Церковь являлась исходной точкой в насаждении грамотности. Духовенство было инициатором привоза книг из метрополии в Сибирь. В архивных материалах сохранилось немало документальных свидетельств об аккумулировании знаний среди населения малообжитой русскими Сибири. Знаки и символы, подтверждающие такое положение, отыскиваются в разного рода источниках. Знающие грамоту переселенцы в Сибирь встречались среди самых разных социальных слоев населения уже с начала освоения Зауральского региона русским государством. Несмотря на сложные условия жизни в пределах еще не до конца освоенного пространства Сибири, многие ее жители старались давать элементарное начальное образование своим детям. Центральная московская власть активно поддерживала сибирское духовенство, основного движителя приобщения переселенцев к элементарным знаниям. Московское правительство, предвидя быстрое развитие сибирского региона, поощряло любые начинания в развитии эмпирических знаний. Делается вывод, что на перекрестке книжности и устного опыта рождалось специфическое знание российских переселенцев в Сибири. Этот длительный процесс начал приносить свои плоды к началу XVIII в.
Грамотность, знак, знание, колонисты, переселенцы, русские, сибирь, символ
Короткий адрес: https://sciup.org/145145145
IDR: 145145145 | УДК: 394+316.444 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.770-773
Текст научной статьи Знаковые свидетельства о распространении знаний среди русских переселенцев в Сибири в XVII веке
Сибирь, начиная с конца XVI и до начала XVIII в. преодолела огромный путь в своем экономическом и политическом устройстве. Трудно представить, что все это совершили безграмотные и лишенные знаний люди. В архивных материалах сохранилось немало документальных свидетельств об аккумулировании знаний среди населения новой, малообжитой русскими Сибири. Знаки и символы, подтверждающие такое положение, можно отыскать в разного рода источниках того далекого периода.
Распространению знаний в первую очередь способствовали книги. Ранние документальные известия о книгах в Сибири находятся исключительно в богослужебной литературе, поскольку это связано со строительством в новых городах и острогах первых церквей, требующих определенного штата церковнослужителей и необходимых для проведения службы книг.
Сибирские церкви снабжались необходимой литературой в централизованном порядке. Сибирский приказ закупал по запросам тобольских архиепископов Евангелия, псалтыри, минеи, октаи певчие, служебники и иные необходимые духовные произведения. Книги, как правило, доставлялись русскими купцами наравне с иными привозимыми в Сибирь товарами. Резиденция тобольского архиепископа, а также крупные монастыри, в т.ч. тобольский Знаменский и томский Алексеевский, являлись основными хранителями и распространителями книг в Сибири [Ромодановская, 1973, с. 9–12, 54–56].
В редких случаях книги имелись у частных лиц. Как правило, это были произведения духовного либо светского содержания и принадлежали высшим слоям сибирского сообщества. Житийная литература играла в этот период роль своеобразной беллетристики и была сравнительно широко распространена среди грамотной части населения.
К концу XVII в. вырос спрос на «учильные» книги. К этому времени Сибирский приказ стал закупать учебную литературу в Москве и отправлять сибирским воеводам для продажи. В самом начале XVIII в. в Верхотурье было отправлено из центра 300 азбук, 100 часословов, 50 псалтырей, предназначенных специально для обучения грамоте. В дальнейшем спрос на «учильную» литературу не уменьшался. Таможенные документы фиксировали привоз товаров из европейской части страны в Сибирь. Так, в 1639–1640 гг. на тобольском рынке было отмечено 173 книги, в этот же период транзит книг из Тобольска в иные сибирские города насчитывал 281 книгу. Это был наиболее «урожайный» год на книжную торговлю. В иное время книги поступали в меньших количествах. Например, в 1668 г. среди тобольских товаров отмечено поступление всего четырех книг [Вилков, 1967, с. 110, 159].
Приводимые цифры не дают реального представления о поставках книг на новую зауральскую территорию, однако русские купцы, зная потребности местных сибирских рынков, несмотря на трудности транспортировки, неизменно брали среди прочих товаров и книги.
Знающие грамоту переселенцы в Сибирь встречались среди самых разных социальных слоев населения уже с начала освоения Зауральского региона русским государством. Свидетельством этому являются «рукоприкладства» (подписи) людей на различного рода документах [Копылов, 1974, с. 44–45].
Высшие слои служилого сословия, дети боярские, среди которых было немало бывших пленных из территорий Западной Европы, преимущественно Польши и Литвы, ставили свои подписи, подчас мешая кириллицу с латиницей. Они же неоднократно подписывались за неграмотных либо малограмотных сослуживцев. Подписи под коллективными челобитными определенным образом свидетельствуют об уровне грамотности. Между тем следует учитывать, что по каким-то не всегда понятным современному исследователю причинам, вместо заведомо грамотных «сотоварищей» расписывались иные лица. Происходило это, без сомнения, по договоренности. Иногда во время подписания бумаги нужного человека не оказывалось на месте, либо включались какие-то иные причины. Подобные примеры встречаются довольно часто.
Несмотря на сложные условия жизни в пределах еще не до конца освоенного пространства Сибири, многие ее жители старались давать эле- ментарное начальное образование своим детям. В первой половине XVII в. тобольский певчий дьяк Борис Матвеев сын Новгородец, получавший жалованье за «иконное и книжное письмо», писал в своей челобитной о том, что велели ему «прибирать в подьяки у служилых и посадских и у всяких чинов людей детей, которые грамоте учены и голосы добры» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ед. хр. 911. Л. 396). Старались обучать грамоте своих детей не только в значимых городах, таких как столичный Тобольск или открытый для посольских приемов Томск, но и в иных сибирских населенных пунктах. Так, в делах северного города Березова сохранились сведения, что вместо неграмотного отца пятидесятника И. Серебрянникова расписывался его сын Митрий. Здесь же, в Березове, ставил подпись за себя и за не знающего грамоту отца Михейка Стульцов. Расписался за своего отца и березовский житель Степан Лихачев (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ед. хр. 1432. Л. 25). Эти факты однозначно свидетельствуют об осознании сибиряками необходимости и практической пользы от знания грамотности.
Среди массы архивных документов, буквально по крупицам, можно отыскать сведения о грамотных сибиряках различных сословий. Если среди высшего слоя служилых людей – детей боярских знание грамоты особенно к концу XVII в. все чаще становится нормой, то тем более примечательна челобитная томского пешего Алексея Логинова сына Казакова, который утверждал, что отец его томский отставной казак «сам писать умел» (РГАДА. Ф. 214. Ед. хр. 1039. Л. 335).
В далекой от центральных городов Сибири Ман-газее, которая притягивала купечество в погоне за пушными богатствами, отмечены данные об обыденном распространении грамотности среди временных и постоянных жителей города. При археологических раскопках найдены надписи на дереве, бересте и коже. В Мангазее и Туруханске обнаружены фрагменты досок с азбукой. В частности, найдена вырезанная на сосновой дощечке, относящейся к первой трети XVII в., долговая расписка на 50 руб. Эта дощечка подтверждает традицию трансляции колонистами новгородских культурных традиций через Русский Север в Западную Сибирь [Вершинин, 2018, с. 321–322].
Если выявленные в источниках XVI–XVIII вв. знаковые подтверждения грамотности требуют кропотливой работы, то знания арифметики и навыков устного счета не нуждаются в особых подтверждениях. Огромные природные пушные богатства Сибири, в первую очередь соболя, манили купцов из многих российских городов. Непрекращающийся спрос на «русские» товары только увеличивал при-772
влекательность подобных путешествий. Бойкая торговля не прекращалась на сибирских рынках, начиная с конца XVI в. Именно торговля стимулировала сибиряков научиться быстро и правильно считать. С развитием товарно-денежных отношений эта тенденция только увеличивалась. Между тем использование навыков устного счета стимулировало развитие мозговой деятельности.
Московское правительство проявляло значительный интерес к природным ресурсам Зауральского региона. Помимо пушнины, именуемой «мягким золотом», в Сибири делались попытки отыскать полезные ископаемые. К этой работе нередко привлекалось автохтонное население края, поскольку аборигены хорошо ориентировались на местности и знали «заповедные» места.
В середине XVII в. томский конный казак К. Терентьев рассказывал в воеводской съезжей избе о возможных залежах медной руды (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 136. Л. 815). В начале 1680-х гг. в Тобольске ссыльный Тимошка Украинец объявил в своей челобитной о залежах селитры и указал точно е место «против Тюменского города» и даже производил определенные опыты с «селитряной землей» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 739. Л. 206). В Нерчинске к началу XVIII в. было организовано «рудоплавильное серебряное дело», о чем свидетельствует источник 1708 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 1454. Л. 2 об.). Кроме того, немало сведений поступало от сибирских жителей о соляных истоках и соляных озерах. Миллер приводит источник 1650 г., который свидетельствует о том, что енисейский посадский человек А. Лаврентьев Свешник в своей челобитной сказал: «...Сыскал де он на Тунгуске в сторонней реке Манзе железную руду и соляные признаки». От московской власти енисейскому воеводе предписывалось выделить посадскому Л. Свешнику землю под «плавильню» и двор и пашню в том месте, где он отыщет железную и «укладную» руду [Миллер, 2005, с. 324–325]. Из этого источника наглядно видно, что московские власти очень внимательно относились к обнаружению полезных ископаемых в Сибири.
Выявленные скупые сведения в источниках XVII в. о наличии грамотных людей среди сибирских горожан, не принадлежащих к служилой «элите», показывают, что таковые имелись и отыскивали возможности давать начальное образование своим детям. Центральная московская власть активно поддерживала сибирское духовенство, основного движителя приобщения переселенцев к элементарным знаниям. Московское правительство, предвидя быстрое развитие сибирского региона, поощряло любые начинания в поисках полезных ископаемых.
Список литературы Знаковые свидетельства о распространении знаний среди русских переселенцев в Сибири в XVII веке
- Вершинин Е.В. Русская колонизация Северо-Западной Сибири в конце XVI - XVII в. - Екатеринбург: Демидовский институт, 2018. - 504 с.
- Вилков О.Н. Ремесло и торговля Западной Сибири в XVII веке. - М.: Наука, 1967. - 198 с.
- Копылов А.Н. Очерки культурной жизни Сибири XVII - начала XIX в. - Новосибирск: Наука, 1974. -221 с.
- Миллер Г.Ф. История Сибири. - М.: Воет. лит., 2005. - Т. 3. - 506 с.
- Ромодановская Е.К. Русская литература в Сибири первой половины XVII в. - Новосибирск: Наука, 1973. -180 с.
- Kopylov A.N. Ocherki kul'tumoy zhizni Sibiri 17 -nachala 19 v. Novosibirsk: Nauka, 1974, 221 p. (In Russ.).
- Miller G.F. Istoriya Sibiri. Moscow: Vostochnaya literatura, 2005, vol. 3, 506 p. (In Russ.).
- Romodanovskaya E.K. Russkaya literatura v Sibiri pervoi poloviny 17 v. Novosibirsk: Nauka, 1973, 180 p. (In Russ.).
- Vershinin E.V. Russkaya kolonizatsiya Severo-Zapadnoi Sibiri. Yekaterinburg: Demidovskii institute, 2018, 504 p. (In Russ.).
- Vilkov O.N. Remeslo i torgovlya Zapadnoi Sibiri. Moscow: Nauka, 1967, 198 p. (In Russ.).