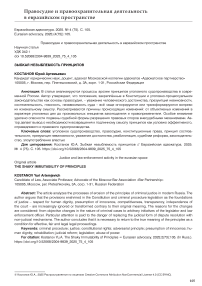Зыбкая незыблемость принципов
Автор: Костанов Ю.А.
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Правосудие и правоохранительная деятельность в Евразийском пространстве
Статья в выпуске: 4 (75), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются процессы эрозии принципов уголовного судопроизводства в современной России. Автор утверждает, что положения, закреплённые в Конституции и уголовно-процессуальном законодательстве как основы правосудия, – уважение человеческого достоинства, презумпция невиновности, состязательность, гласность, независимость суда – всё чаще игнорируются или трансформируются вопреки их изначальному смыслу. Рассматриваются причины происходящих изменений: от объективных изменений в характере уголовных дел до произвольных инициатив законодателя и правоприменителя. Особое внимание уделено опасности подмены судебной формы разрешения правовых споров внесудебными механизмами. Автор делает вывод о необходимости возвращения к подлинному смыслу принципов как условию эффективного, справедливого и правового судопроизводства.
Уголовное судопроизводство, правосудие, конституционные права, принцип состязательности, презумпция невиновности, уважение достоинства, реабилитация, судебная реформа, законодательство, злоупотребление властью
Короткий адрес: https://sciup.org/140312455
IDR: 140312455 | УДК: 342.1 | DOI: 10.52068/2304-9839_2025_75_4_105
Текст научной статьи Зыбкая незыблемость принципов
Принципами уголовного судопроизводства называют исходные, основные положения, определяющие построение уголовного судопроизводства, всех его стадий, институтов, отдельных процедур (форм), направленные на достижение обозначенных в законе целей правосудия.
Система этих принципов образует фундамент, на котором строится всё здание правосудия. Принципы, которые перечислены в главе второй УПК РФ, не плод досужих размышлений. Они необходимое условие реализации избранных законодателем целей правосудия. Поскольку законодатель преследует цель обеспечить справедливое разрешение возникающих в обществе конфликтов, он объективно вынужден создать для этого систему независимых судов, в которых наделённые равными правами стороны при обеспечении обвиняемому возможности защищаться от предъявленного обвинения и при условии свободной оценки судом предъявленных сторонами доказательств могут добиться справедливого решения. Причём главным и всеобъемлющим принципом деятельности судов и обеспечивающих правосудие государственных структур должно быть конституционное положение об уважении чести и достоинства человека. Иных способов достижения целей справедливого правосудия не существует. К чему приводит отступление от этих принципов, показала печальная практика советских судов и квазисудебных репрессивных органов в не очень отдалённый период истории.
Набор принципов правосудия не остаётся неизменным. Под давлением меняющихся условий существования общества меняются также качественные и количественные характеристики конфликтных ситуаций, для разрешения которых существует правосудие. Усложнение общественных отношений, повлекшее усложнение и значительное увеличение количества большеобъёмных, до нескольких десятков, а то и нескольких сотен томов уголовных дел с более чем десятью обвиняемыми, не могло не привести к изменению некоторых фундаментальных правил судопроизводства. Дела эти расследовались по несколько лет. Соответственно, усложнялась и возрастала количественно работа следователей, прокуроров и судов. Законодатель, правоохранительные структуры и судебная система отреагировали на эти негативные процессы прежде всего упрощением судопроизводства и ужесточением мер от-
Тем, кто любит сосиски и уважает законы, лучше не видеть, как делается то и другое. (афоризм, приписываемый Отто фон Бисмарку)
ветственности. Сперва рухнули бастионы принципа непрерывности судебного разбирательства по уголовным делам. Рассмотрение уголовных дел об особо крупных хищениях госимущества, должностных и хозяйственных преступлениях затягивалось из-за необходимости повторного вызова свидетелей ввиду их неявки, производства судебно-бухгалтерских экспертиз, из-за болезни участников процесса и по иным причинам, что неминуемо влекло перерывы в судебном разбирательстве, во время которых судья был не вправе рассматривать никакое другое дело. Руководство страны сочло необходимым занять время вынужденных каникул судьи, обязав судей во время перерыва в рассмотрении одного уголовного дела рассмотреть одно–два других дела. В конце концов мы получили то, что имеем сейчас: рассмотрение уголовных дел происходит чересполосицей мелкими порциями по чайной ложке раз в неделю. То, что при таком способе в течение недели судья параллельно рассматривает сразу несколько дел и у него в сознании впечатления от разных дел накладываются одно на другое, никого не волнует.
Под ударами зарождавшейся рыночной экономики обрушился принцип коллегиальности судопроизводства. Большинство ныне практикующих юристов могут судить об этом только по описаниям судебных процессов в литературе, в том числе учебной, и по воспоминаниям юристов старшего поколения. Советские суды все без исключения уголовные и гражданские дела рассматривали по первой инстанции только в составе председательствующего судьи и двух народных заседателей, избираемых в коллективах предприятий и учреждений. Единолично судьи могли рассматривать только дела об административных правонарушениях (мелкое хулиганство, мелкая спекуляция). Уголовные и гражданские дела во второй инстанции рассматривались коллегиями из трёх судей краевых, областных и к ним приравненных судов. В начале 90-х производственные коллективы перестали избирать из своей среды народных заседателей. Вместо заседателей в суды направляли протоколы собраний с отказами отвлекать своих сотрудников от работы с сохранением среднего заработка. Партийные и профсоюзные органы, которые могли бы как раньше апеллировать к классовому сознанию и партийной дисциплине, уже никто и слушать не стал. Правосудие остановилось. После нескольких лет неразберихи и использования паллиативных мер вроде привлечения в суды в качестве народных заседателей пенсионеров, уборщиц и других технических работников домоуправлений в процессуальные кодексы были включены нормы о единоличном рассмотрении судьями уголовных и гражданских дел.
Потом под раздачу попал принцип гласности уголовного судопроизводства. Верховным Судом России в Госдуму был внесён проект поправок в УПК, в соответствии с которыми председательствующий должен оглашать не весь приговор, а только вводную и резолютивную его части. Поправки вынужденные и потому необходимые. Приговоры теперь бывают объёмные, до нескольких десятков, а то и сотен листов. Пожалеем судей – нельзя заставлять их стоя читать вслух этот громоздкий текст. В первоначальном варианте законопроекта заверенную копию полного текста приговора предлагалось вручать сторонам в течение месяца после оглашения резолютивной части. По настоянию юридической общественности в законопроект Верховным Судом была включена «поправка к поправке»: предлагалось вручать копию приговора не через месяц, а сразу после оглашения резолютивной части. Технически это возможно – приговоры уже давно изготавливаются на компьютере и печатаются на принтере, а не пишутся от руки. В декабре 2022 года закон был принят, но «поправка к поправке» туда включена не была! Теперь в соответствии со ст. 312 УПК РФ копию приговора должны вручать сторонам через пять дней после его оглашения. Законодатель не смог полностью игнорировать общественное мнение, но сделал это «в щадящем режиме». Явная попытка реанимировать советскую концепцию гласности судопроизводства как инструмента воспитания несознательных обывателей: главное – показать подданным (которых для маскировки называют гражданами), как их в случае несогласия с властями будут наказывать, потому и решено ограничиться оглашением резолютивной части приговора. А мотивировочную часть, отвечающую на вопросы за что и почему наказывают обвиняемого, оглашать не требуется – только сторонам покажут, причём через неделю. Такой порядок давно существует в гражданском процессе. Мотивировочная часть решения вручается сторонам значительно позже, сплошь и рядом за рамками месячного срока. Наивно думать, что с мотивировочной частью приговоров будет иначе. Только в самые последние годы советской власти наметился поворот к пониманию гласно- сти судопроизводства как средства общественного контроля за осуществлением правосудия. Вручение заверенной копии полного текста приговора сразу по оглашении его резолютивной части – это фактически единственный способ убедиться в том, что приговор был составлен в совещательной комнате и не подвергался редактированию кем-либо, кроме самого судьи.
В статье 9 УПК РФ к принципам уголовного судопроизводства отнесено уважение чести и достоинства человека. Это положение по своему значению существенно выше других норм процессуального законодательства, поскольку оно повторяет конституционную норму, определяющую суть отношений гражданина и государства, приоритет интересов личности человека по сравнению с так называемыми государственными интересами. Привлечение к уголовной ответственности, сопряженное с применением процессуальных мер, ограничивающих некоторые права и свободы, при соблюдении установленных законом оснований и порядка может быть признано правомерным потому, что в соответствии с положениями части третьей статьи 55 Конституции Российской Федерации «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Умаление достоинства объективно присуще признанию человека виновным в преступлении или ином порочащем его поступке и является неизбежным условием реализации целей «восстановления социальной справедливости, а также ...исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений» (ч. 3 ст. 43 УК РФ). Указанные цели не всегда могут быть реально достигнуты, что не освобождает правоприменителей от обязанности этими целями руководствоваться.
Положения, направленные на защиту достоинства личности, содержатся не только в статье 9 Кодекса. Требованием уважения достоинства человека проникнуты нормы о праве обвиняемого на защиту, о равноправии сторон, о презумпции невиновности, о неприкосновенности личности и неприкосновенности жилища, о соблюдении личной и семейной тайны, о тайне переписки, телефонных и иных коммуникаций. Эти положения включены также и в статьи УПК, регулирующие порядок производства отдельных процессуальных действий. Например, запрет на производство следственных действий в ночное время, кроме случаев производства таких действий ввиду не терпящих отлагательства исключительных обстоятельств, запрет следователю и суду назначать защитника при неявке избранного самим обвиняемым защитника до истечения пятидневного срока и т. п. Между тем большинство следователей, прокуроров и судей относятся к этим нормам как к имитационно-демагогическому юри-дированию, необязательному для исполнения, как к известному с незапамятных времён голому праву – jus nuduum нижегородского разлива. Необходимо, чтобы меры, ограничивающие права, свободы и законные интересы человека, применялись только на основании судебного решения, в установленном законом порядке и соразмерно содеянному.
Умаление достоинства, имманентно присущее наказанию и иным принудительным мерам, должно быть жёстко ограничено рамками закона. Достоинство человека власть обязана уважать всегда. За пределами, установленными законом, по которому человек осуждён, его достоинство должно оставаться непоколебимым. К сожалению, это конституционное требование соблюдается далеко не всегда.
И речь здесь не о пытках и откровенном издевательстве (особенно в местах лишения свободы осуждённых, местах принудительного содержания задержанных и арестованных) – такие действия не имеют никакого отношения к правосудию: процесс доказывания не нуждается в применении пыток, с их помощью невозможно получить достоверные показания, под пытками человек может признаться в чем угодно и оклеветать кого угодно; пытками невозможно достичь указанных в статье 43 УК РФ целей наказания; единственная цель применения пыток – получение мучителем садистского удовольствия от страданий человека. Речь о том, что отношение законодателей и правоприменителей к подвергнутым наказанию людям фактически строится на началах подавления личности, полярно противоположных какому бы то ни было уважению личности. Постоянное попрание прав осуждённых, лишение их нормального медико-санитарного обслуживания, неоправданно частое и неоправданно длительное водворение в ШИЗО и ПКТ, несоразмерные дисциплинарные взыскания (и, соответственно, отказы в УДО), требование беспрекословного послушания даже в мелочах, не требующих реагирования администрации «исправительного» учреждения, – это вовсе не выдумки правозащитников, а повседневная и по- всеместная практика российской пенитенциарной системы.
Запрет на совершение действий и принятие решений, умаляющих достоинство участников судопроизводства, содержащийся в части первой статьи 21 Конституции, продублированный в части первой статьи 9 УПК РФ, однако не является абсолютным. Признание человека виновным в совершении преступления и даже ещё только обвинение его в этом, применение мер пресечения, связанных с ограничением свободы, применение иных мер, связанных с нарушением неприкосновенности жилища, нарушением тайны коммуникации, осуждение за совершённое преступление порочат человека и бесспорно умаляют его достоинство, иначе наличие реабилитационных норм и предъявление репутационных исков стало бы бессмысленным.
Часть вторая статьи 21 Конституции определяет рамки ограничения достоинства человека: «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам». Спору нет, подвергать человека таким издевательствам нельзя ни при каких условиях. Однако такой слишком краткий перечень недопустимых действий может породить у правоприменителей неосновательное представление о допустимости других, не таких одиозных нарушений прав подозреваемых, обвиняемых и свидетелей.
Уважение личности человека означает прежде всего признание его прав и, по возможности, содействование или, как минимум, непрепят-ствование их реализации независимо от возраста, пола, рода занятий, расовой и национальной принадлежности, языка, образования, политических взглядов и эстетических пристрастий. Участники судопроизводства должны уважительно относиться друг к другу потому, что только такие взаимоотношения могут обеспечить эффективное (т. е. правильное, скорое и с наименьшими затратами сил и средств) достижение желаемого результата.
Уважительное отношение – это заранее установленное отношение к человеку как к равному (либо даже как к стоящему выше на социальной лестнице). К сожалению, такое отношение людей, наделённых властью, к остальному человечеству не характерно для нашего сохраняющего ордын-ные черты государства. Необоснованное, незаконное и несправедливое осуждение может быть порождено общей неграмотностью или правовым невежеством, профессиональной неопытностью или недомыслием правоприменителей. Но чаще всего ошибки в применении законов в ходе расследования или судебного рассмотрения уголовных дел допускаются при разрешении настолько простых правовых ситуаций, что это заставляет думать о грубой небрежности или даже о вредоносном умысле следователей и судей, проистекающих из отношения «правоохранителей» (полицейских и следователей, прокуроров и судей) к обвиняемым и потерпевшим, свидетелям и даже адвокатам не как к равноправным участникам судопроизводства, а как к объектам своей многотрудной деятельности, не наделённым правами, но обязанным безропотно подчиняться каждому требованию любого представителя власти.
Априорный характер уважительного отношения к человеку должен предопределять оценку его заявлений, жалоб, ходатайств и требований как обоснованных и достоверных, если они не опровергнуты в определённом законом порядке.
Уважение к участникам процесса требует, чтобы каждое обращение к следователю или суду обвиняемого, защитника и других участников судопроизводства, не наделённых властными полномочиями, но наделённых, тем не менее, правом на получение адекватного ответа на своё обращение, было рассмотрено и чтобы на каждое обращение им был дан мотивированный ответ. Заявитель не может требовать, чтобы его заявления, ходатайства и жалобы непременно были удовлетворены. Но заявитель вправе требовать, чтобы каждый довод его обращения был рассмотрен и чтобы в случае отказа в удовлетворении его обращения ему было об этом сообщено с приведением мотивов, по которым каждый из его доводов был признан несостоятельным либо не заслуживающим внимания.
Требование мотивированности процессуальных действий и решений предусмотрено ст. 7 УПК РФ. Несоблюдение этого требования делает принятое решение незаконным.
Двадцать лет тому назад Конституционный Суд РФ по рассмотрении моих обращений высказал вполне здравую позицию, согласно которой суды (по содержанию определений видно, что имеются в виду не только суды, но и любые другие правоприменители), отказывая в удовлетворении жалоб, ходатайств и иных обращений, обязаны приводить в соответствующих процессуальных документах мотивы, по которым каждый довод жалобы, иного обращения признан несостоятельным либо не заслуживающим внимания (определения КС РФ от 08.07.2004 № 237-О и от
25.01.2005 № 42-О) [1, 2]. К сожалению, эта позиция была правоприменителями воспринята без энтузиазма, о чём свидетельствует то, что Конституционный Суд оказался вынужден неоднократно возвращаться к этому вопросу, последний раз в 2025 году (определение от 28.01.2025 № 39-О) [3], к тому же сославшись в определении на несколько ранее вынесенных определений: «Названные нормы, как и часть первая статьи 401.11 УПК РФ – согласно п. 5 которой решение судьи должно содержать мотивы, по которым отказано в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, – не допускают отказ суда от рассмотрения и оценки всех доводов обращения, от мотивировки своих решений путем указания на конкретные, достаточные, с точки зрения принципа разумности, основания, по которым эти доводы отвергаются» (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 25 июня 2019 года № 1800-О, от 26 марта 2020 года № 774-О, от 27 июня 2023 года № 1723-О и др.) [4, 5, 6].
Одним из показателей действительного отношения общества и государства к достоинству личности является эффективность мер по восстановлению прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда, т. е. мер по реабилитации людей, необоснованно и незаконно подозреваемых либо обвинённых в совершении преступления.
Уже в статье 5 УПК РФ, содержащей перечень основных понятий, используемых в Кодексе, и тем самым задающей тон для расшифровки смысла остальных его статей, указано: «Реабилитированный – лицо, имеющее в соответствии с настоящим Кодексом право на возмещение вреда, причиненного ему в связи с незаконным или необоснованным уголовным преследованием» (п. 35 ст. 5 УПК РФ). То есть прямым текстом законодатель заявляет, что человек, невиновно подвергнутый уголовному преследованию, может рассчитывать на возмещение вреда, причинённого ему в результате произвола и беззакония государственных органов и их должностных лиц, только если таким правом он наделён «в соответствии с настоящим Кодексом». Это «основное понятие» раскрыто в статьях главы XVIII УПК РФ, в соответствии с которыми весь механизм реабилитации включается не с момента признания подозреваемого или обвиняемого невиновным в совершении преступления, а с момента, когда «суд в приговоре, определении, постановлении, а следователь, дознаватель в постановлении признают за оправданным либо лицом, в отношении которого прекращено уголовное преследование, право на реабилитацию» (ч. 1 ст. 134 УПК РФ). Эта формулировка порождает у правоприменителей убеждённость в том, что признание права на реабилитацию незаконно привлекавшегося к уголовной ответственности человека зависит от их усмотрения. Очевидно, что такое понимание закона противоречит нормам, образующим комплекс прав человека и гражданина, в совокупности с обязательностью оправдательных приговоров и иных процессуальных решений о признании обвиняемого (подозреваемого) невиновным в совершении преступления. Из этих законоположений с очевидностью следует, что право на реабилитацию возникает с момента вступления в силу оправдательного приговора или соответствующего постановления следователя независимо от указания в приговоре или постановлении о признании такого права у оправданного или лица, в отношении которого вынесено постановление о прекращении уголовного преследования. Обвиняемый приобретает статус реабилитированного потому, что он оправдан либо уголовное преследование в отношении него прекращено по реабилитирующим основаниям, а не потому, что суд или следователь соизволили признать его таковым. Восстановление имущественных и неимущественных прав, нарушенных незаконным уголовным преследованием, возмещение вреда (в том числе морального), причинённого незаконным уголовным преследованием, составляет обязанность причинителя вреда. Уголовное преследование осуществляется государством в лице уполномоченных им органов и должностных лиц, действующих имением государства (именем закона), поэтому обязанности по возмещению ущерба, причинённого гражданину незаконным уголовным преследованием, государство приняло на себя. На практике меры по выполнению этой государственной обязанности принимаются каждый раз по инициативе самого реабилитированного, как правило, при более или менее активном сопротивлении судов и чиновников министерства финансов. Для получения причитающихся им денежных средств реабилитированным практически всегда приходится обращаться в суд с соответствующим иском. Суды чаще всего занижают подлежащие взысканию в пользу реабилитированных суммы, выдвигают завышенные (а нередко невыполнимые) требования к обоснованности исков. При рассмотрении реабилитационных исков суды часто отказываются признавать общеизвестные факты, не требующие доказательств. По действующему закону каждый участник процесса обязан доказать обоснованность своих требований. Подтвердить доказательствами величину ущерба, причинённого, например, незаконным изъятием имущества, обычно большого труда не составляет. Но чем подтвердить степень страданий и переживаний от незаконного содержания под стражей, от ограничений общения с родственниками и, наоборот, от навязанного круга общения с другими находящимися в исправительной колонии лицами? Или от невозможности выбирать по своему желанию род занятий? От ограничения права свободного передвижения? От ощущения униженности и обиды, вызванных необоснованным и несправедливым обвинением в преступлении, которого не совершал?
Хуже того, получение денежных сумм в порядке компенсации морального вреда может быть признано неосновательным по усмотрению чиновников. Такой подход к определению размера морального вреда был проявлен в декабре 2024 года Министерством финансов и Верховным Судом РФ по гражданскому делу о взыскании в пользу реабилитированного К-ва полутора миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, причинённого необоснованным уголовным преследованием. Министерство финансов РФ сочло судебные решения о взыскании этой суммы необоснованными и обжаловало их в Верховный Суд, который отменил решения нижестоящих судов, повторив в определении доводы Минфина в качестве обоснования принятого им решения, указав, что «обязанность по соблюдению предусмотренных законом требований разумности, справедливости и соразмерности компенсации морального вреда должна обеспечить баланс частных и публичных интересов, с тем чтобы реабилитированному лицу максимально возмещался причинённый моральный вред и чтобы выплата компенсации морального вреда одним категориям граждан не нарушала права других категорий граждан, не допускала неосновательного обогащения «потерпевшего» (определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 09.12.2024 № 45-ГК24-33-К7) [7]. Фискальный интерес государства камуфлируется здесь показной заботой о налогоплательщиках, что фактически перекладывает на них обязанность государства возместить ущерб, причинённый правоохранителями (т. е. его, государства, сотрудниками и его именем). Попутно получение реабилитированным этих сумм приравнивается к неосновательному обогащению, при этом игнорируется то обстоятельство, что обогащение – это прирост материальных ценностей, увеличение фондов, а компенсация ущерба – это передача потерпевшему имущества (причём не всегда равноценного) взамен ранее утраченного, погашение убытков, восполнение недостачи.
Остаётся добавить, что вся эта эпопея длилась девять лет и стараниями Верховного Суда и Минфина будет продолжена.
Гораздо более логичным представляется возмещение государству убытков, возникающих в результате компенсационных выплат реабилитированным, не за счёт уменьшения им этих выплат, а за счёт взыскания в порядке регресса с должностных лиц, виновных в незаконном привлечении граждан к уголовной ответственности. Однако от внесения предложений о предъявлении таких регрессных исков следует воздержаться, поскольку это скорее всего приведёт к окончательному исчезновению оправдательных приговоров и случаев прекращения уголовных дел по реабилитирующим основаниям. Ибо такие приговоры и такое прекращение уголовных дел – это показатель брака в работе следователей и дознавателей, а как в России привыкли бороться за показатели, известно.
Уважение к человеку начинается с отношения к каждому как к ни в чём невиновному с момента рождения. Виновным человека закон позволяет признать, только когда и если будут получены доказательства совершения им противоправного деяния, именно противоправного, а не неправомерного, ибо речь может идти только о деянии, запрещённом законом, а не о деянии, всего лишь не предписанном, – ибо разрешено всё, что не запрещено. Причём вывод о виновности должен быть сделан судом в определённом законом порядке, обеспечивающем достоверность этого вывода. Изначальный подход к человеку как не совершавшему никаких предосудительных поступков – это и есть презумпция невиновности, которая в силу статьи 49 Конституции Российской Федерации является обязательным требованием при отправлении правосудия. Эта конституционная норма продублирована в статье 14 УПК РФ и включена в число принципов уголовного судопроизводства. Однако презумпция невиновности, по-видимому, не относится к числу глубинных предпочтений законодателей: пунктом 5 части первой статьи 73 УПК РФ предусмотрено, что «при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию… обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния». На порочность этой формулировки обращал внимание профессор С.А. Пашин ещё на стадии обсуждения проекта УПК, но услышан не был. Между тем в силу презумпции невиновности наличие таких обстоятельств должно презюмироваться изначально, а усилия обвинительной власти (и суда в случае вынесения обвинительного приговора) должны быть направлены на доказывание отсутствия таких обстоятельств. Нельзя признавать человека виновным, не опровергнув наличия обстоятельств, свидетельствующих о его невиновности, независимо от того, признаёт он сам себя виновным или нет. Таким образом, усилия обвинительной власти: органов дознания, следствия и гособвинения – должны быть направлены на установление всех обстоятельств дела, включая как обстоятельства обвинительного характера, так и свидетельствующие в пользу обвиняемого, недопустимо игнорировать ни те, ни другие. Только по исчерпании возможности получения новых доказательств можно решать вопрос о виновности того или иного лица.
В соответствии с частью третьей статьи 123 Конституции РФ правосудие в России должно осуществляться на началах состязательности и равноправия сторон. Если в отношении гласности в известных случаях допускаются исключения, то состязательным судопроизводство должно быть всегда.
Состязательность предполагает наличие трёх элементов: обвинение, защита и суд. Спор равноправных сторон перед независимым, беспристрастным и объективным судом – это и есть состязательное правосудие.
Традиционно считается, что состязательность на досудебных стадиях процесса носит ограниченный характер. Однако из конституционных положений это вовсе не следует: в части второй статьи 123 Конституции речь идёт о правосудии, однако при этом стадии судопроизводства не упоминаются. В соответствии с частью 2 статьи 6.1 УПК РФ уголовное судопроизводство включает в себя период с момента начала уголовного преследования и до момента прекращения уголовного дела или вынесения обвинительного приговора. Таким образом, под судопроизводством понимается всё производство по делу, а не только судебное разбирательство. Конституция не ограничивает действие этого принципа только рамками представления и оценки доказательств. Фактически же состязательность, вопреки Конституции, носит ограниченный характер, как на предварительном следствии, так и в судебном разбирательстве. Но порочная практика не отменяет Конституции. Необъективность и пристрастность следователя и суда превращает правосудие в его противоположность – в произвол власти.
Тем не менее разумных оснований неравенства прав обвинения и защиты на досудебных стадиях судопроизводства не существует, за исключением совершения действий, связанных с применением принудительных мер, требующих наличия властных полномочий. Нет препятствий для обеспечения равенства прав сторон при собирании и представлении доказательств. Ничто не мешает уравнять процессуальный статус адвокатского опроса и допроса, проведенного следователем или дознавателем, признавать доказательственное значение заключения приглашённого защитником специалиста, составленного защитником документа, фиксирующего результаты осмотра. На предварительном следствии защитником вправе быть только адвокат. Даже если не вспоминать о том, что значительная часть адвокатов до получения адвокатского статуса работали дознавателями, следователями и прокурорами, кто сегодня может утверждать, что средний адвокат не в состоянии допрашивать свидетелей и ставить вопросы перед экспертами или производить осмотры? Мои оппоненты сразу же возразят: следственные действия производятся должностными лицами, наделёнными соответствующими полномочиями, у свидетелей и экспертов отбирается подписка о том, что им объявлено об ответственности за отказ от дачи показаний и дачу ложного заключения.
Однако, во-первых, доказательственное значение показаний и заключений, их достоверность не зависят от процессуального статуса допрашивающего или лица, формулирующего вопросы эксперту. Во-вторых, пресловутой «подписке» неосновательно придаётся какое-то сакральное значение. Следователь или судья – не священнослужитель, перед которым клянутся говорить правду, положив руку на Библию или Коран. «Подписка» по своему буквальному содержанию не может заменить собой присяги свидетеля по той простой причине, что она не является обещанием свидетеля говорить следователю или суду «правду, одну только правду и ничего кроме правды», как это, по слухам, практикуется в некоторых англоязычных странах. Свидетель или эксперт ставят свою подпись под записью о том, что и объявлено о наличии уголовной ответственности за ложь. Никаких обязательств говорить правду он на себя не принимает и никому не обещает не лгать перед следователем и судом, да у него таких обещаний никто и не просит. «Подписка» это не клятва и не присяга, она никого ни к чему не обязывает. Никто никогда не доказал, что внятно и доходчиво разъяснить 112
содержание законодательного запрета на ложь в состоянии только следователь или суд.
Обвинение и защита по действующему законодательству изначально не равноправны. Право представлять доказательства было у защиты и раньше – в части второй статьи 51 УПК РСФСР среди прочих прав защитника упоминалось и право представлять доказательства. Беда в том, что и раньше, и теперь любые документы и материалы, которые защитник посчитает нужным представить следователю или суду, сами по себе еще не доказательства. Стать доказательствами они могли тогда (и могут теперь), только если следователь или суд сочтут необходимым признать их таковыми и приобщить к делу.
В УПК РСФСР была норма, предусматривавшая обязанность следователя и суда удовлетворять те ходатайства защиты, которые имеют значение для дела. Решение вопроса о том, имеет тот или иной вопрос, то или иное обстоятельство значение для дела, было отнесено к компетенции следователя и суда. При этом судья при назначении дела к слушанию во всяком случае обязан был удовлетворить ходатайства, направленные на получение новых доказательств. УПК РФ, по существу, продублировал это положение в части второй статьи 159, согласно которой «подозреваемому или обвиняемому, их защитникам, а также потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям не может быть отказано в допросе свидетелей, производстве судебной экспертизы и других следственных действий, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела». Так же, как и раньше, решение вопроса о том, имеет то или иное обстоятельство значение для дела, от заявившего ходатайство подсудимого и его защитника (либо другого участника процесса) фактически не зависит.
На практике это положение приводит к произвольному отклонению следователями ходатайств защиты о представлении доказательств. Столь же односторонними, как правило, бывают и суды.
Необоснованное отклонение ходатайств, направленных на получение доказательств, уничтожает право обвиняемого и его защитника представлять доказательства, поскольку представлять доказательства иначе, чем ходатайствуя об этом перед следователем либо судом, ни обвиняемый, ни защитник не могут. Да, защитник по УПК РФ наделён правом опрашивать людей (как это надлежит делать, ни в одном законе не написано) и собирать доказательства иным образом. Однако правила этого «собирательства» не регламентированы, и не изменилось главное: решение о признании собранных защитником сведений доказательствами принимает следователь (либо – на судебных стадиях процесса – суд с учётом мнения других участников, прежде всего обвинения). «Опрошенные» защитником люди станут свидетелями только после того, как следователь или суд соизволят удовлетворить соответствующее ходатайство защитника.
В случаях, когда человек, о допросе которого ходатайствует защита, уже находится в здании суда, суд обязан его допросить. Но явке в суд предшествует официальный вызов, ведь далеко не всегда человек согласится прибыть в суд по просьбе адвоката, а повестку суд выдаст, лишь если удовлетворит ходатайство о допросе. В ряде случаев человек, даже страстно желающий прибыть в суд и дать показания, не может этого сделать (военнослужащий, к примеру, не может покинуть пределы воинской части по собственному желанию; без соответствующего судебного решения никто не доставит в суд свидетеля, содержащегося под стражей, и т. п.). В то же время свидетелей, названных обвинением, вызывают в суд без каких-либо ходатайств – список лиц, подлежащих, по мнению прокурора, вызову в судебное заседание, прилагается к обвинительному заключению. В итоге материалы, представленные обвинением, изначально являются доказательствами, а признание доказательствами материалов, представленных защитой, производится либо противоположной стороной (на следствии), либо в результате обсуждения ходатайства об этом с учётом мнения противоположной стороны. Но разве так должно выглядеть равноправие сторон – основа основ состязательного судопроизводства?
В соответствии с частью первой статьи 248 УПК РФ защитник подсудимого вообще права представлять доказательства в судебном разбирательстве лишён и может лишь принимать участие в исследовании доказательств, представленных другими участниками разбирательства. В то же время государственный обвинитель вправе не только исследовать, но и представлять суду доказательства (ч. 5 ст. 246 УПК РФ). Такое положение с очевидностью противоречит конституционному принципу состязательности судопроизводства и равноправия сторон.
Статья 15 УПК РФ, посвященная состязательности судопроизводства, объединяет несколько норм. Такое объединение их в одной статье и под одним названием «состязательность сторон» позволяет утверждать: законодатель считает, что состязательность заключается не только в равноправии сторон перед судом и в выделении особой роли суда, как органа, стоящего как бы «над» спором сторон (если здесь вообще применимы понятия пространственного порядка «над», «под» etc.). Законодатель идет дальше и включает в понятие состязательности разделение процессуальных функций и невозможность совмещения их исполнения путем возложения разных функций на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо.
Очевидно, что составители и разработчики УПК РФ попытались пойти дальше Конституции Российской Федерации, в пункте 3 статьи 123 которой и закреплен принцип состязательности судопроизводства: из определения состязательности в Конституции не следует с необходимостью, что процессуальные функции должны быть отделены настолько, что на один орган либо одно должностное лицо можно возложить исполнение только одной функции. До сих пор такой стерильности никому добиться не удалось (а вопрос о необходимости разделения функций поднимался уже лет тридцать назад). Не удалось это и авторам УПК РФ, причем даже по отношению к суду: суд избирает меру пресечения в виде заключения под стражу, суд санкционирует обыски и проникновение в жилище, в иных случаях, в апелляционном и кассационном порядке возможна отмена приговоров за мягкостью (а в апелляционном порядке – непосредственное ухудшение положения осужденного без возвращения дела в суд первой инстанции) – эти действия содержат существенные элементы уголовного преследования. Между тем именно возложение на суд какой-либо иной функции, кроме функции разрешения дела, наиболее опасно, ибо не оставляет камня на камне от судейской объективности и беспристрастности: принятие судьёй решения по этим вопросам не является основанием для его отвода по тому же делу. Судья, принимая решения о заключении обвиняемого под стражу, о домашнем аресте или о разрешении обыска, обязан убедиться в наличии достаточных оснований для применения таких мер, и либо судейское убеждение не позволяет ему быть объективным и беспристрастным, либо судья относится к принятию таких решений формально, соглашаясь с соответствующим ходатайством следователя. Почти полное отсутствие отказа судей в удовлетворении ходатайств следователей об арестах и обысках достаточно красноречиво.
Функция разрешения дела, законом возложенная якобы только на суд, выполняется (и нередко)
также и органами дознания и предварительного следствия, ибо разрешение дела по существу возможно не только вынесением приговора суда, но и прекращением его по указанным в законе основаниям. При этом, если дело прекращается не по реабилитирующим основаниям, в соответствующем постановлении содержится вывод о виновности лица в инкриминированном преступлении. Практикой признаётся преюдициальное значение постановлений о прекращении уголовного дела – как при рассмотрении уголовных и гражданских дел (хотя процессуальное законодательство – статья 90 УПК РФ и часть четвертая статьи 61 ГПК РФ – признают такое значение только за вступившим в законную силу приговором), так и при решении вопросов о лишении статуса работников, чей статус несовместим с судимостью.
Фактически острие нормы, запрещающей наделение разными процессуальными функциями одного органа или одного должностного лица, направлено как раз против наделения следователя и прокурора обязанностью исполнения функции защиты. Доводы в пользу такого ограничения обязанностей прокурора и следователя сводились к тому, что следователи и прокуроры плохо выполняли защитительные функции, возложенные на них УПК РСФСР. Довод сомнителен. Если какой-либо общественный институт плохо выполняет возложенные на него функции, это еще не значит, что его надо от этих функций освободить. То печальное обстоятельство, что советские (и российские в том числе) ученые-юристы в своих исследованиях чаще занимались апологетическим комментированием директивных документов КПСС и трудов основоположников марксизма, не означает, что Институт государства и права РАН не должен впредь заниматься юридической наукой.
На практике приведенное в части второй статьи 15 УПК РФ положение о том, что функции обвинения и защиты «не могут быть возложены на один и тот же орган и одно и то же должностное лицо», служит оправданием неисполнения органами дознания, следователями и прокурорами обязанности устанавливать обстоятельства, не только изобличающие подозреваемого (обвиняемого), но и оправдывающие, а также смягчающие ответственность (ярче всего это проявляется в отсутствии обязанности следователя и прокурора удовлетворять ходатайства защиты о представлении новых доказательств). Эта норма создает нормативную базу для обвинительного уклона дознавателей, следователей и прокуроров. Если А.Ф. Кони считал, что прокурор должен быть «го- ворящим судьей», то авторы УПК исходят из того, что прокурор в уголовном процессе должен быть обвинителем во что бы то ни стало.
Статья 2 Конституции Российской Федерации не ограничивается провозглашением человека, его прав и свобод высшей ценностью. Практический смысл этому положению придает вторая фраза: «Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». Органами государства, на которые может быть возложена обязанность признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, в уголовном судопроизводстве являются следователи и прокуроры. Конституция не содержит норм, позволяющих считать, что подозреваемый и обвиняемый не является тем «человеком и гражданином», чьи права и свободы государство обязано «признавать, соблюдать и защищать».
Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 29 июня 2004 г. № 13-П [8] по делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы признал часть вторую статьи 15 УПК Российской Федерации не противоречащей Конституции Российской Федерации, «поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе норм уголовно-процессуального законодательства содержащиеся в ней положения, как не предполагающие ограничение действия конституционного принципа состязательности, не освобождают должностных лиц государственных органов – участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения от выполнения при расследовании преступлений и судебном разбирательстве уголовных дел конституционной обязанности по защите прав и свобод человека и гражданина, в том числе от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, иного ограничения прав и свобод». Итак, следователь и прокурор не освобождены от обязанности принимать меры к отысканию и закреплению доказательств, свидетельствующих о невиновности обвиняемого либо о виновности его в меньшей мере, чем по предъявленному обвинению, равно как и от обязанности принимать и другие меры по защите прав и свобод обвиняемого.
В статье 15 УПК РФ в качестве принципиального положения закреплена особая роль суда, который находится как бы «над» спором сторон, не становясь помощником ни одной из них. Это не помешало законодателю включить в Кодекс нор- му, в соответствии с которой перед началом допроса в судебном заседании лицо, заключившее со следователем соглашение о сотрудничестве, предупреждается председательствующим не об ответственности за дачу ложных показаний, а о негативных для него последствиях отказа от показаний, выторгованных у него следователем в обмен на обещание более мягкого наказания (статья 271.1 УПК РФ). Судья в роли прислужника следователя – поистине апофеоз состязательности и равноправия сторон!
Гарантией от необоснованного нарушения прав и свобод человека, его законных интересов призвано служить правосудие, из чего следует, что принимаемые и совершаемые во внесудебном порядке решения и действия любых органов власти и их должностных лиц, затрагивающие права человека и гражданина, являются неконституционными, даже если были приняты законы, предусматривающие несудебное принятие таких решений и совершение таких действий. Процесс размывания системы принципов правосудия затронул и казавшееся незыблемым положение об осуществлении правосудия только судом, задекларированное в статье 118 Конституции России. В деятельности отечественных законодателей зримо проявляется тенденция к замещению судебного разрешения споров о праве административным усмотрением.
Решения об ограничении либо лишении прав человека должны приниматься только судом в результате справедливого судебного разбирательства. Исключений из этого общего правила быть не должно. Но, как уже отмечалось, в нашем отечестве и небывалое бывает: есть виды решений, ограничивающих права и налагающих обязанности, принимаемых не судом, а сотрудниками органов внутренних дел, Минюста, органов безопасности, прокуратуры и даже Росфинмониторинга (признание физических и юридических лиц иностранными агентами, блокирование Росфинмониторингом по информации спецслужб, органов следствия и дознания банковских счетов лиц, заподозренных в совершении сомнительных финансовых операций, проникновение сотрудников полиции в жилище без судебного решения и без согласия проживающих в нём лиц, получение спецслужбами сведений о телефонных переговорах и контактах по телекоммуникационной сети «Интернет», запрет на работу с несовершеннолетними по решению Комиссии по делам несовершеннолетних и т. п.). Меры, ограничивающие права и свободы человека, которые могут быть необходимы для обеспечения общественной безопасности, прекращения правонарушений и в других подобных случаях, должны применяться только по судебному решению либо в исключительных случаях, не терпящих отлагательства, применение таких мер должно быть поставлено под последующий судебный контроль. Обеспечивающие правосудие функции могут осуществляться другими государственными структурами, но споры о праве должны разрешаться только судом.
О каком уважении к человеку и гражданину можно вообще говорить, если иностранным агентом человека признаёт какой-то неизвестный чиновник Минюста своим единоличным решением, о чём заклеймённый этим званием человек узнаёт только через некоторое время из публикаций в прессе? Решение принимается келейно, «виновника торжества» туда не приглашают. Зато его, если он сам не обратится в Минюст с просьбой зарегистрировать его в качестве иноагента, могут за это наказать в административном, а в определённых случаях и уголовном порядке. Попытка обжаловать этот закон успеха не имела, Конституционный Суд РФ счёл его не противоречащим Конституции, поскольку, дескать, термин «иностранный агент» не несёт негативной коннотации. Решение не просто нелепое – издевательское. КС отказался признать порочащим решение о признании гражданина «выполняющим функции иностранного агента». Эта норма вообще не нужна: если гражданин на поступающие из-за границы средства осуществляет полезную для нашего государства деятельность (например, оказание медицинской помощи больным детям, на что у государства нашего, как правило, денег не хватает), то за это надо ему (и спонсорам) сказать спасибо, а не наказывать всех причастных, откровенно наплевав на судьбы больных детей. Если же речь идёт о людях, использующих зарубежное финансирование во вред России, то они могут (а в ряде случаев и должны) нести ответственность за государственную измену. Признать человека виновным в государственной измене можно только по суду, с соблюдением пусть недостаточных и не всегда надёжных, но всё-таки процессуальных гарантий. Признание «иноагентом» обходится без этого. Этот закон предусматривает обязательную самоидентификацию (саморегистрацию) ино-агентов, которые, если они не сделают этого сами или не будут маркировать свои публикации, будут всё равно внесены Минюстом в соответствующий реестр во внесудебном порядке. Клеймо «Ино-агент», которым в большинстве случаев помечены видные деятели отечественной культуры и науки, писатели и поэты, журналисты и политики, на самом деле фактически служит свидетельством их общественного признания, свидетельством их роли в отстаивании свободы и демократии – т. е. тех идеалов и принципов, на которых основана наша Конституция.
Существует два способа преодолеть неизбежное противоречие предполагаемых изменений закона действующим принципам: отказаться от внесения в закон принципиально неприемлемых изменений или отказаться от неудобных для реформаторов принципов. Отечественный законодатель, как правило, предпочитает второй вариант.
Сложившееся положение с соблюдением конституционных прав и свобод с необходимостью требует, чтобы юристы со студенческой скамьи впитали: статья Кодекса, посвящённая конституционному принципу уважения чести и достоинства человека, помещённая в главе УПК о принципах уголовного судопроизводства, как и другие статьи этой главы, это не набор имитационно-демагогических лозунгов, предназначенных лишь для придания видимости демократизма и гуманности, а непременное условие эффективности правосудия. На действующее поколение юристов надежда слабая.