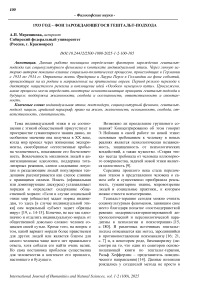1933 год - фон зарождающегося гештальт-подхода
Автор: Мерсиянова А.П.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 1-2 (100), 2025 года.
Бесплатный доступ
Данная работа посвящена определению факторов зарождения гештальт-подхода как социокультурного феномена в контексте индивидуальной этики. Через личную историю авторов показано влияние социально-политических процессов, происходящих в Германии с 1933 по 1934 гг. Отражена жизнь Фредерика и Лауры Перлз в Голландии на фоне событий, происходящих на их родине и направленных на притеснение евреев. Период резкого перехода к диктатуре нацистского режима и воплощение идей «Особого немецкого пути». Прослежено, какие процессы могли определить некоторые основополагающие принципы гештальт-подхода в будущем: поддержка жизненности, свобода и осознанность, ответственность и спонтанность.
Индивидуальная этика, постмодерн, социокультурный феномен, гештальт-подход, нацизм, арийский параграф, право на жизнь, жизненность, осознанность, свобода, ответственность, спонтанность
Короткий адрес: https://sciup.org/170208941
IDR: 170208941 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-1-2-100-105
Текст научной статьи 1933 год - фон зарождающегося гештальт-подхода
Тема индивидуальной этики и ее соотношения с этикой общественной присутствует в пространстве гуманитарного знания давно, но особенное значение она получила в XX веке, когда мир прошел через жизненные эксперименты, своеобразные «естественные пробы» на человечность, показавшие его бесчеловечность. Вовлеченность миллионов людей в аннигиляционные идеологии, поддержка тоталитарных режимов, слепое следование лозунгам и разделяющим людей популярным тенденциям рассматривается как слепое слияние с правящими силами. Власть (официальная или доминирующие дискурсы) устанавливает порядки и определяет содержание общественной морали: «Если в случае социальной этики мир (общество) задает нормы индивидам, то здесь [в случае индивидуальной этики] сам моральный субъект задает образцы миру» [19, с. 14-15]. Конечно, не все так однозначно и отделить индивидуальную мораль от общественной довольно сложно: человек социален своей сутью. Кроме того, на вопрос о том, какой вариант морали более нравственен для других людей или является благом для самого человека чаще всего нет правильного ответа, хотя соблазн его найти очень велик. Но сама постановка проблемы существенна для человечества в контексте его прошлого, настоящего и будущего.
Возможно ли преодоление группового сознания? Концентрированно об этом говорит Э. Нойманн в своей работе по новой этике: основным требованием к человеку в новых реалиях является психологическая независимость, защищенность от психологических воздействий, а также мужество. «Старая этика» всегда требовала от человека иллюзорного совершенства, задачей новой этики является целостность [9].
Середина прошлого века стала переломным этапом в представлении человека о самом себе и существенно преобразила реальность, гуманитарное знание, мировоззрение людей и социальные практики., к которым можно отнести психотерапию.
Гештальт-терапию сегодня можно считать социокультурным феноменом, занявшим свое место благодаря попытке «постмодернисткой ревизии модернистски-ориентированной антропологической и персонологической парадигмы в психологии и психотерапии» [15, с. 180]. В различных источниках гештальт-подход описывается как метод, зародившийся в противопоставлении психоанализу [16; 21, с. 7] и, в некотором роде, бихевиоризму (несмотря на то, что один из соавторов основополагающей книги по гештальт-терапии, Ральф Хефферлин - представитель поведенческого направления) [14]. Данные интенции рождались у создателей метода не просто в связи с их интеллектуальными, творческими изысканиями. Любой локальный дискурс своим основанием погружен в общий поток (явных и скрытых) общественных процессов и доступных, уже существующих дискурсов, которые питают собой новые, зарождающиеся.
Авторы гештальт-подхода (Фредерик и Лора Перлз) с соавторами (Пол Гудман, Изи-дор Фромм, Элиот Шапиро, Ричард Кицлер и др.) «уходили сами» и «уводили других» от вертикали, статичности, алгоритмизированно-сти, от идеи «несмышленности» клиентов, но самое главное - это то, «куда они шли». Про-цессуальность, свобода, спонтанность, присвоение себе ответственности отличали гештальт-подход от различных социальных практик, закрепившихся в то время в психотерапии и обществе в целом. Нельзя сказать, что это было совершенно новое: уже развивались телесно-ориентированная терапия, психодрама, экзистенциальное направление. Однако такое культивирование автономности, открытости и честности в контакте, «настоя-щности», в каком-то смысле провокативно-сти, характерно было именно для гештальт-подхода, по праву называющимся постмодернистским направлением в психотерапии. Про-вокативность в целом рассматривается как способ существования культуры в ситуации постмодерна [3, с. 11].
Исследование культурно-исторических оснований гештальт-подхода предполагает поэтапный анализ сочетания социальных, культуральных, научных, политических и даже экономических факторов и механизмов. В этой связи также важным является изучение биографий авторов и соавторов метода, что позволит увидеть эти связи непосредственно.
Связь между личностью автора метода и его детищем - очевидна. Наряду со многими, кто общался с Фредериком Перлзом, Р. Ресник описывает его как сложного и несовершенного человека. Он мог быть недипломатичным и даже невежливым, эгоистичным, резким, злым, высокомерным, циничным, подозрительным, но и сердечным, чутким, творческим, щедрым, идеалистичным, игривым [17, с. 67-68]. Перлз был независимым, аутентичным, открытым и приглашал людей к этому.
В развитии гештальт-подхода как психотерапевтического метода можно выделить несколько периодов. До того, как гештальт-терапия стала распространяться по всему миру, она прошла свой начальный путь становления, состоящий из «отрезков», которые разграничиваются временем и географией. Так, авторы метода - Фредерик Перлз и Лора Перлз (урожденная Лаура Познер) - до 1933 года жили в Германии, затем недолго в Голландии, с 1934 по 1946 гг. в Южной Африке, в 1946 г. эмигрировали в США [5].
Наше исследование начинается с периода закладки фундамента для нового метода. Речь идет о времени, когда авторы гештальт-терапии жили в Европе и были окружены уже устоявшимся психоанализом, феноменологией, набирающей силу экзистенциальной философией и довольно новаторской гешталь-тпсихологией. В искусстве активно развивается и распространяется модернизм. Кроме особой научной и культурной атмосферы на авторов метода, конечно, влияли экономический и социально-политический фон: события, которые разворачивались в начале прошлого века в Германии. О своем становлении Фредерик Перлз рассказывает в автобиографии «Внутри и вне помойного ведра» [12], о жизни Лоры Перлз и ее взгляде на развитие гештальт-терапии можно прочитать в книге «Жизнь на границе», где приводится ее интервью и тексты доклада [11]. В работах коллег, свидетелей и участников разработки метода, приводятся различные истории, которые позволяют глубже понять почему гештальт-подход такой, каким является.
Одним из значимых событий семьи Перл-зов был отъезд из Германии в Голландию в связи с критически изменившимися социально-политическими условиями. Некоторое время Перлзы еще оставались в Европе, возможно поэтому жизнь в Амстердаме не рассматривается как важный и особенный для развития гештальт-подхода период. Очевидно, что в Германии Перлзом за 40 лет было получено образование, построена карьера, освоен большой объем знаний (теоретических и практических). Учеба, война, работа в исследовательских лабораториях, собственная психотерапия, частная психоаналитическая практика, театр, искусство, создание семьи, личная жизнь с довольно приличными воз- можностями. В Голландии – год холода и голода, дискомфорта; напряжения в связи с происходящим в соседнем (родном) государстве и в целом в Европе; отсутствие разрешения на работу, авантюры ради выживания. Позже, в Южной Африке в течении 12 лет Перлз активно и успешно практикует психоанализ, имея довольно много свободы для творческой модификации метода, строит дом, летает на самолете, учит английский, занимается музыкой, общается с интересными людьми, опять же получает бесценный опыт военного врача. Пишет свою первую книгу, посвященную, как ему в то время кажется, ревизии психоанализа, но позже станет понятно, что это было началом нового метода. Следующие 24 года – жизнь в Соединенных Штатах, которая довольно быстро наполнилась людьми с различными жизненными и профессиональными направленностями, но объединенными общей идеей дать людям способ стать более свободными и спонтанными. Вместе с командой единомышленников, с которыми вполне часто возникали дискуссии и разногласия (что говорит о равности позиций), Перлз разрабатывает направление психотерапии, постепенно ставшее социальнокультурным феноменом. Развитие и распространение нового метода стали для участников этой команды образом жизни. В связи с этим логично рассматривать период зарождения метода через четыре этапа: жизнь в Германии, Голландии, Южной Африке и Соединенных Штатах.
Как уже было сказано, в Голландии будущие авторы гештальт-подхода пробыли всего год. Фредерик и Лора жили в таких условиях и задачах, когда человеку сложно сохранять устойчивую профессиональную направленность. Но, безусловно, это был специфический опыт – опыт пограничного жизненного существования. Даже Первая мировая, где Перлз получил ранение и отравление газами, видел много смерти, жил в поле войны и экономической разрухи, не стала настолько тяжелым испытанием.
После прихода к власти Национал-социалистической рабочей партии Германии во главе с Адольфом Гитлером в течении года политическое устройство страны сильно поменялось [4, 10]. Друг за другом последовали социальные реформы, направленные на сегре- гацию общества, подавление и расправы [7]. С помощью идеально продуманной системы пропаганды удалось сформировать лояльность и более того – приверженность идеям правящей партии у большинства населения [10]. Лозунги про «Deutscher Sonderweg» («Особый немецкий путь») срабатывали практически беспроигрышно. К этому времени общество было уже подготовлено к тотальному контролю через широкий диапазон инструментов [1, 18].
До «Окончательного решения еврейского вопроса» было еще далеко, но «безумие» уже началось. «Арийские параграфы» из внутренних уставов некоторых партий и клубов перешли в статьи государственного закона. В 1933 г. антисемитизм стал официальной государственной доктриной Третьего рейха: 1 апреля прошел первый бойкот еврейских предприятий, 7 апреля рейхстаг принял закон о восстановлении профессионального чиновничества, который привел к увольнению неарийских чиновников [20, с. 336]. Позднее «арийский параграф» был распространён на образование и включен в закон от 25 апреля 1933 года «О борьбе с переполненностью немецких школ и университетов». 30 июня того же года сфера его действия была расширена таким образом, что даже брака с «не-арийцем» хватало для лишения права работать на гражданской службе. В соответствии с нацистской программой по унификации, под давлением нацистской партии многие федерации и организации включили «арийский параграф» в свои уставы. Для подтверждения арийского происхождения требовалось предоставить «арийский сертификат» [4]. Таким образом евреи были исключены из государственной системы здравоохранения, лишены государственных должностей, изгнаны из редакций, и театров, отстранены от занятия сельским хозяйством.
Детское и юношеское сознание через систему общего образования обильно пронизывалось идеями недопущения «осквернения расы» мужчинами еврейской национальности связью с немецкими женщинами [2, с. 65]. Набирала обороты деятельность ранее более сдержанной организации «Гитлерюгенд». Антисемитизм в Германии являлся официальной линией: публиковались статьи, журналы, позже – принимались законы, ограничиваю- щие евреев в правах («ариизация»), против них организовывались государственные кампании, вплоть до школьных программ («Расоведение»). Риторика открытых для доступа и активно распространяемых текстов поражает своей агрессивностью и ненавистью. Было распространено и никак не регулировалось законом насилие над евреями со стороны немецкого населения.
Добиваясь эмиграции евреев из Германии, нацисты сотрудничали с Союзом немецких евреев, который оказывал помощь переселенцам. В 1933 г. было создано специальное ведомство Верховного комиссара по делам беженцев, задачей которого стало оказание помощи еврейским беженцам, которые стремились покинуть Третий рейх [20, с. 337].
Мир вокруг был не просто опасным. Это был мир, где убеждения людей стремительно менялись в сторону принятия уничтожения, убийств, истребления других. И речь шла не только о некоторых народах, так же право на жизнь теряли и чистокровные немцы – психически больные (в том числе дети), гомосексуалисты, как носители неполноценных генов. Добропорядочные граждане – простые мужчины и женщины, и даже дети всего за несколько лет стали носителями нацистской идеологии. Подавляющее большинство населения быстро приняло новые правила, сделали выбор в сторону развития, роста, несмотря на цену всего этого. Конечно, такому слиянию с властью, глубокому интроецированию подверглись не все, но плотность ненависти была критичной.
В 1933 году уезжают многие, кому стало небезопасно (евреи, социал-демократы или нелояльные к национал-социалистической партии). Фредерик Перлз, по его собственным словам, совершает «бегство в Голландию» [12, с. 50], прервав обучение психоанализу, профессиональную деятельность, оставив налаженный уклад жизни.
Голландия в 1933 году была в таком же кризисе, что и многие страны, охваченные Великой депрессией. В стране царили безработица, бедность и политическая нестабильность. После прихода Гитлера к власти сюда массово отправились беженцы (в основном евреи). Несмотря на то, что многие голландские граждане яростно критиковали преследование евреев, антисемитские правые дви- жения разжигали и поддерживали неприязнь к еврейским беженцам [8].
Приехав в Амстердам с 25 долларами, спрятанными в зажигалке, Фредерик жил в доме, предоставленном еврейской общиной. Он пишет о царящем в общине подавленном настроении: «Хотя депортация еще не была в полном разгаре, мы ощущали сильную опасность. Как большинство эмигрантов, покинувших Германию так рано, мы были чувствительны к приготовлениям к войне и созданию концентрационных лагерей» [12, с. 51].
Как и многие из окружения, Перлз уже был внесен в черный список нацистов, что безусловно усиливало страхи за родственников, находящихся в Германии. Через несколько месяцев супруга с ребенком все же смогла приехать к Перлзу. Это время Фредерик и Лора описывают как очень сложный период их жизни. Кроме гнетущего социальнополитического фона, они переживают еще и личную историю – у Лоры случается выкидыш и длительная депрессия. Финансовые проблемы не решались, распродано все, что можно, условия жизни на съемной холодной квартире были крайне тяжелые. Сам Перлз спустя много лет признается в своих воспоминаниях, что это был единственный раз в его жизни, когда он стал суеверным.
Мир вокруг рушился, в воздухе стоял запах неотвратимой большой беды. Условная государственная граница между Голландией и Германией не давала ощущения безопасности, так как практически вся Европа была охвачена политическим кризисом. Многие историки считают, что выделение Первой и Второй мировых войн не обосновано, так как, по сути, это одна война с «перемирием» на десяток лет.
Ситуация поменялась в сторону спасения, когда Перлзу было предложено переехать в Йоханнесбург как обучающемуся психоаналитику. Перлз лаконично напишет об этом: «Нас было четверо. Трое хотели гарантий. Я сказал, что я рискну. Остальные трое были схвачены нацистами. Я рискнул, и я все еще жив» [6, с. 24]. Понимая политическую обстановку, Фредерик Перлз сказал друзьям: «Идет величайшая война всех времен. Вы едва ли сможете удалиться на достаточное расстояние от Европы» [12, с. 53]. В 1934 году всей семь- ей Перлзы уезжают в Южную Африку, где их жизнь существенно меняется к лучшему. Однако в своих воспоминаниях Фредерик и Лора часто с горечью говорили о близких, которые пострадали от нацистского режима и войны.
Свой переезд в Южную Африку основоположник гештальт-подхода расценивал как одно из самых важных решений своей жизни. Они с супругой на тот момент еще даже не приступали к разработке новой теории – это впереди, после переезда в США. А пока важной вехой в зарождении метода будет попытка совершенствования психоанализа: смелые идеи в области теории инстинктов, которые проигнорированы Зигмундом Фрейдом и отвергнуты психоаналитическим сообществом, но стали источником для будущей гештальт-терапии.
Последний год жизни в Европе для супругов Перлзов был не просто экономически сложным: угроза жизни становилась все очевиднее, агрессивным, уничтожающим фронтом надвигался фашизм. В ближайшее время мир получит страшную иллюстрацию того, каким может быть человек, если начинает слепо служить идеалам, теряет критичность и связь со своей индивидуальностью; когда система становится замкнутой на самой себе, мир и «другие» обесцениваются, контроль и подавление берут верх над свободой и спонтанностью. Фредерик и Лора получат множество историй-примеров, в том числе и личных, которые не могли не отразиться на их мировоззрении. Позже Фредерик Перлз в своей базовой работе об агрессии разведет поня- тия «разрушение» и «уничтожение», хорошо понимая различия между этими явлениями [13, с. 34].
Люди, которых затронул нацистский режим, по-разному продолжались дальше в своих жизнеосуществлениях. Виктор Франкл развил теорию и практику логотерапии, Эрих Фромм в духе психоанализа сформулировал гипотезу о связи фашизма и некрофилии. Фредерик Перлз, и так имея очень независимый характер, был непримирим к давлению и интроецированию, к слиянию и потере опоры на себя. Благодаря тому, что он «оставил» систему гештальт-терапии достаточно открытой и не претендовал на единственный голос – гештальт-подход внутри очень разнообразен: здесь есть и ценность близости, взаимосвязанности, опоры на других. Однако в своем ядре гештальт-подход, конечно, про свободу и важность индивидуальности, права на нее, права на отстаивание себя. И еще – в моделях гештальт-подхода хорошо читается про ценность жизни, в его основе лежит витальная схема: «организм и среда». И это не про примитивный взгляд на человека, а про базовую формулу существования. Организм, чтобы жить выходит в мир, для этого ему нужен контакт как способность и как процесс. В гештальт-терапии изначально активно поддерживалась идея удовлетворения базовых потребностей и выживания организма: для авторов метода принципиален акцент на том, что жизнь – первична и является базовым правом.
Список литературы 1933 год - фон зарождающегося гештальт-подхода
- Атнашев Т., Вележев М. «Особый путь». От идеологии к методу. - М.: Новое литературное обозрение, 2019. - 488 с.
- Ермаков А.М. Нацистский антисемитизм и растление молодежи: миф об «Осквернении расы» в пропаганде Юлиуса Штрейхера // Вестник РГУ им. С.А. Есенина. - 2016. - № 3 (52). - С. 65-71.
- Зенец Н.Г., Чалдышкина М.В., Кордас О.М. Провокативность как способ существования культуры в ситуации постмодерна // Гуманитарные исследования. - 2020. - № 1 (26). - С. 11-14.
- История Германии: от создания Германской империи до начала XXI века: в 3 т. / Под общ. ред. Б. Бонвеча, Ю.В. Галактионова. - М.: КДУ, 2008. - Т. 2. - 693 с.
- Кудашов В.И., Мерсиянова А.П. Гештальт-подход как социокультурный феномен // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Трансформация информационно-коммуникативной среды общества в условиях вызовов современности» с международным участием Комсомольск-на-Амуре, 25-26 ноября 2021 года. - С. 384-387.