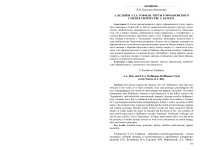А. Белый и Э. Т. А. Гофман. Черты гофмановского стиля в творчестве А. Белого
Автор: Королева Вера Владимировна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Компаративистика
Статья в выпуске: 3 (38), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются черты гофмановского стиля, нашедшие отражение в творчестве А. Белого: романтическая ирония и гротеск, психологизм, двойничество, карнавальность, кукольность, музыкальность. Показывается, что в первую очередь гофмановские черты проявились в «Симфониях»: в условно-фантастическом, сказочном мире в духе Гофмана, романтической иронии, которая сочетается с «бытовыми» деталями, двоемирии, психологизме и теме двойничества. Романтическая ирония у Белого, как и Гофмана, отражается в карнавальности, кукольности и реалистическом гротеске. Маски домино у Белого часто связаны с образами безумного смеха, плясок смерти и с темой огня. Комплекс этих образов восходит к новелле Гофмана «Песочный человек». Гофмановское влияние проявилась и в романе Белого «Петербург». Таким образом, можно говорить о наличии сходных стилевых приемов, совпадении некоторых образов, сюжетов и творческих принципов.
Романтическая ирония, гротеск, фантастика, двойничество, карнавальность, кукольность, музыкальность
Короткий адрес: https://sciup.org/14914561
IDR: 14914561
Текст научной статьи А. Белый и Э. Т. А. Гофман. Черты гофмановского стиля в творчестве А. Белого
Творчество Э.Т.А. Гофмана - немецкого писателя-романтика - всегда вызывало стойкий интерес в отечественном и зарубежном литературоведении (А.Б. Ботникова, Н.А. Корзина, И.В. Миримский, Л.А. Миши- на, Л.В. Славгородская, Ф.П. Федоров, Д.Л. Чавчанидзе, Г. Еллингер, Л. Коль, И. Винтер и др.). Неоднократно поднимался вопрос о роли Гофмана в русской литературе. Однако исследователи главным образом рассматривают аспект влияния немецкого романтика на русскую литературу XIX в. (А.Б. Ботникова, К. Голова, В. Кантор и др.), акцентируя внимание на том, что он внес значительный вклад в формирование художественного стиля ведущих русских писателей: Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, В.Ф. Одоевского, В.А, Соллогуба, А. Погорельского, К.С. Аксакова, Н.А. Полевого и др.
В центре нашего внимания исследование гофмановских традиций в литературе начала XX в. и, в частности, в творчестве писателей-символистов, которые были ближе всего к эстетике романтизма и проявляли интерес к произведениям Гофмана. Начало этому было положено Владимиром Соловьевым, сделавшим перевод новеллы «Золотой горшок», а затем интерес к Гофману был подхвачен другими писателями и поэтами в связи со сходством многих эстетических и философских идей романтизма и символизма и близостью мироощущения символистов гофмановскому. Это влияние проявилось в творчестве А. Блока, А. Белого, Ф. Сологуба, В. Брюсова, Д. Мережковского, М. Кузьмина.
В большей степени гофмановские черты отразились в поэтике А. Блока. А. Белый в период тесной дружбы с Блоком и увлечением романтиче-ско-мистическими ожиданиями прихода Вечной Женственности был также близок гофмановскому мировосприятию. В период возникновения любовного треугольника Блок - Белый - Менделеева и последовавшей ссоры с Блоком в творчество Белого входит ирония, которая по стилю близка немецкому романтику.
Гофман оказал влияние и на формирование художественно-эстетического мировоззрения А. Белого, что подтверждается упоминаниями его имени в эссеистике и мемуарах русского символиста.
А. Белый познакомился с произведениями Гофмана в ранней юности, в период активного чтения, когда шло формирование собственного стиля поэта. В книге воспоминаний «На рубеже двух столетий», описывая свои взаимоотношения с Сергеем Соловьевым, писатель рассказывает, как происходило создание мифопоэтической эстетики кружка аргонавтов: «Мы -постоянные импровизаторы, мифотворцы сюжетов, рисующие драматические борьбу света и тьмы (начала с концом), мифологические события, происходящие с нами и с нашими знакомыми <.. > перелагая знакомых в свой миф, мы выращиваем всякую фантастику в стиле Гофмана и Э. По: фантастику реализма». При этом Белый подчеркивает, что в его задачу входит не возрождение романтизма, а его переосмысление: «нужна нам не сказка, не тридесятое царство: нам нужен Арбат»1.
Гофман в сознании Белого закрепился как образ мечтателя, который с помощью музыки и безграничной фантазии сумел подняться над прозой реальной действительности, став символом романтизма. Об этом он пишет в книге воспоминаний «Между двух революций», где упоминает имя Гофмана среди других наиболее значительных художников, повлиявших на формирование символизма как направления2.
Во второй книге воспоминаний «Начало века», говоря о Вяч. Иванове, Белый называет его случайно дожившим до XX в. романтиком и сравнивает с героями Гофмана: «...кто он: архивариус, школьный учитель из Гофмана, век просидевший в немецкой провинции с кружкой пива в руках над грамматикой, или романтик, доплетшийся кое-как до революции 48-го года и чудом ее переживший при помощи разных камфар с навталинами <...> чтобы здесь на арбате <...> меня, Эртеля, Брюсова <...> заставить водить хороводы под звуки симфонии Бетховена»3.
Имя немецкого романтика упоминается А. Белым и в очерке о Владимире Соловьеве: «Приходил по какому-то делу, но мне он явился, как являются сказочные незнакомцы из Гофмана. Взрослые говорили, что в пустыне его приняли за черта. Мне казалось, что он вышел из смерчей Самума, пришел к нам; а когда вышел за дверь, то смерчем расклубился, метелью пронесся»4.
Таким образом, по свидетельству самого Белого, Гофман оказал влияние на формирование творческого метода символизма. Глубинное восприятие немецкого романтика проявляется в собственном художественном мире Белого, в виде отдельных гофмановских образов и мотивов, а также на уровне поэтики, в «Симфониях», поэтических сборниках «Золото в лазури», «Пепел», «Урна», в цикле сказок «Королевна и рыцари», в прозе («Рассказ № 2», роман «Петербург», книга «Мастерство Гоголя» и др.).
В творчестве Белого проявились и некоторые черты гофмановского стиля: романтическая ирония и гротеск, фантастика, двойничество, кар-навальность, кукольность, музыкальность. Важной сферой пересечения Белого и Гофмана, восходящей к эстетике романтизма, является музыка. Гофман в первую очередь считал себя композитором, большинство его произведений пропитано музыкой, попыткой соединить в единое слово, ритм и мелодию.
Как известно, Белый в своих произведениях стремился подчинить слово музыкальному началу. В «симфонических» опытах, предшествовавших созданию первой «симфонии» («Предсимфония»), он использует названия музыкальных темпов для описания ритма развития действия или чувств героев. Гофман, создавая свои произведения, нередко пользовался этим приемом, как, например, в цикле очерков «Крейслериана».
В основе сюжета «Северной симфонии» лежит фантастический, сказочный мир в духе Гофмана, где главные герои - королевна, сохранившая воспоминания о запредельном, и молодой рыцарь, находящийся под влиянием дьявольских сил.
Влияние Гофмана во второй симфонии Белого выражается в романтической иронии и проявляется в развенчании идеала, обращении к буффонаде, которая сочетается с «бытовыми» деталями. Так, например, предметы у Белого, как и у Гофмана, оживают и начинают действовать самостоятельно, создавая контраст с миром людей, действующими механистически: «А бюст Иммануила Канта укоризненно качал головой и показывал язык спящему философу, стоя на письменном столе»5 (далее произведения А. Белого цитируются по указанному изданию). Именно такой прием использует Гофман в новелле «Золотой горшок», когда дверной молоток превращается в торговку: «Ансельм остановился и рассматривал большой и красивый дверной молоток, прикрепленный к бронзовой фигуре. Но только что он хотел взяться за этот молоток, <...> как вдруг бронзовое лицо искривилось и осклабилось в отвратительную улыбку и страшно засверкало лучами металлических глаз. Ах! Это была яблочная торговка от Черных ворот!»6.
Неотъемлемой чертой гофмановского творчества стала тема двойни-чества, поскольку основной проблемой человеческого сознания немецкий романтик считал раздвоение, которое он сам остро переживал. Об этом свидетельствуют записи в его дневниках. Еще в ранний период своей жизни в Полоцке в январе 1804 г, он записывает: «Невероятное напряжение вечера. - Все нервы расшатаны пряным вином. - Приступ смертельных предчувствий - Двойник». И через 5 лет в Бамберге: «Странная идея на балу, <.. .> представляю себе свое “Я” как бы сквозь граненый кристалл -все фигуры, которые движутся вокруг меня, - это я сам, и меня раздражает их поведение...»7. Гофман пытался понять и описать природу двойниче-ства в новелле «Двойник», романе «Эликсиры дьявола» и др. 3. Фрейд, рассматривая феномен двойничества, отмечал, что герои произведений Гофмана «...плутают в своем Я или перемещают чужое Я на место собственного, т.е. происходит удвоение Я, разделение Я, подмена Я, и, наконец, постоянное возвращение одного и того же, повторение одних тех же самых черт лица, характера, судеб.. ,»8.
Тема двойничества у немецкого романтика звучит то как внутреннее раздвоение личности, то как ее абсолютная идентичность с внешней стороны. Увлечение Гофмана двойниками, многообразие форм двойничества в его творчестве породило в мировой литературе своеобразную моду на двойников.
Двойники у Белого - это не просто материализовавшиеся тени, они живут самостоятельной жизнью, похожей на жизнь того, от кого они отделились, но в другом мире (идеальном): «Тут я понял, что если мы и не были влюблены друг в друга, то любили друг друга наши двойники, встречающиеся друг с другом где-то там, вне пространства и времени...» (II, 217). Тема двойничества у Белого, как и у Гофмана, связана с безумием, т.к. окружающие мечтателя, который устремлен в мир идеальный, воспринимают как сумасшедшего. В финале «Рассказа № 2» лирический герой приходит к парадоксальному открытию: двойники, как тени, - вечны, а значит они реальнее, чем человек: «Но двойники жили в Вечности, а мы были только отражениями...» (II, 217).
Тема двойника у Белого найдет выражение и в поэзии, в сборниках «Золото лазури», «Пепел» и «Урна», где двойники становятся частью инфернального мира, наряду с другими его обитателями: карликами, мертвецами, гномами. Они имеют двойственную природу: с одной стороны - это мистические образы, порожденные творческим сознанием автора, а с другой - они приобретают вполне определенные земные черты, становятся выражением жизненного опыта и реального мира в целом.
Так, в стихотворении 1904 г. «Меланхолия» возникает традиционный образ двойника в духе Гофмана, который появляется из зеркал, и пока его отражение мало чем отличается от образа лирического героя:
Там - в зеркале - стоит двойник;
Там вырезанным силуэтом -Приблизится, кивает мне, Ломает в безысходной муке В зеркальной, в ясной глубине Свои протянутые руки (II, 651).
А в стихотворении «Отчаянье» 1904 г. двойник уже преследует лирического героя:
Двойник мой гонится за мной;
Он на заборе промелькает, Скользнет вдоль хладной мостовой И, удлинившись, вдруг истает (II, 652).
В цикле «Пепел» в творчестве Белого появляется особый тип двойни-чества, основанный на ролевом представлении литературных персонажей, или их мифологизации. Белый, как и другие символисты, пытался создать свой единый «миф о мире», который складывался на основе близких ему по духу традиций и явлений мировой культуры: религии, философии, мифологии и литературы. Одной из главных особенностей мифотворчества символистов, по мнению И.С. Приходько, было то, что «текст жизни» и «текст искусства» переплетались, и тогда миф как бы «проживался» поэтами, те. происходило смешение событий личного, жизненного, творческого и биографического плана9.
Одним из устойчивых образов в произведениях символистов, и в частности Белого, были традиционные персонажи итальянской commedia dell’arte, получившей распространение в XVI - начале XVIII вв. Появление в творчестве Белого образов именно commedia dell’arte было не случайным. По словам А.В. Лаврова, Москва в этот период представляла собой «сцену не только для торжественных ритуалов, но и для всевозможных игр и “арлекинад”, которые выполняли функцию юмористических интермедий в мистериальном действе, оттенявших сакральный смысл событий»10. По свидетельству А. Белого: «Сами же мы набрасывали покров шуток над нашей заветной зарей <...> и начинали подчас дурачиться и шутить о том, какими мы казались бы “непосвященным” людям, и какие софизмы и парадоксы вытекали бы, если бы утрировать в преувеличенных схемах то, что не облекаемо словом, то есть мы видели “Арлекинаду” самих себя»11.
Таким образом, для символистов «арлекинады» были одним из способов преломления «аргонавтического» настроения в быту, шутливой формой высмеивания изжитого реального мира, которому следует противопоставить иные ценности и иной тип поведения.
Мотив «арлекинады» усиливается в поэзии Белого в связи с любовными переживаниями по отношению к Л.Д. Менделеевой и проявляется в образе домино в книге «Пепел» в стихотворениях «Полумаска», «В летнем саду», «Маскарад», «Праздник» и др.
Так, в стихотворении «Вакханалия» 1906 г. создается образ маски, которая символизирует добровольный уход из мира пошлости:
И огненный хитон принес, И маску черную в кардонке. За столиками гроздья роз Свой стебель изогнули тонкий. Бокалы осушал, молчал, Камелию в петлицу фрака
Обвился и закрылся маской, Прикидываясь мертвецом (II, 657).
В стихотворении «Маскарад» 1908 г. образ домино напоминает Медар- дуса из романа Гофмана «Эликсиры дьявола». Он похож на монаха капуцина внешне, его образ связан с вином, которым дьявол совращал сначала святого Антония, а затем Медардуса в романе Гофмана:
Огневой крюшон с поклоном Капуцину черт несет.
Над крюшоном капюшоном Капуцин шуршит и пьет.
Он, как и Медардус, всегда носит при себе кровавый кинжал и становится убийцей: «С окровавленным кинжалом / Пробежало домино» (II, 649).
Кроме того, маска домино у Белого часто связана с образами безумного хохота, плясок смерти и темой огня (стихотворения «Безумец», «Полевое безумие», «Сумасшедший»), Комплекс этих образов восходит к новелле Гофмана «Песочный человек», где Натанаэль, увидев, что Олимпия - это кукла, сходит с ума, его начинают преследовать «огненные круги безумия»: «И тут Натанаэль увидел на полу кровавые глаза, устремившие на него неподвижный взор; они ударились ему в грудь. И тут безумие впустило в него огненные свои когти и проникло в его душу, раздирая его мысли и чувства. “Живей-живей-живей, - кружись, огненный круг, кружись, -веселей-веселей, куколка, прекрасная куколка, - живей, - кружись - кружись!”»12. В стихотворении «В летнем саду» 1906 г. домино выступает как карающая сила. При этом символичен образ стекла - он создает иллюзию подлинности, закрывает порок от внешнего мира:
Тяжелый камень стекла бьет -
Позором купленные стекла. И кто-то в маске восстает Над мертвенною жизнью, блеклой.
Хрипит, проколотый насквозь Сверкающим, стальным кинжалом: Над ним склонилось, пролилось Атласами в сиянье алом -
Немое домино: и вновь,
Плеща крылом атласной маски, С кинжала отирая кровь, По саду закружилось в пляске (II, 661).
Гофмановские образы возникают как образы времени и в цикле сказок А. Белого «Королевна и рыцари». Лирический герой сказки «Перед старой картиной» смотрит на картину, образы которой оживают, и он оказывается в том месте и в том времени, которое на ней изображено. Гофман использует такой прием в новелле «Состязание певцов», где некто, читая трак- тат Иоганна Христофа Вагенфейля о дивном искусстве мейстерзингеров, неожиданно оказывается в 1680 г. вместе с Вагенфейлем, автором книги: «Он оглянулся и увидел возле себя почтенного старика в черном, с вьющимися локонами парике и в черном же, приблизительно так, как одевались в тысяча шестьсот восьмидесятом году, костюме; он тотчас узнал старого профессора Иоганна Христофа Вагенфейля»13.
Гофман, а затем и Белый, считали произведение искусства центральной точкой, в которой способны соединиться прошлое, настоящее и будущее. Об этом Гофман пишет и в новелле «Дож и догресса», где описывает историю картины, чтобы показать могучую силу искусства, стирающую все временные рамки: «В том-то и особенность искусства, что с его помощью витающие в пространстве образы, пройдя сквозь душу художника, обретают форму и краски и оживают, словно найдя свое отечество, причем нередко случается так, что картина вдруг оказывается верным изображением того, что когда-то было или произойдет в будущем»14.
Гофмановская традиция проявилось и в романе Белого «Петербург». Можно говорить о наличии сходных стилевых приемов с Гофманом, совпадении некоторых образов, сюжетов и творческих принципов.
Первым обратил внимание на близость романа «Петербург» А. Белого поэтике Гофмана Бердяев: «Так в кубистически-футуристическом “Петербурге” повсюду являющееся красное домино, есть превосходный, вну-тренно-рожденный символ подвигающейся революции, по существу нереальной. В европейской литературе предшественником творческих приемов А. Белого можно назвать Гофмана, в гениальной фантастике которого также нарушились все грани и все планы перемешивались, все двоилось и переходило в другое»15.
Исследователи романа Белого не раз указывали на его музыкальность, которая играет значительную роль в «сцеплении» сюжета в «Петербурге». Н. Пустыгина обратила внимание, что музыкальный смысл романа выстроен в одном ритмическом ключе, а «разрывы» на смысловом уровне компенсируются «скрепами» на фонетическом, ритмическом и т.д.16
Эта традиция восходит к Гофману, который, создавая роман «Эликсиры дьявола», продумывает ритм произведения, опираясь на музыкальные темпы: «роман начинается Grave sostenuto. Герой появляется на свет в монастыре святой Липы Восточной Пруссии... - потом вступает soste piano - жизнь в монастыре, где он был подстрижен, - из монастыря герой вступает в ярко-разноцветный мир - здесь начинается Allegro forte»17.
На образном уровне персонажи романа Белого «Петербурга» также имеют черты, которые сближают их с героями Гофмана. Это «дьявольское начало», «двойничество», механистичность, марионеточность, призрачность. Так, в романе Гофмана «Эликсиры дьявола» главный герой Медар-дус, в душе которого борются добро и зло, гордыня и смирение, возомнил себя, как и его предок, художник Франческо, сверхчеловеком. Однако в ходе действия романа становится понятно, что он подобен марионетке, поступками которой управляют свыше, его сознание порождает двойников, что приводит его к потере собственной цельности. Гофман играет имена- ми персонажей: художника, совершившего первый грех, звали Франческо, его потомок, в монашестве Медардус, рожденный искупить его грех, тоже получает родовое имя Франциск.
Белый в романе «Петербург» также поднимает проблему «единства» отца и сына Аблеуховых, что проявляется в перекличке их имен. Проблематика отца и сына имеет символический и мифологический характер -как реализация евангельского мифа - истории Отца, пославшего Сына на страдание и мученичество.
Романтическая ирония, присутствующая в романе Белого, как и у Гофмана, выражается в карнавальное™ и реализуется в присутствии масок домино, кукольности и реалистическом гротеске. В этом маскарадном Петербурге реальность смешивается с бредом революционера-мистика, где бред кажется реальнее, чем явь. Именно такое ощущение испытывает Медардус у Гофмана: попав под власть рока, он становится марионеткой, которой управляют. Стечения обстоятельств, присваивание ему чужих масок и чужих преступлений приводят его на грань безумия, он даже хочет покончить жизнь самоубийством, чтобы вырваться из этого порочного круга. Эта маскарадное™ петербургского мира романа Белого, как и у Гофмана, не веселая, не светлая, а тяжелая, гнетущая, где личность потеряна, расколота.
У А. Белого ирония и гротеск становятся высшей формой насмешки над миром и самим собой - злой карикатурой, в которую он превращает своего героя Николая Аполлоновича. Аблеухов падает и вызывает смех и жалость: «обнаружились светло-зеленые панталонные штрипки и ужасный шут стал просто шутом жалким» (I, 68). С этого момента все его унижают и называют «Лягушонок, урод - красный шут!», «красное домино -домино шутовское» (I, 68).
Подобная многогранность образов романа Белого создает игру разными смыслами и, сложно сталкивая эти значения, формирует такой важный элемент поэтики романа, как иронию, которая выступает неким структурно-организующим принципом.
Роман «Петербург» Белого, как у Гофмана, имеет два мира: реальный и зеркально расположенный - ирреальный. Границы между ними стерты, поэтому персонажи этого мира двойственны - они реальные люди, но они же и фантомы. Проблема утраты идентичности - одна из главных в романе Гофмана «Эликсиры дьявола», где Медардус, меняя роли, в определенный момент осознает ужасную истину: «Я тот, за кого меня принимают, а принимают меня не за меня самого; непостижимая загадка: я - уже не я»18.
Таким образом, черты гофмановской эстетики органично вошли в творчество Белого. Сочетаясь с широкой литературной традицией и эстетикой символизма, они способствовали созданию его собственной концепции творчества.
Список литературы А. Белый и Э. Т. А. Гофман. Черты гофмановского стиля в творчестве А. Белого
- Белый А. На рубеже двух столетий//Воспоминания: в 3 кн. Кн. 1. М., 1989. С. 535-536
- Белый А. Между двух революций//Воспоминания: в 3 кн. Кн. 3. М., 1990. С. 190
- Белый А. На рубеже двух столетий//Воспоминания: в 3 кн. Кн. 1. М., 1989. С. 309
- Белый А. Собрание сочинений: в 8 т. М., 1994-2012. Т. 8. С. 293
- Белый А. Полное собрание сочинений: в 2 т. Т. 2. М., 2011. С. 295
- Гофман Э.Т.А. Собрание сочинений: в 6 т. М., 1991-1999. Т. 2. С. 91
- Гюнцель К. Э.Т.А. Гофман. Жизнь и творчество. Письма, высказывания и документы. М., 1987. С. 121
- Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995. С. 272
- Приходько И.С. А. Блок и русский символизм: мифопоэтический аспект. Владимир, 1999. С. 24
- Лавров А. Мифотворчество «аргонавтов»//Миф. Фольклор. Литература. Л., 1978. С. 62
- Лавров А. Мифотворчество «аргонавтов»//Миф. Фольклор. Литература. М., 1978. С. 11
- Гофман Э.Т.А. Собрание сочинений: в 6 т. М., 1991-1999. Т. 2. С. 319
- Гофман Э.Т.А. Собрание сочинений: в 6 т. М., 1991-1999. Т. 4 (1). С. 253
- Гофман Э.Т.А. Собрание сочинений: в 6 т. М., 1991-1999. Т. 4 (1). С. 322
- Бердяев Н. Астральный роман//Кризис искусства. М., 1918. С. 43
- Пустыгина Н. Цитатность в романе А. Белого «Петербург»//Труды по русской и славянской филологии. Тарту, 1977. С. 88
- Гюнцель К. Э.Т.А. Гофман. Жизнь и творчество. Письма, высказывания и документы. М., 1987. С. 222
- Гофман Э.Т.А. Собрание сочинений: в 6 т. М., 1991-1999. Т. 2. С. 31