А. С. Хомяков и Н. В. Гоголь: проблема взаимоотношений
Автор: Виноградов Игорь Алексеевич
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: Памятные даты России. К 160-летию со дня кончины А. С. Хомякова (1804-1860)
Статья в выпуске: 1 (4), 2021 года.
Бесплатный доступ
Взаимоотношения Н. В. Гоголя и его друга, известного поэта, публициста, «светского богослова» и историка А. С. Хомякова представляют собой важную, но малоизученную страницу в истории отечественной общественной мысли. В статье представлен аналитический взгляд на некоторые особенности славянофильского учения, проблемы которого рассматриваются с точки зрения Гоголя как яркого представителя этого течения и, одновременно, как его требовательного критика - как славянофила-государственника. В основе настоящей статьи - история многолетнего общения Гоголя и Хомякова, представленная в религиозно-политическом контексте. Хомяков, будучи мыслителем наиболее близким к Церкви из славянофилов, в известной мере разделял оппозиционные по отношению к правительству настроения, в то время как Гоголь, предметом писательской деятельности которого было пастырское обличение «мертвых душ», видел в радикальных настроениях современников, в том числе из круга единомышленников, одно из проявлений духа, разлагающего православное единство. Общие славянофильские взгляды, в которых Гоголь во многом опережал Хомякова, а также его московских друзей, не мешали писателю трезво оценивать крайние настроения «восточников», являвшие собой своего рода феномен западничества в славянофильстве.
Н. в. гоголь, а. с. хомяков, биография, творчество, интерпретация, публицистика, оппозиционность, консерватизм, радикализм, славянофильство, западничество, духовное наследие
Короткий адрес: https://sciup.org/140294796
IDR: 140294796 | DOI: 10.47132/2588-0276_2021_1_32
Текст научной статьи А. С. Хомяков и Н. В. Гоголь: проблема взаимоотношений
Продолжительное и благотворное общение двух известных литераторов и мыслителей XIX в. Н. В. Гоголя и А. С. Хомякова отчасти уже рассматривалось в работах современных исследователей1. Однако некоторые аспекты, свидетельствующие о том, что, несмотря на продолжительное знакомство и близость взглядов, это общение не было беспроблемным, остались без освещения. Главная черта этого идейного диалога заключается в том, что для Гоголя как убежденного славяно-фила-«государственника», последовательного единомышленника Н. М. Карамзина, С. С. Уварова, М. П. Погодина, С. П. Шевырева, в значительной мере была неприемлемой оппозиционная составляющая радикального славянофильства. Ее в известной степени разделял и представлял Хомяков. Хотя этот идеологический «зазор» во взаимоотношениях двух выдающихся современников не столь очевиден, тем не менее изучение общей картины их многолетнего общения позволяет характеризовать его как устойчивую, знаковую тенденцию.
Знакомство Гоголя и Хомякова состоялось, по всей вероятности, еще весной 1832 г., когда после непродолжительного пребывания в Петербурге в марте-мае 1831 г.2 Хомяков вновь посетил Северную столицу3. (Гоголь к тому времени жил в Петербурге уже более трех лет, с конца 1828 г.) В круге их тогдашних общих знакомых — известная придворная фрейлина Александра Осиповна Россет (в замужестве, с января 1832 г., Смирнова). И уже в то время обнаруживается некое расхождение в суждениях Гоголя и Хомякова: в их оценках этой обаятельной великосветской знакомой намечается существенная разница. Для Гоголя А. О. Россет — это близкая «землячка», уроженка Одессы, искренне любящая Малороссию. Для Хомякова, настороженно настроенного к придворному кругу, — изначально «иностранка», холодная «дева-роза»4, не верящая в «святыню чувства»5: «При ней скажу я: „Русь Святая“, / И сердце в ней не задрожит»6 (стихотворение Хомякова «Иностранка», 1831). Понятно, почему самой Александре Осиповне, впоследствии хорошо известной в литературе своими многочисленными знакомствами и перепиской с первыми русскими литераторами, Пушкиным, Жуковским, Вяземским и др., которая сама себя относила к «примирительным» славянофилам7 («…чрез Малороссию пройдем мы в Константинополь, чтобы сдружиться и слиться с западными собратьями славя нами», — писала она Гоголю 3 ноя бря 1844 г.8), хомяковские стихи не понравились:
она «осталась ими очень недовольною и некоторое время относилась к Хомякову весьма холодно»9.
Следующую важную страницу в биографии Гоголя составляют два непродолжительных пребывания писателя в Москве, проездом на родину, летом и осенью 1832 г., которая значима сближением с еще несколькими виднейшими представителями московского славянофильства: М. П. Погодиным, семьей Аксаковых, братьями Киреевскими. Несмотря на первенство старшего брата Ивана, ближе Гоголю оказался менее радикальный Петр Киреевский, собиратель народных песен; в последующих письмах Гоголь чаще обращается именно ко второму, чем к первому; в числе тех, на кого он позднее, в 1846 г., возлагает раздачу денег нуждающимся, вырученных от нового издания «Ревизора», называет, среди других москвичей (А. П. Елагиной, Е. А. Свер-беевой, В. С. Аксаковой, А. С. Хомякова, В. А. Панова, Н. Ф. Павлова), тоже — Петра Киреевского, а не Ивана (III–IV, 483).
(До конца жизни друзьями Гоголя были представители исключительно славянофильского и «охранительного» лагеря. Западник П. В. Анненков, который вошел в число гоголевских петербургских знакомых в 1833 г., а позднее более трех месяцев жил рядом с писателем в Риме, близким по духу человеком ему так и не стал.)
Время пребывания Гоголя в Москве в 1832 г. явилось не только заметной вехой в жизни писателя, но и ответственным рубежом во всей русской истории XIX в. Хомяков в этот период, после встречи с Уваровым в сентябре 1832 г., — только что провозгласившим в России в качестве основ народного образования начала Православия, Самодержавия, Народности, — написал стихотворение «Разговор с С. С. Уваровым». По словам П. И. Бартенева, в этом стихотворении «впервые высказалась мысль об отношении европейского просвещения к миру православному и славянскому»10.
В целом проводимый Уваровым по инициативе императора Николая I правительственный курс с самого начала оказался глубоко созвучен современникам, в том числе Пушкину и Гоголю11. Для Гоголя, в частности, безусловно значимым было совместное посещение 27 сентября 1832 г. Уваровым и Пушкиным Московского университета. Кроме Пушкина и Гоголя, одними из первых, кто поддержал начинания Уварова, были москвичи М. П. Погодин и С. П. Шевырев; среди других литераторов, содействовавших начинаниям министра, — друг Пушкина П. А. Плетнев, земляк Гоголя М. А. Максимович. Пушкин был едва ли не первым из тех, с кем Гоголь встретился по возвращении в Петербург в октябре 1832 г. Благодаря поэту в 1834 г. состоялось личное знакомство Гоголя с Уваровым. Следствием этих шагов стало открытое сотрудничество писателя с министром. Гоголь занял тогда кафедру истории Петербургского университета и опубликовал в только что основанном Уваровым журнале четыре статьи12.
Однако Хомяков, несмотря на «Разговор с С. С. Уваровым» и на прямое предложение министра стать редактором «Журнала Министерства Народного Просвещения», от дальнейших шагов воздержался13.

Алексей Степанович Хомяков.
Автопортрет. 1830-е гг.
Сближение Хомякова с Гоголем произошло лишь несколько лет спустя. 12 июля 1838 г. С. Т. Аксаков сообщал сыну Константину о неприятном инциденте, когда Н. А. Мельгунов и А. С. Хомяков — «который имеет 200 тысяч доходу» — отказались участвовать в оказании финансовой помощи Гоголю под предлогом, что слухи о его тяжелом материальном положении за границей «могут быть неправдой»14. (Позднее, весной 1842 г., в числе долгов Гоголя его приятелям в уплату Хомякову значилось 1500 рублей15.)
Дружба Гоголя и Хомякова завязалась только в 1840-х гг. 10 февраля 1842 г. Гоголь сообщал из Москвы Н. М. Языкову, брату Е. М. Хомяковой: «Я бываю часто у Хомяковых. Я их люблю, у них я отдыхаю душой» (XII, 12). 20 мая 1842 г. Гоголь подарил имениннику Хомякову экземпляр только что вышедшего первого тома «Мертвых душ», на следующий день — свой портрет работы Ф. А. фон Моллера.
Тем не менее, несмотря на нескорое сближение, общность взглядов Гоголя и Хомякова стала складываться задолго до их личного общения. Протопресвитер профессор В. В. Зеньковский, автор двухтомной «Истории русской философии», более полувека посвятивший изучению гоголевского наследия, не случайно именно Гоголя — не Аксакова, не Погодина, не Шевырева, не Хомякова, — называл «зачинателем» славянофильского течения русской мысли16. Надо сказать, что тогдашняя историография, отечественная и западная, почти игнорировала славян, и сама славянская история оставалась в то время в значительной мере не изученной. 8 мая 1833 г. Гоголь по этому поводу писал Погодину: «…Случа-лось ли когда-нибудь тебе слышать про Историю Римской импер<ии> и славянских народов? Это чудо, а не книга, типографическая редкость! 1503 года и вся в опечатках, а главное, что во введении прежде всего говорится о истреблении вшей и привезенных в Германию индейских клопов. Издана в Оснабрике» (X, 216). В 1835 г. Погодин, вернувшись из Германии, сообщал: «…Немецкие Писатели, занимаясь всеми языками на свете, живыми и мертвыми, Еврейским и Санскритским, Китайским и Коптским, имеют до сих пор какое-то непонятное отвращение от Славянского, и печатают об этом всемирном народе так, что читать стыдно за них. Они никак не могут вразу-миться, что Общая История не может быть без Славянской…»17 Позднее А. Н. Пыпин указывал: «…В начале XIX в. у нас не было ни одного человека (по крайней мере, нельзя указать этого в литературе), который был бы в состоянии пересчитать правильно славянские племена, указать на карте места их жительства и хотя бы самым общим образом обозначить их исторические отношения. Правда, и в самом славянском мире эти вопросы также были еще весьма неясны…»18
Глубокий интерес к славянской истории был свойственен Гоголю еще в 1820-х гг., в период его обучения в Гимназии высших наук князя Безбородко в Нежине. Директором этой гимназии был ученый с мировым именем, бывший лечащий врач императора Александра I Иван Семенович Орлай (1871– 1829). Именно «ретивый славянофил» Орлай (так называл гоголевского учителя его одесский знакомый историк Н. Н. Мурзакевич19), его устные беседы и сочинения послужили основой формирования славянофильских воззрений Гоголя. Уроженец Карпатской Руси, Орлай самой своей судьбой, своей болью об отторжении части русского народа от общего корня оказал значительное влияние на будущего писателя20. Позднее именно карпатскими учеными21 (один из которых — профессор П. В. Линтур (1909–1969), в 1944 г., вместе с преподобным Алексием (Кабалюком), находив
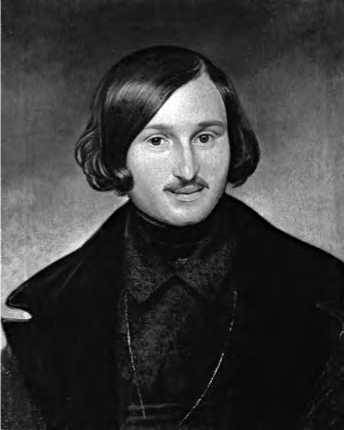
Портрет Николая Васильевича Гоголя. Худ. Ф. А. Моллер, 1841 г.
шийся в числе делегации карпатороссов, ходатайствовавших о принятии Подкарпатской Руси в состав РСФСР и Мукачевско-Пряшевской епархии в лоно Русской Церкви22) было установлено, что мысли Орлая о единстве славянских земель — и губительности междоусобных раздоров — непосредственно отразились в содержании гоголевских «Страшной мести» и «Тараса Бульбы», — других материалов по истории Закарпатской Руси и Галиции в то время в печатном виде просто не существовало.
В 1830-х гг. Гоголь на протяжении нескольких лет преподавал историю в двух учебных заведениях Петербурга — в Патриотическом институте и Императорском университете. Среди собранных тогда писателем исторических материалов в его бумагах сохранилось несколько набросков незавершенного очерка о славянах, использованных им в этот период при создании одной из лекций по всемирной истории. Главный пафос гоголевского очерка составляет мысль о единстве славянских народов, а наиболее принципиальными положениями являются выводы о многочисленности, богатой одаренности, развитой мифологии, миролюбии и исконной оседлости славян, сравнительно с кочевыми азиатскими племенами; представление о том, что славяне являются коренными, самыми древними обитателями восточной Европы. При этом в славянском очерке Гоголя находится сразу несколько выписок из «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, что косвенно служит еще одним подтверждением того, что своим «славянофильством» Гоголь был обязан Орлаю. Нежинский наставник Гоголя был лично знаком с Карамзиным, использовавшим его славянские наблюдения в своей «Истории…». Известно, что в первом томе своего труда Карамзин значительное место отводит истории славянства.
Следует, однако, оговориться, что зарождению славянофильских взглядов Гоголя способствовали также многочисленные «славянские» материалы, публиковавшиеся в 1827–1828 гг. в «Московском Вестнике» Погодина и Шевырева: сообщения о трудах В. Ганки, Й. Юнгмана, В. Караджича, Ф. Палацкого и других славистов (в постоянном разделе «Иностранная переписка» — 1827. № 1–5); статьи самого Погодина (1827. № 14; 1828. № 12), А. В. Веневитинова (1827. № 15, 23), А. Х. Востокова (1827. № 17), П. И. Кеп-пена (1828. № 2), Ю. И. Венелина (1828. № 15, 16, 18) и др. Несколько лет спустя, 10 марта 1835 г., Гоголь признавался Шевыреву: «Я вас люблю почти десять лет, с того времени, когда вы стали издавать Московский вестник, который я начал читать, будучи еще в школе, и ваши мысли подымали из глубины души моей многое, которое еще доныне не совершенно развернулось» (XI, 13–14).
И все же формирование славянофильства и западничества было во многом обязано произведениям самого Гоголя — в частности, выходу в свет в 1835 г. его повести «Тарас Бульба», восторженно встреченной не только Шевыревым и Погодиным, но и молодым Белинским; впоследствии она прямо способствовала становлению национального самосознания славянства23. В. С. Аксакова 6 февраля 1842 г. сообщала брату Ивану, что после разговора о Гоголе с Хомяковым московский генерал-губернатор князь Д. В. Голицын «попросил на другой день Шевырева прочесть ему „Тараса Бульбу“, и ему очень понравилось — сколько он может оценить»24. Позднее, в публичной речи 1859 г., Хомяков, отвечая на развернутую после смерти Гоголя украинским сепаратистом П. А. Кулишом «этнографическую» и «историческую» критику гоголевских украинских повестей, писал: «…В наше время нашлись из его земляков такие, которые попрекнули ему в недостатке любви к родине и понимания ее. Их тупая критика и актерство неискренней любви не поняли, какая глубина чувства, какое полное поглощение в быт своего народа нужны, чтобы создать и Старосветского помещика, и великолепную Солоху <…>, и ту чудную эпопею, в которой сын Тараса Бульбы, умирающий в пытках за родину и веру, находит голос только для одного крика: „Слышишь ли, батьку?“, — и отец, окруженный со всех сторон враждебным народом и враждебным городом, не может удержать громкого ответа: „Слышу!“«25.
Не меньшее значение для формирования славянофильства и западничества имела также публикация в 1842 г. первого тома «Мертвых душ», полемика о которых Константина Аксакова и Белинского явилась первым публичным актом размежевания критиков двух лагерей26.
Хомяков указанный пробел в тогдашней историографии относительно славянства взялся исправлять лишь несколькими годами позже Гоголя. Появление в сентябре 1836 г. в журнале «Телескоп» известного «Философического письма» П. Я. Чаадаева, в котором последний заявлял об «исторической ничтожности» России, сравнительно с прошлым других народов, побудило тогда Хомякова приняться за работу над записками о всемирной истории, одной из первостепенных задач которых было проследить путь славянства в древней истории27. Это прямо предваряло начинания Гоголя, стремившегося вписать историю славян в мировой процесс определенно ранее. Примечательно в этом свете, что когда спустя полтора десятка лет, в 1849-м — первой половине 1850-го гг., Гоголь познакомился с трудом Хомякова по мировой истории (по свидетельству А. Ф. Гильфердинга, Гоголь застал Хомякова за письменным столом и «заглянул в тетрадку»28), то, с легкой руки писателя, хомяковские записки получили тогда название «Семирамида» — по имени ассирийской царицы Семирамиды, постоянно упоминаемой в работе Хомякова как божество славянского происхождения (от Семи-рады, или Земи-рады, олицетворения «любви и красоты»)29. Рассуждения Хомякова по поводу славянских корней Семирамиды наводят на мысль, что не Гоголь «заглянул в тетрадку» друга, но, возможно, сам Хомяков читал автору «Тараса Бульбы» отрывки из своего труда (по обыкновению делиться с друзьями содержанием своей давней работы). Именно в связи с Семирамидой Хомяков обращался к истории славянского «козачества» и «запорожства», воспетой Гоголем: «Свободно и легко гуляло слово Славянское от Бактрии до оконечностей Галлии… <…> Происхождение Семирамиды было <…> Бактрийское… <…> …Должно заметить, что сказка об Амазонках повторялась всею древностию; <…> что она везде обозначает Славянские жилища… <…> …Племя Славянское <…> олицетворялось у других племен в виде женщины. <…> Что-нибудь да было в обычаях Славянских, <…> подавшее повод ко всем этим выдумкам. Важный намек на это что-нибудь находим мы в факте, принадлежащем собственно области Славянской, в козачестве, и в холостых общинах воинов. Таково козачество Вендское <…>, таково позднейшее Запорожство. <…> Допущенное начало холостой жизни в пограничной страже (в публикации 1994 г.: «в пограничной стране»30. — И. В.) объясняет отчасти возможность совершенного разделения между мужчинами и женщинами и существование особых женских слобод»31.
Отвечая в 1836 г. на чаадаевское письмо, Хомяков восклицал: «Есть ли у кого из народов Европы, кроме шотландцев, подобные нашим легенды и песни? у кого столько своей, родной, души? откуда вьются эти звонкие, непостижимые по полноте чувств, голоса хороводов? Прочтите сборник Кирилла Данилова древнейших народных преданий-поэм. У какого христианского народа есть Нестор? у кого из народов есть столько ума в пословицах? а пословицы не есть ли плод пышной давней народной жизни?»32 Суждения эти были тоже чрезвычайно близки Гоголю — неустанному собирателю на протяжении всей своей жизни памятников народной поэзии, оказавших живое влияние на его творчество33, в том числе на создание знаменитой «казацкой эпопеи»34.
Глубоко созвучным оказывается и суждение Хомякова о подлинном художнике, высказанное им впоследствии после долгих раздумий о состоянии современного искусства и о творчестве Гоголя: «Не из ума одного возникает искусство. Оно не есть произведение одинокой личности и ее эгоистической рассудочности. В нем сосредоточивается и выражается полнота человеческой жизни с ее просвещением, волею и верованием. Художник не творит собственною своею силою — духовная сила народа творит в художнике. <…> …Всякое художество должно быть и не может не быть народным»35.
О самобытности Гоголя как художника писали многие его современники — К. А. Аксаков, И. В. Киреевский, К. А. Фарнгаген фон Энзе, П. А. Плетнев, граф В. А. Соллогуб, В. И. Любич-Романович, вплоть до В. Г. Белинского. Уникальность гоголевского творчества неизменно подчеркивал в своих статьях и письмах и Хомяков. Еще при жизни Гоголя он неоднократно указывал на исключительную оригинальность его произведений, сравнительно с подражательным направлением творчества других современных художников.
Впервые эта оценка Хомяковым уникальности гоголевского дара вполне проявилась в 1842 г. в связи с журнальной и устной полемикой по поводу наделавшей много шума брошюры Константина Аксакова о «Мертвых душах». В аксаковской статье Гоголь, по «акту творчества», сравнивался, ни много ни мало, «через головы» всех других русских и зарубежных писателей, с самим Гомером. К. С. Аксаков писал: «…Глубоко значение, являющееся нам в „Мертвых Душах“ Гоголя! <…> древний эпос восстает пред нами»36.
Мысль о единстве «акта творчества» Гомера и Гоголя возникла у Аксакова еще за два с половиной года до написания статьи — непосредственно после того, как он слышал первую главу «Мертвых душ» в чтении самого автора 14 октября 1839 г.37 Сам Аксаков в письме к Погодину указывал, что мысли, изложенные в брошюре, «совсем не плод восторга, но мнение, основанное на спокойном размышлении, твердо поставленное, <…> мнение зрелое»38. Хомяков, по многочисленным свидетельствам современников, в том числе по его собственным, «соглашался во всем с Константином», поддержав идею об «эпическом» созерцании Гоголя при самом зарождении замысла статьи в 1842 г.39 (Защитниками аксаковской брошюры выступили тогда же Ю. Ф. Самарин, П. А. Плетнев, Н. И. Надеждин, А. О. Смирнова.)
24 июля 1842 г. Хомяков писал Аксакову: «Вы высказали смело свою мысль: вы указали на достоинство поэмы и на ее народное значение, и вы не побоялись насмешек за фанатическую любовь к Гоголю, или за еще большую любовь к в<елико>-рус-скому началу. Я, как вам известно, вполне разделяю с вами мнение о М<ертвых> Душах и об авторе и о том, что в нем заметно воскресение первобытной искренней поэзии…»40
Спустя месяц в письме Шевыреву от второй половины августа 1842 г. Хомяков добавлял: «Аксакову досталось от О<течественных> З<аписок>; да они, кажется, уже готовы и от Гоголя отступиться. <…> Аксаков увлекся далеко, но если он будет продолжать брошюрку свою, то, полагаю, выйдет дельное. Он пояснит то, что без пояснения кажется смешным и нелепым. Мысль его главная следующая: „Искусство утратило везде свою беззаботную свободу; в нем более придуманного, чем созданного.
Гоголь (как древние и Шекспир) есть художник поневоле и без намерения“. В этом много правды»41.
В поддержку Константина Аксакова по поводу его суждения о «воскресении» в «Мертвых душах» «первобытной искренней поэзии» Хомяков выступил еще раз публично в 1843 г. в погодинском «Москвитянине»: «…Сам великий Гете, — создатель Фауста, гениальный поэт, смешон, когда античествует и оглядывается: ладно ли? <…> В наш век явился художник гениальный, который и чувства, и мысль, и форму берет только из глубины своей души, из сокровища современной жизни; и в его творении все дышит, все говорит, все движется так живо, так самобытно, как в самой природе. Поймут ли его другие художники слова? Воспользуются ли его примером искусства пластические? Поймут ли и Баварцы, что современному Немцу нельзя быть ни Эллином, ни Мавром, ни Византийцем?»42
В той или иной форме Хомяков повторял и развивал эти размышления в своих позднейших статьях. В 1844 г. он рассуждал: «Новая эра не будет уже довольствоваться <…> подражаниями старым формам, этим мертвым торжествам Баварского искусства. Она создаст новые живые формы, полные духовного смысла, в живописи и зодчестве, были бы только художники вполне Русские и жили бы вполне Русскою жизнью. Словесность и музыка дали уже великий пример в Гоголе и Глинке. Нет человечески истинного без истинно народного!»43
В 1845 г. появляется новое рассуждение Хомякова по поводу самобытности Гоголя: «Россия около полутораста лет занимает у своих западных братий просвещение умственное и вещественное; и за всем тем много ли она себе усвоила, со многим ли сладила? <…> Не вошла к нам ни одна стихия науки, художества или быта (от западной философии до Немецкого кафтана), которая бы слилась с нами вполне, которая бы не оставила нам глубокого раздвоения. Мы называем свою словесность и считаем ряды более или менее почетных имен, и эта словесность по мысли и слову доступна только тем, которые и по внутренней жизни, и даже по наружности уже расторгли живую цепь преданий старины; за то и бледное слово, и бледная мысль обличают чужеземное происхождение привитого растения. Были, без сомненья, и в словесности нашей явленья, которые кажутся исключениями; но эти явления суть только отдельные произведения или только части произведений, и никогда, до нашего времени, не было ни одного поэта (в стихах или прозе), который бы во всей целости своих творений выступил как человек вполне Русский, как человек вполне свободный от примеси чужой. Конечно, тупа та критика, которая не слышит Русской жизни в Державине, Языкове и особенно Крылове, а в Жуковском, в Пушкине, и еще более, может быть, в Лермонтове, не видит живых следов старорусского песенного слова… <…> Тупа та критика, которая не сознает во всей нашей словесности характера особенного и принадлежащего только нам. Но этот характер никогда не развивался вполне; он робко выглядывал из-под чужих форм, не сознавая себя, иногда и стыдясь самого себя. Нашему времени было предоставлено услышать наконец голос художника вполне свободного, вполне самостоятельного. Трудно сказать, чем он спасен, — силою ли своего внутреннего духа, особенностию ли прекрасной, истинно художнической области, в которой он родился и которая была менее северных областей захвачена нашею умственною жизнию прошедшего столетия? Во всяком случае он принадлежит будущей эпохе, а не прошедшей. В нашу он является великим исключеньем, мало еще понятным для большей части читателей, получивших от образованности завидное право быть судьями»44.
Сам Гоголь об этой хомяковской публикации в послании к Н. М. Языкову от 1 мая (н. ст.) 1845 г. замечал: «Хомякова <…> прочел не без удовольствия…» (XIII, 108).
В следующей статье — «Мнение иностранцев о России» — Хомяков замечал: «…Англия <…> везде <…> является как создание какого-то условного и мертвого формализма, какой-то душеубийственной борьбы интересов… <…> И действительно, такова Англия в ее фактической истории… <…> Но не такова внутренняя Англия, <…> у которой есть еще предание, поэзия, святость домашнего быта, теплота сердца и Диккенс, меньшой брат нашего Гоголя (незадолго перед тем Хомяков напечатал свое переложение повести Ч. Диккенса «Рождественская песнь в прозе»45. — И. В.)… <…> Остается только вопрос, что возьмет верх, всеубивающий ли формализм или уцелевшая сила жизни…»46 (Добавим, что в 1845 г., по-видимому, прямо «по следам» Гоголя, точнее, по канве его давней статьи «Ал-Мамун» (1834), Хомяков написал «историософскую» статью «Черты из жизни калифов»47.)
В 1846 г. Хомяков вновь подчеркивал: «Наша жизнь не перекипела, и наши духовные силы еще бодры и свежи. Действительно, единственное высокое современное художественное явление (в художестве слова) принадлежит нам. Этою радостию подарила нас Малороссия, менее Средней России принявшая в себя наплыв чужеземных начал. <…> …Великой Руси предстоит борьба с иноземным просвещением и с его рабскою подражательностию»48.
Эти слова Хомякова опять отчетливо напоминают суждения о «Мертвых душах» Константина Аксакова и Юрия Самарина. Первый из них в письме к А. Н. Попову от конца октября 1842 г. замечал, что поэма Гоголя «могла явиться только в России, у народа цельного, великого, жизненного, назначенного к великим подвигам»49. Незадолго перед тем, во второй половине октября 1842 г., Самарин тоже писал Аксакову, что в «поэзии народов отживающих» нет ничего похожего на гоголевское произведение и «один огромный, неопровержимый факт — возможность возведения этой жизни в мир искусства, становится против темной ее стороны и наполняет душу упованием и укрепляет нас на трудный подвиг»50.
Одной из важнейших публикаций «Московского Литературного и Ученого Сборника» на 1847 г. явилась статья Хомякова «О возможности Русской художественной школы». (Константин Аксаков указывал на эту статью Гоголю в письме от 21 мая 1848 г.; XV, 85.) Хомяков, как и в других своих статьях, надежды в создании самобытной русской литературы вновь возлагал на Гоголя. Он писал: «…По мере того, как художество народное делается менее возможным, так оскудевает художество и вообще, и Франция по необходимости всегда была в высшей степени страною анти-художественной… <…> …В наше время Франция и офранцузившаяся публика встречала с слепым благоговением произведения Жорж-Занда, которые совершенно ничтожны в смысле художественном (какое бы они ни имели значение в отношении движения общественной мысли), и не нашла ни похвал, ни удивления, когда та же Жорж-Занд почерпнула из скудного, но уцелевшего источника простого человеческого быта прелестный и почти художественный рассказ Чортовой лужи , под которым Диккенс и едва ли не сам Гоголь могли бы подписать свои имена»51.
Одобрительно Хомяков воспринял также книгу Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями», встреченную, как известно, в штыки западниками во главе с Белинским. В статье «Англия» Хомяков замечал: «Кому не известно, что Англия не уступает почти никакой стране в отдельных отраслях наук, а в общности их превосходит все остальные земли Европы? Частным исключением можно, конечно, назвать превосходство Германии в философии… <…> Тут Германия владычествует: тут она действовала смело, и ее труд продолжается одною Россиею, дополняющею теорию о свободе художества теориею отношений художества к народу и самого художника к своим произведениям… (Разумеется, этого успеха искать должно не в прогрессистах, насвистывающих чужие мысли с чужого голоса, а в мыслителях самостоятельных, в Гоголе (письма)52, в Жуковском (письмо о Слове)53, в Ш<евыреве>, в А<ксакове> и других.)»54.
В многолетних размышлениях Хомякова о современном искусстве присутствует постоянная «оглядка» на Гоголя. О создателе знаменитой картины «Явление Мессии» художнике Александре Иванове он замечал: «…Он был в живописи тем же, чем Гоголь в слове…»55 Однако при всей важности и справедливости наблюдений Хомякова над гоголевским творчеством, при глубоком почитании им наследия писателя, в хомяковских высказываниях нельзя не заметить некоторой настороженности.
Так, в связи с проблемой подражательности Хомяков в статье «Мнение русских об иностранцах» размышлял: «…Я желал бы, чтобы наши читатели и Литераторы поняли несколько пояснее смысл явления, <…> на которое уже наши журналы обратили свое поверхностное наблюдение… <…> Это явление есть довольно постоянное нападение на чиновника и насмешка над ним. Едва ли не Гоголь подал этот соблазнительный пример, за которым все последовали со всевозможным усердием. <…> … Можно понять всю нравственную истину Гоголя, и всю законность его глубокой, хотя добродушной и беспечной иронии и всю незаконность и слабость его подражателей. <…> Гоголь — художник, созданный жизнию, имел право понять и воплотить мертвенность этого лица в <…> неподражаемые образы Дмухановского и других… <…> Но это право нисколько не принадлежало его подражателям — Литераторам, созданным или воспитанным чужеземною образованностию. <…> Мертвенность человека — черта разительная и достойная комедии, дает жизни право насмешки и осуждения над ним, но она не дает этого права нашему просвещению, которое само в себе собственной жизни еще не имеет»56.
Другими словами, Гоголь, по Хомякову, как представитель самобытной русской жизни имел право на обличение чуждого ей явления, тогда как носители «чужеземной образованности» — которая сама по себе служит причиной мертвящей бюрократии — такого права не имеют.
В суждениях и выводах Хомякова так или иначе всегда присутствует взгляд политического оппозиционера, «вольного» москвича, критически настроенного в отношении к «немецкой», «наносной» петербургской аристократии и бюрократии. Народное, национальное, самобытное всегда, открыто или подспудно, противопоставляется им «неродному» Петербургу. Вспоминается вывод, сделанный из споров со славянофилами Аксаковыми А. О. Смирновой в письме к Гоголю 1847 г.: «Ненависть к власти, к общественным привилегиям, к высокому рождению и богатству — такова-то отвлеченная страсть к идеальному русскому, таящемуся в бороде, — вот начало этих господ» (XIV, 165).
В этом отношении Хомяков вряд ли мог рассчитывать на поддержку Гоголя. Для Гоголя православная государственность, со всеми ее многочисленными институтами, — несомненная ценность, главный, насущно необходимый инструмент и оплот для управления великой державой. Радикальные крайности славянофильского подхода очевидны. К примеру, дочь поэта Ф. И. Тютчева, придворная фрейлина Тютчева, вышедшая в 1866 г. замуж за славянофила И. С. Аксакова, до конца дней не могла согласовать «государственный принцип славянофильства» со «здравым смыслом»57.
Близкий друг Хомякова Самарин в письме к нему и к Константину Аксакову в 1845 г. не без иронии писал: «Мы вели такие разговоры, столько в них было страсти, что не идти на другой день на Петербург войною значит дать шаг назад и уронить себя в общем мнении»58. Противопоставление Москвы Петербургу — «столице грязи»59 — являлось одним из краеугольных камней радикальной доктрины оппозиционного славянофильства. Гоголю этот московский «сепаратизм» был, безусловно, чужд. 29 ноября (н. ст.) 1842 г. он писал Константину Аксакову: «Я не прощу вам того, что вы охладили во мне любовь к Москве. Да, до нынешнего моего приезда в Москву я более любил ее, но вы умели сделать смешным самый святой предмет. <…> Всякую мысль, повторяя ее двадцать раз, можно сделать пошлою. Чувствуете ли вы страшную истину сих слов: Не приемли имени Господа Бога твоего всуе?» (Исх 20:7) (XII, 157). В упомянутом письме к Аксакову и Хомякову 1845 г. Самарин, переехавший к тому времени в Петербург и вступивший здесь в государственную службу, писал: «Мысль о современном значении Москвы, пущенная в ход Аксаковым60, встретила между нами и даже в более широком кругу сочувствие и одобрение; она сделалась предметом наших разговоров… <…> В то время уезжал Гоголь. <…> Гоголь предчувствовал то, что теперь сбылось. Толки о Москве продолжались три года; вражда к Петербургу усилилась; на каждого выходца оттуда мы ополчались толпою и вымещали на нем наше негодование. Между тем, в продолжение этого времени Москва не явила ни одного плода своей умственной деятельности; таким образом она стала известна Петербургу и вообще всей России только с одной, чисто отрицательной стороны. <…> Мы дошли до того, что московское направление, еще ни в чем не успевшее выразиться вполне и оправдать себя, навлекло на себя сильное подозрение со стороны власти и недоверчивость со стороны общества»61.
Не разделяя оппозиционности друзей, Гоголь всегда рассматривал свою писательскую деятельность, в том числе в обличение недостойного чиновничества, ничтожных Башмачкиных и казнокрадов Сквозников-Дмухановских (о которых упоминал Хомяков в своей статье «Мнение русских об иностранцах»), как направленную на укрепление «правдивых законов» государства62. В год создания «Ревизора» Гоголь в статье «Петербургская сцена в 1835–36 г.» писал: «Благосклонно склонится око монарха к тому писателю, который, движимый чистым желанием добра, предпримет уличать низкий порок, <…> и этим подаст от себя помочь и крылья его правдивому закону» (VII, 510). В статье о русской поэзии «Выбранных мест из переписки с друзьями», высоко оцененных Хомяковым, свое писательское призвание, а также деятельность «комиков» Фонвизина и Грибоедова он характеризовал как прямое продолжение многолетних, многовековых усилий правительства во главе с государем по искоренению злоупотреблений и недостатков среди подданных: «Наши комики двигнулись общественной причиной, а не собственной, восстали <…> против целого множества злоупотреблений… <…> Общество сделали они как бы собственным своим телом… <…> Это — продолжение той же брани света со тьмой, внесенной в Россию Петром, которая всякого благородного русского делает уже невольно ратником света» (VI, 187). Умеряя пафос безоглядной критики России и возражая против того, чтобы его произведения, проникнутые глубоким религиозно-»пастырским» обличением, сделать губительным тараном для разрушения ее государственности, Гоголь с вполне «охранительных» позиций заключал: «Нужно было много накопиться сору и дрязгу внутри земли нашей, чтобы явились они [комедии Фонвизина и Грибоедова] почти сами собой в виде какого-то грозного очищения. Вот почему по следам их не появлялось в нашей литературе ничего им подобного и, вероятно, долго не появится» (VI, 187).
Не идеализируя русской государственности, понимая действительно подчас пагубную роль влияния при дворе «немецкой партии», Гоголь, в отличие от своих не в меру ретивых в любви к «всемирному» славянству друзей, умел по достоинству оценить неповторимое в славянском мире, исключительное значение складывавшейся веками православной русской империи: во главу угла славянофильства Гоголь всегда ставил интересы России как уникального государства единственного славянского народа, сохранившего в истории свою независимость и самобытность. По оценке Гоголя, радикальные славянофилы в их неумеренном радикализме, в том участии, которое они объективно принимали, вместе с западниками, в разрушении традиционной русской государственности, тоже оказывались ослабляющими Россию «немцами» — «подавали руку» тем, кто, по словам поэта и друга Гоголя Н. М. Языкова, «нашу Русь злословит / И ненавидит всей душой»63 (стихотворение «К молодому человеку», адресованное Константину Аксакову).
Князь П. А. Вяземский в 1847 г. писал В. А. Жуковскому о Хомякове: «Я рад, что ты освежился русским духом в беседе с Хомяковым, замечательно умным и приятным человеком. Хотя его народность и руссословие несколько отуманены немецким, или вообще нерусским направлением. Признаюсь, не понимаю, чего они хотят, то есть Хомяков и московская братия. <…> Один пар бьет столбом из-под обетованной их земли. Вот отчего и говорю, что эти отчаянные руссословы — более всего немцы и что коренная Русь, верно, их не понимает и не признает. Вот, например, Уваров тот другое дело: он запряг себя в тройку самодержавие, православие и народность и дует по всем по трем»64.
Другой современник, сенатор и литератор К. Н. Лебедев, вспоминая о Хомякове, замечал: «Из сочинений его „Ермак“ и „Дмитрий Самозванец“ замечательны своею историческою неверностию, германской идеализацией. <…> Я видывался с ним в 1850 г. у А. Е. Шиповой и М. П. Погодина. Мне не понравился он безусловным порицанием Европейских заимствований и всех действий правительства, о которых он не имел даже приблизительно точных сведений»65.
Примечательно, что Гоголь, несмотря на то что жил в Москве весьма долго, главы второго тома «Мертвых душ», а именно первую главу, повествующую, в числе прочего, об обстоятельствах службы в Петербурге молодого помещика Тен-тетникова, читал Хомякову лишь единственный раз, весной 1850 г., да и то, судя по всему, чтение в хомяковском доме было устроено не для самого хозяина, а ради его гостя Самарина, приехавшего в то время со службы из Киева. После чтения Самарин сделал по поводу канцелярской службы Тентетникова несколько ценных замечаний, использованных Гоголем при доработке главы66. Можно предполагать,

Иван Васильевич Киреевский
что мнение неслужащего Хомякова, отставного штаб-ротмистра, по поводу чиновной карьеры героя второго тома Гоголя не интересовало.
По поводу самой государственной службы, о ее чрезвычайной важности для всех русских Гоголь писал: «…Настал другой род спасенья. <…> На корабле своей должности и службы должен теперь всяк из нас выноситься из омута, глядя на Кормщика небесного. Кто даже и не в службе, тот должен теперь же вступить на службу… <…> Служить же теперь должен из нас всяк не так, как бы служил он в прежней России, но в другом Небесном государстве, главой которого уже Сам Христос… <…> Только одним этим средством и может всяк из нас теперь спастись» (VI, 131–132).
Хорошо известно, что оппозиционность была присуща славянофилам в весьма значительной степени. Примеры проявления их политического радикализма многочисленны; эту свою черту они демонстрировали неоднократно67. Даже Иван Киреевский, который, подобно Хомякову, был среди славянофилов наиболее близок Церкви, — к концу жизни он прочно связал свою жизнь с Оптиной Пустынью, принимал участие в оптинских изданиях творений святых отцов, подготовил для печати житие прп. Паисия (Величковского), появившееся в 1844 г. в погодинском «Москвитянине»68, — в 1855 г. в письме к Вяземскому, говоря о покойном императоре Николае I, «обличал» его вполне по-«герценовски»: «…Хвалить его <госу- даря><…> за покровительство и сочувствие к просвещению и словесности — то же, что хвалить Сократа за правильный профиль. <…> Гоголю царь дал несколько денег на бедность, не зная хорошо, кто такой Гоголь, и не для него, а для тех, кто за него просили. Когда имя Гоголя и его громкое значение в нашей литературе сделались известными, то даже память о нем преследовалась как вещь, враждебная правительству. Спросите об этом Ивана Тургенева и Ивана Аксакова»69. (Вопреки заявлениям Киреевского, сам Гоголь вряд ли согласился бы с такой интерпретацией отношений к нему монарха70, — ни в изложении Киреевского или Аксакова71, ни, тем более, со слов западника Тургенева72.)
Славянофил Ф. В. Чижов, человек тоже, казалось бы, религиозный, в 1836 г., крайне возмущенный запрещением государем периодического издания «Русский сборник» (император, как известно, написал тогда на представлении: «и без того много»), назвал Государя в своем дневнике «коронованным скотом»73.
Самарин в начале апреля 1847 г. писал Хомякову: «Я узнал, что дано весьма секретное приказание схватить Чижова, Савича и Кулиша, как скоро они переедут нашу границу, запечатать всех их бумаги и препроводить их под надзором жандарма в Петербург. <…> …Весьма может быть, что доберутся и до нас. <…> …Как бы предупредить Чижова и прочих»74.
Спровоцированные тогда деятельностью сепаратистского Украино-славянского общества гонения на славянофилов затронули Чижова, Хомякова, Ивана Аксакова и самого Самарина. Упомянутые Самариным в письме Н. И. Савич и П. А. Кулиш, вместе с Т. Г. Шевченко и др., состояли в этом Украино-славянском обществе (организаторы называли свой кружок Обществом Святых Кирилла и Мефодия; общество объединяло негативно настроенных в отношении к российской государственности украинских славянофилов). В 1847 г., будучи за границей, Савич передал главе польских славянофилов, А. Мицкевичу, поэму Шевченко «Кавказ».
В отличие от славянофильского оппозиционного «единодушия», взгляды Гоголя как убежденного славянофила отличались не только от воззрений западников, но и от позиции более близких ему по духу современников. Будучи гораздо более основательным, чем его друзья, последователем славянофильского учения, Гоголь хорошо разбирался в разнообразных течениях этого общественного движения, отчасти нами сегодня подзабытых. Наибольший контраст гоголевским взглядам представляло славянофильство польских националистов во главе с А. Мицкевичем. С этой ветвью славянофильства едва не смыкалось в критическом отношении к России отечественное западничество. Между тем сами славянофилы, в том числе московские, ощущали себя во многом принадлежащими к «единому» полю славянофильства. Неизбежно между Гоголем и его друзьями возникали разногласия по отдельным вопросам, подчас существенные. Однако порождались эти расхождения вовсе не симпатиями Гоголя к западнической идеологии, но, напротив, сугубой приверженностью писателя к традиционным взглядам, — тем, что обсуждаемые проблемы он решал с еще более консервативной точки зрения. Сравнительно с воззрениями друзей, Гоголь отличался и бо́льшей религиозностью и, к тому же, как художник, обладал бо́льшей широтой и глубиной охвата явлений общественной жизни. Вследствие этого в полемике с приятелями Гоголь оказывался еще бо́льшим славянофилом, чем его оппоненты из того же лагеря. Определенно «правее» своих друзей-славянофилов Гоголь был и в политических вопросах. Не только над западным польским славянофильством, но и над сепаратистки ориентированным украинским славянофильством земляка О. М. Бодянского75, над оппозиционной, критически настроенной к «дому Романовых» частью московского славянофильства (Аксаковы), — над всеми этими друзьями и знакомыми из круга славянофилов Гоголь возвышается как последовательный славянофил-государственник, понимающий исключительное, важное для всех славян положение России в мире. Сербский святитель, митрополит Петр Це-тинский (Негош, 1748–1830) в 1811 г., в частности, замечал: «…Радость и счастье всего славяно-иллирийского народа зависят от процветания и славы высокославных россов, правление которых да расширит Бог во все концы вселенной»76.
К сожалению, последующая история продемонстрировала дальнейшее смыкание оппозиционно-»патриотического» славянофильства с откровенно противостоящим русской государственности западничеством. Не случайно появление в балладе графа А. К. Толстого «Поток-богатырь» (1871) неприязненного образа славянофильствующего «аптекаря», мнимого патриота, ратующего — одновременно — за «народ» и атеизм77. От Константина Аксакова до Виссариона Белинского, давнего московского аксаковского друга, провозгласившего подобное смешение «народности» и безверия в своем известном зальцбруннском письме к Гоголю 1847 г., — несмотря на принципиальные расхождения между горячим славянофилом и радикальным западником — расстояние оказывалось не весьма значительное — почти такое, какое разделяло в давние времена фарисейство и саддукейство. Продолжатели Белинского и Аксаковых — нигилисты и отчасти «почвенники», а за ними и советские патриоты-атеисты — лишь повторяли заблуждения своих родоначальников. Неприятие реальной, исторической, самодержавной России объединяло в XIX в. и «правых», и «левых» (а в XX в. — и «белых», и «красных»), при всем их часто непримиримом противостоянии и так или иначе декларируемом патриотизме.
Белинский в письме к Анненкову 1848 г. замечал: «…Лучшие из славянофилов смотрят на народ совершенно так, как мой <…> друг <М. А. Бакунин>; они высосали эти понятия из социалистов, и в статьях своих цитируют Жоржа Занда и Луи Блана»78. В 1850 г. Герцен, в свою очередь, свидетельствовал, что идеи социализма, разделяющие Европу на «два враждебных лагеря», в России, однако, признаны не только западниками, но и славянофилами79.
Консервативная составляющая в славянофильском движении была ограничена; это течение носило по преимуществу либеральный характер. Само понимание патриотизма не только западниками, но и «восточниками» было подчас декларативным, сродни тем «благородным» вывескам, которыми неизменно украшали себя тогдашние многочисленные противоправительственные общества: Ложа Истинного патриотизма; Ложа трех христианских добродетелей; Ложа Доброго пастыря, Союз благоденствия, Ложа Славянского орла, Ложа Соединенных славян, Общество соединенных славян, Общество Святых Кирилла и Мефодия и т. п. Церковь в России, считал Хомяков, «безмолвно покоряется светской власти»80.
В связи с известной в обществе оппозиционностью славянофильства Ф. Ф. Вигель в 1847 г. обращался к Гоголю: «Мне кажется, вы где-то81 говорите о двух станах, о Сла-вянистах и Европистах… <…>; я тоже что-то такое слышал, только не совсем так. Утверждают, что есть две какие-то партии, но ничего не упоминается ни о станах, ни о вражде, ни о ратоборстве. <…> …У этих скакунов <…> одна цель, но только две разные дороги… <…> Эти две параллельные линии так близко одна от другой и так дружно бегут, что без напряженного внимания трудно одну от другой отличить. <…> Кто несет католицизм, кто гегелизм, кто коммунизм, кто во что горазд. Все хладнокровно горячится, все бредит Европой, все прославляет ее, смешивает Россию с грязью…» (XIV, 241).
Позднее, в 1864 г., Д. Н. Свербеев указывал, что именно «доктрина славянофилов, без их ведома, изобрела порох для огнедышащих против России орудий другой доктрины, доктрины Бакуниных, Огаревых, Герценов, Михайловых, Чернышевских и т. д., дала им в руки самые лучшие спички для их поджогов, приспособила самые прочные колеса для того паровоза, на котором Бакунин, Огарев и проч. желают мчать нас в пропасть, вместо той загадочной тележной тройки, в которой ухарски хотел прокатиться с нами Гоголь; его телега так и осталась не запряженною, а революционный паровоз уже скачет…»82
Сын Н. А. Полевого, Петр Николаевич Полевой, в 1887 г. отмечал: «Припомним то положение, которое Гоголь занял во главе русской литературы после того, как выдал в свет первую часть „Мертвых душ“; припомним то, что те партии, на которые наше общество сороковых годов распадалось так резко и так определенно, смотрели на Гоголя одинаково благоприятно, равно сочувствовали ему и почти равно превозносили его… <…> …Дело в том, что невинный, веселый, свежий юмор его первых произведений нравился всем, а его жестокая, беспощадная сатира, бичевавшая русскую жизнь, еще более пришлась всем по вкусу. Недовольство современною русскою действительностью в сороковых годах было общим не только среди крайних и умеренных западников, но и среди славянофилов; при этом недовольстве (которое можно было высказывать лишь весьма осторожно), как у западников, так и у славянофилов, были уже наготове для будущего теоретически выработанные планы переустройства русской жизни; у западников они опирались на парламентаризме и последнем слове европейской политической и экономической науки, а у славянофилов на фантастической идеализации древнерусских и народных начал. Отрицательное направление
Гоголя ни тем, ни другим не мешало; его порицания и отрицания только служили подтверждением той необходимости будущих реформ, которую и славянофилы, и западники одинаково считали панацеей всех зол и бедствий русской жизни. Вот почему Гоголь — и тем, и другим — был люб и дорог именно как апостол отрицания, как порицатель и обличитель»83.
На это же обстоятельство обращал внимание еще в 1847 г. князь Вяземский — тоже применительно к творчеству Гоголя: «Что люди, провозглашающие наобум какое-то учение западных начал, искали в Гоголе союзника и оправдателя себе, это еще понятно. <…> Но что те, которые отказываются и предохраняют нас от влияния чужеземного, что те, которые хотят, чтобы мы шли к усовершенствованию своим путем, <…> чтобы те самые радовались картинам Гоголя, это для меня непостижимо»84.
Весь XIX в., несмотря на внешне «господствовавшую» официальную идеологию, развивался в основном под знаком декабризма, а не по тем коренным началам Православия, Самодержавия, Народности, следовать которым призывало современников правительство. Лишь немногим из тогдашних литераторов и общественных деятелей было дано в полной мере осознать негативную роль радикализма. Оппозиционно, подчас почти революционно настроенное славянофильство, хотя внешне и черпало свой протест из будто бы духовных начал — из гегельянства и даже из Православия, тем не менее объективно часто смыкалось с тогдашним отрицательным направлением. Идеалы, даже самые высокие, для многих мыслителей служили лишь подручным средством, использовались в качестве предлога для радикального неприятия современности. Будучи приверженцами начал Православия и Народности (и гораздо реже Самодержавия), славянофилы именно поэтому часто были недовольны реальным положением дел на практике. Критика «справа» порой нечувствительно, но прочно смыкалась с критикой «слева»85. Вследствие этого «политизация» духовных обличений Гоголя, заключенных в его произведениях, была почти неизбежной в современной писателю либеральной среде, совершалась помимо его воли. Такую же судьбу разделили в XIX–XX вв., вместе с гоголевским произведениями, многие явления отечественной культуры, не исключая текстов Священного Писания. В связи с этим в неотправленном письме к Белинскому 1847 г. Гоголь упоминал о «нынешних ком<м>унистах и социалистах, [объясняющих, что Христос по]велел отнимать имущества и гра<бить> тех, [которые нажили себе состояние]» (XIV, 388). «Логику» таких интерпретаций духовного наследия наглядно изобразил позднее Ф. М. Достоевский в рассуждениях тринадцатилетнего мальчика в «Братьях Карамазовых»: «…Я не против Христа. Это была вполне гуманная личность, и живи Он в наше время, Он бы прямо примкнул к революционерам и может быть играл бы видную роль. <…> Это еще старик Белинский <…> говорил»86.
Заслуга Гоголя состоит в том, что он решительно отстранял от себя такое понимание «духовности». Со всей определенностью писатель подчеркивал, что христианство, Православие не является орудием, «тараном», с помощью которого удобно крушить неугодную по каким-либо причинам власть, но несет в себе проповедь любви, сострадания, терпения, смирения и единения. Он писал: «…Все то, о чем <мы> так хлопочем и спорим, есть просто суета, как и все в свете, и <…> об одной только любви следует нам заботиться. Она одна только есть истинно верная и доказанная истина» (письмо к С. П. Шевыреву от 21 апреля 1848 г.; XV, 50).
Но в то же время христианские устремления славянофилов — без опасной в духовном отношении политической их радикализации — были чрезвычайно дороги Гоголю. Получив в 1847 г. от Хомякова его «опыт катехизического изложения учения о Церкви», с названием «Церковь одна» (1844–1845), и собственноручно его перепи-сав87, Гоголь 7 августа (н. ст.) 1847 г. сообщал графу А. П. Толстому из Остенде: «Хомяков, между прочим, привез с собой катихизис, отысканный им на греческом языке в рукописи, и перевод его на русский, тоже в рукописи. Катехизис необыкновенно замечательный. Еще нигде не была доселе так отчетливо и ясно определена Церковь, ее границы, ее пределы» (XIV, 407).
Хомяков скрывал свое авторство и выдавал написанное им богословское сочинение за найденную где-то древнюю рукопись. Можно допустить, что Гоголь не догадывался, кто был настоящим автором трактата. Однако более вероятным представляется другое — что хомяковский секрет Гоголь все-таки раскрыл (так же, как вскоре это сделал свт. Филарет Московский88). Возможно, и сам Хомяков поделился с Гоголем своей тайной, только просил никому более ее не разглашать. К такому выводу подводит сразу несколько соображений.
Во-первых, обращает на себя внимание то, что в предыдущем письме к Толстому, от 27 июля (н. ст.) 1847 г., — тоже из Остенде, но еще до приезда туда Хомякова («Через неделю или полторы приедет сюды Хомяков, который собирается <…> в Лондон…»; XIV, 379), — Гоголь, не упоминая о трактате, говорит об искусных полемических навыках Хомякова, которые могут быть использованы в конфессиональных спорах: «Хомяков может, по моему мнению, больше, чем кто-нибудь другой, поговорить с англичанами толково о Православии» (XIV, 379). Во-вторых, в письме от 7 августа — уже на следующий день по приезде Хомякова в Остенде — Гоголь вновь называет «англичан», — и на этот раз в качестве прямого адресата, кому может быть предназначен трактат «Церковь одна». По словам Гоголя, трактат может «сильно подействовать на немцев и англичан» (XIV, 407). Вероятно, Хомяков показал (или передал Гоголю для переписки) свое сочинение еще в Эмсе, где они вместе провели четыре дня с 13 по 16 июля (н. ст.) 1847 г.89 (14 июля в Эмс приехал также В. А. Жуков-ский90). Но Толстому в Париж Гоголь, оберегая секрет, сообщил о рукописи (которой с ним поделился в Эмсе Хомяков) не сразу, а только по переезде из Эмса в Остенде. По-видимому, первоначально он не хотел упоминать о трактате, но затем передумал и сообщил, однако все-таки без указания авторства — как о найденной Хомяковым древней рукописи.
Жуковский в конце 1847 г. писал Хомякову о сочинении «Церковь одна»: «Видно, что я за живое зацепил вашу Русскую совесть, любезнейший Алексей Степанович, что вы с такою Немецкою аккуратностью исполнили свое обещание, данное мне в Эмсе (речь идет о том самом времени проживания Жуковского в Эмсе в июле 1847 г., где он общался одновременно и с Хомяковым, и с Гоголем. — И. В. ). <…> …Я получил от вас известную вам рукопись… <…> Я все стою на том, что надо ее перевести на Немецкий (а не на Французский язык) и напечатать в Германии»91. За несколько месяцев перед тем Гоголь в письме к Толстому от 7 августа тоже писал о трактате в связи с предполагаемыми его переводами на немецкий и французский языки, употребляя почти те же выражения, что и позднее Жуковский: «Все в таком виде и в такой логической последовательности, что может сильно подействовать на немцев и англичан. По моему мнению, на французский язык его не следует вовсе переводить…» (XIV, 407).

Портрет Александра Андреевича Иванова. Худ. С. П. Постников, ок. 1873 г.
Одновременно приведенные слова Гоголя о том, что хомяковский трактат своей скрупулезной «логической последовательностью» «может сильно подействовать на немцев и англичан», содержат и вполне определенную скрытую, сдержанную критику этого труда. Это, в свою очередь, служит дополнительным подтверждением того, что Гоголь об авторстве трактата знал. Особенности схоластического мышления — «медленного развития мыслей, <…> без которого немец не ступит шага» (VI, 343) — предмет постоянного обличения Гоголя на протяжении всей его жизни92. В этом писатель не раз упрекал своих друзей из круга Хомякова (приверженцев немецкой философии славянофилов Константина Аксакова и Юрия Самарина93). На этот раз критика коснулась, по-видимому, и самого Хомякова (заявлявшего, в частности, в статье «Англия» о «превосходстве Германии в философии» и о том, что этот «труд продолжается» преимущественно «одной Россиею»; см. ниже). В те же годы в статье «О науке» Гоголь замечал: «У нас <…> всякий скуча- ет, <…> когда ему <…> толкуют то, что он и сам уже смекнул, и не может идти шаг за шагом, так, как идет немец. Отсюда неуспех всякого изложенья науки ходом немецкой философии» (VI, 343–344).
Увлечение славянофилов немецким и в целом европейским новейшим «просвещением» не могло не настораживать Гоголя. Кроме его давней ученицы М. П. Балабиной, страстной почитательницы немецкого романтизма (с которой он полемизировал по этому вопросу на протяжении нескольких лет94), перед его глазами был еще один разительный пример, когда влияние новейшей европейской философии отрицательно сказалось на взглядах близкого ему человека. Гоголь не мог не поразить- ся, сколько невразумительного, подчас еретического, осталось в размышлениях его друга художника А. А. Иванова95, создателя знаменитой картины «Явление Мессии» (1832–1857), после его знакомства и близкого общения в 1832–1833 гг. с московским «любомудром» Н. М. Рожалиным, приехавшим в Рим из Мюнхена после слушания там — вместе с Иваном Киреевским — лекций немецких профессоров.
Неумеренное увлечение московских славянофилов немецкой философией — являющее собой наглядный феномен западничества в славянофильстве — было в те годы вполне очевидно для окружающих и отмечено не одним Гоголем. А. С. Пушкин в 1836 г. в одной из глав незавершенного очерка о Радищеве (напечатанного в отрывках в 1841 г.) подчеркивал: «Философия Немецкая <…> нашла в Москве, может быть, слишком много молодых последователей…»96 Это размышление о немецкой философии не единственное у Пушкина. Еще в 1820-х гг. в «Евгении Онегине» в характеристике своего героя, Владимира Ленского, поэт замечал: «Душой Филистер97 Геттингенский / Красавец, в полном цвете лет, / Поклонник Канта и поэт. / Он из Германии туманной / Привез учености плоды: / Вольнолюбивые мечты…»98 С пушкинскими размышлениями вполне сходна оценка философских плодов «туманной Германии» министра С. С. Уварова, привлекшая к себе в конце 1833 г. одобрительное внимание Гоголя. Характеризуя творчество И. В. Гете, Уваров писал: «…В то время, когда безверие проникло в Германию, когда страсть к отвлеченностям поколебала основания нравственных знаний, Гете <…> бичевал грозным сарказмом их суесловие и пытливость. Среди порывов Кантизма он мало заботился о непроницаемых, темных произведениях Кенигсбергского мыслителя… <…> Фауст <…> представляет собой <…> возвышенную сатиру на страсть немцев копаться в глубинах и пропастях таинственности, <…> страсть, безумно воспитанную трансцендентальною Философи-ею, разрушительное действие коей ускорили позднейшие мудрования»99. В письме к Пушкину от 23 декабря 1833 г. Гоголь дал следующую оценку этому выступлению Уварова: «Я понял его <Уварова> еще более по тем беглым, исполненным ума замечаниям и глубоким мыслям во взгляде на жизнь Гетте» (X, 234). А. И. Герцен, со своей стороны, свидетельствовал: «Германская философия была привита Московскому университету М. Г. Павловым. <…> …Павлов излагал учение Шеллинга и Окена… <…> Станкевич <…> был первый последователь Гегеля в кругу московской молодежи. <…> Круг этот чрезвычайно замечателен, из него вышла целая фаланга ученых, литераторов и профессоров, в числе которых были Белинский, Бакунин, Грановский. <…> Все ничтожнейшие брошюры, <…> где только упоминалось о Гегеле, <…> зачитывались до дыр… <…> Когда я привык к языку Гегеля и овладел его методой, я стал разглядывать, что Гегель гораздо ближе к нашему воззрению… <…> Философия Гегеля — алгебра революции, она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от мира христианского…»100
В 1845 г. Шевырев писал Гоголю по поводу диссертации Константина Аксакова о Ломоносове: «Хороший и большой труд <…>. Но Гегель подпустил дыму, иногда и в мысль, а всего более в слог» (XIII, 198). На это письмо Гоголь отвечал: «Что же касается до диссертации его, то, еще не читая ее, советовал ему не подавать ее, даже уничтожить ее вовсе…» (XIII, 212).
Необходимо подчеркнуть, что диссертацию Аксакова отличает не только ее «немецкий» стиль. В работе юного оппозиционера-славянофила сквозит и «подковерное», подцензурное недоброжелательство к самому Ломоносову. Более откровенно Аксаков излагал свое критическое отношение к ломоносовскому наследию в своих позднейших статьях101. Эти высказывания ничем не отличают Аксакова от его бывшего друга Белинского, который тоже неоднократно, подразумевая глубокий монархизм Ломоносова и Державина, высказывался в их отношении негативно. Показательно, что и брат Константина Аксакова, Иван, называл «18-й век в России, или Екатерининский век» «навозной кучей»102. В отличие от Аксаковых Гоголь, вслед за Пушкиным, подчеркивал глубокую преемственность поэзии XVIII в. с пушкинской музой, а «царствованье Екатерины» — продолжательницы дела Петра — называл «блестящей выставкой первых русских произведений, когда на всех поприщах стали выказываться русские таланты» (VI, 158), выдающейся эпохой, «образы» которой «стоят перед нами колоссальные, как у Гомера» (XII, 125).
Восхищение Хомякова Англией и англичанами — хомяковскими «Угличана-ми»103 — Гоголь с интересом выслушивает, однако англофильские нотки приятеля тоже не разделяет. В той же статье «О науке», написанной задолго до поездки Хомякова в Англию, Гоголь (который в 1847 г. провожал Хомякова в Лондон, а через месяц встречал оттуда) замечал: «Немцу, о чем бы он ни говорил, не отрешиться от немца; <…> англичанину и подавно, более всех нельзя отделиться от своей природы» (VI, 343). Несколько лет спустя, в 1851 г., Гоголь отзывался об англичанах: «Странно, как у них всякий человек особо и хорош, и образован, и благороден, а вся нация — подлец; а все потому, что родину свою они выше всего ставят»104.
Хомякову после его поездки в Лондон была весьма близка мысль о «разумном слитии» в Англии прошлого и современности. В написанной по свежим впечатлениям статье «Англия» он, в частности, замечал: «… Громадная фабрика, грустное явление в целом мире, представляет в Англии какой-то характер смелой Поэзии»105. Эти выводы Хомякова Гоголь тоже подверг своей «ревизии». После хомяковских рассказов он тогда же, в письме от 7 сентября (н. ст.) 1847 г., настоятельно советовал западнику Анненкову: «… Я <…> заметил некоторую неполноту в ваших наблюденьях… <…> Это я приписываю тому, что вы сделали представителем всего для себя Париж и оставили совершенно в стороне Англию, где важная сторона современного дела. <…> Несмотря на чудовищное совмещение многих крайностей106, до такой степени противуположных, что, если бы кто из нас заговори о них обеих вдруг, — могли бы подумать, что оратор хочет служить и Богу, и чорту вместе; несмотря на это, местами является такое разумное слитие того, что доставила человеку высшая гражданственность, с тем, что составляет первообразную патриархальность, что вы усумнитесь во многом, равно как и в том, действительно ли в вас отражается полно вся нынешняя современность» (XIV, 439). В следующем письме к Анненкову, от 20 сентября (н. ст.) 1847 г., Гоголь еще раз вернулся к вопросу о «диких крайностях» Англии — о сосуществовании в ней богатых исторических традиций («в громадных глыбах то, что уже уничтожено в других землях»; XIV, 443) и самого современного настоящего («то, что еще не начиналось в Европе»; XIV, 443). Однако, несмотря на высказанную ранее надежду на мирное сосуществование в этой стране прошлого и настоящего, Гоголь на этот раз решительно подчеркивает, что «чудовищное совмещение многих крайностей» чревато глубокими потрясениями. «По крайней мере, — пишет он Анненкову об Англии, — нужно заглянуть в те мины, где готовятся близкие взрывы» (XIV, 443). Этим Гоголь как бы подсказывает, что, несмотря на «местами» действительно «разумное слитие» в ней древней патриархальности с «высшей гражданственностью», европейская промышленная цивилизация нового времени, независимо от того, в какой стране она развивается, неизбежно входит во все более глубокое противоречие с «первообразной» культурой. Говоря о готовящихся в Англии «взрывах», Гоголь повторяет сказанное им ранее о Европе в целом. В 1842 г. он замечал в «Театральном разъезде…» об «общественных ранах» России: «… Внутри <…> свирепствует болезнь… <…> … она может взорваться…» (III–IV, 450). В 1846-м, в преддверии прокатившейся в конце 1840-х гг. по Европе волны революций, Гоголь добавлял: «В Европе завариваются теперь повсюду такие сумятицы, что не поможет никакое человеческое средство, когда они вскроются, и перед ними будет ничтожная вещь те страхи, которые вам видятся теперь в России» (глава «XXVI. Страхи и ужасы России» «Выбранных мест из переписки с друзьями»; VI, 131).
В последний период жизни Гоголь, как и в прежние годы, когда в 1840–1842 гг. ему случалось бывать в гуще «диалектических» московских споров107, на вечерах Хомякова откровенно скучает108. Свое отношение к этим спорам он вполне выразил в 1846 г. в статье с одноименным названием «Споры» «Выбранных мест из переписки с друзьями». Еще ранее критику пустых, отвлеченных умствований, связанных с радикальными взглядами и политикой, Гоголь воплотил в образах героев «Невского проспекта» и «Записок сумасшедшего». Один из героев, в «Невском проспекте», — вместо должного внимания к своей жене рассуждает «о Лафайете» (III–IV, 39), т. е. о политических событиях во Франции — о «французских делах»; другого, героя «Записок сумасшедшего», — от полезной государственной службы в департаменте «удерживают» размышления об «испанских делах» (III–IV, 170).
С Константином Аксаковым у Гоголя в этот период вообще складывались неприязненные отношения, причиной чего явилось, судя по всему, негативное восприятие приятелем Петербурга и правительства. Взаимная отчужденность возникла между ними еще в 1840 г. — и сохранялась, вследствие разногласий, почти десятилетие. Дошло до того, что в 1849 г. Гоголь, вернувшийся в 1848 г. из-за границы, не был приглашен на именины К. С. Аксакова (21 мая), а двумя неделями ранее сам Константин Аксаков не явился на именины Гоголя (9 мая). В этот период Ольга Семеновна Аксакова неоднократно жаловалась сыну Ивану, что Гоголь постоянно «говорит Консте (старшему сыну Константину. — И. В .) очень резкие вещи» — даже «оскорбляет» его (см. письма О. С. Аксаковой к сыну от 28 ноября 1848 г. и от апреля 1849 г.109). 28 ноября 1848 г. сам Константин Аксаков сообщал брату: «Столкновения мои с Гоголем часто неприятны; в его словах звучит часто ко мне недоброжелательство и оскорбительный тон»110. Неизменным уважением и любовью пользовался в то время у Гоголя Шевы-рев — такой же, как и он сам, славянофил-государственник111.
С Хомяковым Гоголь обсуждал в этот период другие вопросы. Весной 1849 г. в своей записной книжке он пометил: «Вопросы Хомякову: О крестьянах: вольных, господских, казенных и удельных, их внутреннем быте, правлении, правах и преимуществах, состоянии нравственности и духе, как результате [всего] быта» (IX, 698).
В 1850 г. Гоголь стал восприемником при крещении сына Хомяковых Николая (родился 19 января 1850 г.; назван в честь покойного брата Хомяковой, поэта Николая Языкова). Спустя два года, накануне собственной близкой кончины, Гоголь тяжело переживал смерть Хомяковой, жены Алексея Степановича. В то время он говорил, что Псалтирь по усопшей лучше читать самому Хомякову, чем другим лицам, — что «надобно посоветовать Хом<якову> читать самому псалтырь по своей жене, что это для него и для нее будет утешение и что тогда только имеет смысл чтение псалтыря по умершим, когда читают близкие»112. Сам он тоже «читал у себя Псалтирь по покойнице»113.
Смерть самого Гоголя стала «камнем преткновения» и «скалой соблазна» для многих его современников. Даже среди самых близких гоголевских друзей и знакомых его христианское приготовление к смерти породило оценки весьма противоречивые. Мнения о будто бы «неумеренном» пощении Гоголя придерживались в то время крепостной слуга писателя Семен Григорьев114, граф А. П. Толстой115 (хозяин дома, где Гоголь жил последние годы), С. П. Шевырев116, Л. И. Арнольди117. Следуя общим понятиям, такого же убеждения о необходимости для Гоголя послабления поста придерживались, в той или иной степени, М. П. Погодин118, М. С. Щепкин119, В. С. Аксакова120, Ф. Ф. Рихтер121, штаб-лекарь А. Т. Тарасенков122. Откровенно неприязненно интерпретировали последние дни жизни Гоголя А. Д. Галахов123, В. П. Боткин124, Д. Н. Свербеев125, А. В. Никитенко126.
Хомяков тоже был в числе тех, для кого, несмотря на искреннее сочувствие болезни писателя, загадка его кончины послужила к обвинению Гоголя в «религиозном помешательстве». В конце февраля 1852 г. он писал А. Н. Попову: «Смерть моей жены и мое горе сильно его потрясли… <…> С тех пор он был в каком-то нервном расстройстве, которое приняло характер религиозного помешательства. <…> Мягкая душа художника не умела быть довольно строгою, и строгость свою обратила на себя и убила тело»127.
Последнее суждение обнаруживает в Хомякове отнюдь не того глубокого «богослова», каким его, безусловно, по заслугам, принято считать. Аналогичное мнение высказывал в 1854 г. С. Т. Аксаков в своей мемуарной «Истории нашего знакомства с Гоголем…». По-видимому, такое представление было общим для некоторых друзей Гоголя. Подобно Хомякову, Аксаков тоже заявлял, будто причиной смерти писателя стало «постоянное стремление <…> к улучшению в себе духовного человека и преобладание религиозного направления»; по мнению мемуариста, это стремление достигло к концу жизни Гоголя столь «высокого настроения», что стало «несовместимо с телесным организмом человека»128.
По поводу этих строк Аксакова (и, разумеется, косвенно в адрес Хомякова, высказывавшего похожее мнение) известный ученый и духовный писатель Л. А. Кавелин (позднее — архимандрит Леонид, наместник Троице-Сергиевой Лавры) в письме к Петру Киреевскому от 10 августа 1856 г. замечал, что с такими «выводами <…> трудно согласиться»129. Поставив против слов Аксакова вопросительный и два восклицательных знака, Кавелин писал: «… Пока наши писатели не познакомятся с истинным началом Христианской, или же Православно-Хр<истианской> Психологии (писан<иями> Отеческими, преимущ<е-ственно> Св. Исаака Сирина, Лествичника и твор<ениями> отеч<ескими>, помещ<ен-ными> в Филокаллии <Добротолюбии; греч.>), до тех пор они не будут в состоянии выражать ясно свои мысли о дух<овной> стороне человека»130.
Не вполне адекватными, пожалуй, надуманными выглядят последующие размышления Хомякова, решавшего для себя после смерти Гоголя вопрос о его «малороссий-скости». Известно, что сам Николай Васильевич, при неизменной глубокой любви к «малой родине», всегда ощущал себя писателем единой России. 24 октября (н. ст.) 1844 г. на вопрос А. О. Смирновой — «Спуститесь в глубину души вашей и спросите, точно ли вы русский, или хохлик» (XII, 474) — Гоголь отвечал: «… Я, как вам из

Архим. Леонид (Кавелин)
вестно, соединил в себе две природы: хохлика и русского » (XII, 477). Через два месяца, 24 декабря, он опять вернулся к этому вопросу: «… Какая у меня душа, хохлацкая или русская… <…> сам не знаю… <…> Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому пред малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой — явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характеров, чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве» (XII, 559). С этими размышлениями перекликаются также строки Гоголя в его записной книжке 1846–1850 гг.: «Обнять обе половины русского народа, северную и южную, сокровище их духа и характера» (IX, 711).
Хомякову такое понимание гоголевской «общерусскости» давалось с трудом. Хотя в 1839 г. в статье «О старом и новом» он замечал, что вследствие вызванного нашествием кочевых орд Азии оттока русского населения в глубь страны «Север и Юг смешались, проникнули друг в друга, и началась в пустопорожних землях, в диких полях Москвы, новая жизнь, но уже не племенная и не окружная, но общерусская»131, однако в отношении к современной и исторической Малороссии его мысль оказывается не столь внятной.
Над вопросом о гоголевских корнях — прежде всего над тем, какое отражение они нашли в творчестве писателя, — Хомяков задумывался еще в 1842 г. По поводу упомянутой брошюры Константина Аксакова о «Мертвых душах» он писал автору: «…Вы совершенно правы, сказав, что М<алая> Россия получила возможность полного выражения, только подчинив себя в<елико>-русскому началу; но вы не сказали ничего лестного для М<алой> России, а она заслуживает особую похвалу. Она имеет то, чего мы не имеем, да и иметь не будем: большую грацию, большую склонность к объективности, большую художественность. Сравнение В<елико>-России с головою справедливо, но унизительно для других областей. Быть может, ее скорее можно сравнить с высшими органами головы по черепословию. В них низшие органы получают свою общую гармонию; но они не заключают в себе весь смысл головы»132.
Несмотря на стремление к объективности, Хомяков обнаружил позднее, после смерти Гоголя, досадную подозрительность в оценке его наследия. В 1859 г. Хомяков заявлял, что Гоголь, «искренний коренной Малоросс», явивший «в первых своих творениях» «глубокую и простодушную любовь» к Малороссии, был «в иных отношениях <…> к нам, Великоруссам»133. По утверждению Хомякова, «любовь» Гоголя к Великороссии «была уже отвлеченнее», чем любовь к Украине, что «она была более требовательна, но менее ясновидяща»: «Она выражалась характером отрицания, комизма…»134
При всем глубоком уважении к оригинальным взглядам мыслителя-славянофила, следует со всей определенностью подчеркнуть, что в оценке «малороссийской» и «великороссийской» составляющих в гоголевском творчестве Хомяков серьезно ошибался. Вопреки его заявлению, факты говорят о том, что своих земляков Гоголь обличал не менее, а подчас и более сурово, чем жителей Великороссии. Имеются многочисленные свидетельства о том, что прообразами гоголевских «сатирических» типов, даже в произведениях «общероссийского» характера, часто становились его земляки. Не подлежащая сомнению любовь Гоголя к родному краю, к Малороссии, не помешала писателю быть объективным в критике отдельных уроженцев и обитателей Украины.
Еще в 1834 г., т. е. в так называемый «ранний» период своего творчества, Гоголь, имея в виду недостойных чиновников из своих земляков, писал о них как о «низких разночинцах», которые, по его оценке, несмотря на занимаемые ими высокие посты и государственные должности, дворянского звания были недостойны. В «Старосветских помещиках», говоря о благородстве «всех малороссийских старинных и коренных фамилий», Гоголь одновременно обличал «низких малороссиян, которые выдираются из дегтярей, торгашей, наполняют, как саранча, палаты и присутственные места, дерут последнюю копейку с своих же земляков» и «наводняют Петербург ябедниками» (I–II, 282–283). Кстати заметить, один из гоголевских соучеников по Нежинской гимназии, Е. П. Гребенка, приехавший в Петербург в конце 1833 г., в письме к школьному приятелю Н. М. Новицкому сообщал: «Петербург есть колония образованных малороссиян. Все присутственные места, все академии, все университеты наводнены земляками…»135
Свидетельства о том, что чрезвычайно значительная часть героев Гоголя имеют украинские корни, весьма многочисленны. В 1901 г. исследователь украинской культуры В. А. Чаговец отмечал: «Многие боялись попасть в <…> чудную кунсткамеру Гоголевских типов, но лучшие экземпляры не избежали этой участи, и в произведениях Н<иколая> В<асильевича> в свое время можно было узнать много современников. Недаром Полтава так недружелюбно относилась к творцу Ревизора и Мертвых душ»136.
Еще в 1843 г. В. С. Аксакова писала родственнице: «Малороссияне вообще, а особенно в Миргороде, разумеется, терпеть не могут Гоголя за то, что он их вывел в смешном виде, и говорят, что и „Мерт<вые> Души“ писаны на них же»137.
В 1901 г. В. А. Гиляровский, тоже имея в виду героев «Мертвых душ», указывал: «Оказывается, и посейчас Украйна кишит типами, встречающимися в произведениях писателя»138. Ранее, в 1889 г., Гиляровский записал рассказ о Гоголе 75-летней уроженки Сорочинец — Софьи Захаровны Королевой: «„Скажите, Ольга Захаровна, любили здесь Гоголя, после того как его произведения появились в печати?“ — „Далеко не все. Кто попал к нему под перо, те не любили, вот как не любили! Особенно миргородские чиновники ненавидели: ведь весь ‘Ревизор’ с них целиком списан“. — „А вы помните тех лиц, с кого он писал?“ — “Двоих лично знала <…>, портреты верные были“«139. Опираясь на это свидетельство, Гиляровский указывал, что в Миргороде «целиком, с натуры, были списаны действующие лица» не только «Мертвых душ», но и «Ревизора»140.
Литератор и искусствовед Д. А. Пахомов в 1909 г. тоже писал, что те типы «провинциальных помещиков и чиновников», которые Гоголь вывел в «Мертвых душах» и «Ревизоре», будущий писатель подсмотрел «как в доме отца, так и одного богатого родственника Трощинского»141. Пахомов утверждал: «Собакевич, Ноздрев, Плюшкин, Коробочка, Сквозник-Дмухановский, Земляника, Тяпкин-Лапкин — все это действительно существовавшие лица, обработанные гениальным творчеством Гоголя в бессмертные типы»142.
А. С. Данилевский, друг Гоголя с семилетнего возраста, указывал, что в характеристике помещика, живущего, в противоположность Плюшкину, во всю ширину русской удали и барства (в шестой главе «Мертвых душ»), «нельзя не узнать так близко знакомого Гоголю в детстве Д. Пр. Трощинского»143. (Кстати добавить, что и в «Ревизоре» в просьбе отставного чиновника Коробкина к Городничему, собирающемуся в Петербург, можно тоже обнаружить отражение «домашних» для Гоголя реалий, а именно отголосок просьбы, обращенной в 1828 г. овдовевшей матерью Гоголя к упомянутому влиятельному родственнику Трощинскому, написать в Петербург рекомендательное письмо для сына: «В следующем году повезу сынка в столицу на пользу государства, так сделайте милость, окажите ему вашу протекцию, место отца заступите сиротке»; III–IV, 294.)
Сама афера с закладом в казну «мертвых душ», изображенная в гоголевской поэме, имеет отчетливые малороссийские корни. Свидетельством тому служат сразу несколько фактов: письмо отца Гоголя, Василия Афанасьевича, Трощинскому, относящееся к средине 1810-х гг.144; указание гоголевского школьного приятеля П. И. Марто-са145; факты, собранные Гиляровским146.
Упомянутый выше украинский общественный деятель Савич (приятель Тараса Шевченко), встречавшийся с Гоголем в Одессе в 1850 г., говорил даже, что «сам лично знал тех лиц в Полтавщине, с кого Гоголь нарисовал Чичикова, Коробочку и другие свои типы»: «… Чичиков <…> — это был предводитель дворянства в Полтавском уезде, скупал у разных помещиков мертвые души и заложил в Опекунский Совет… Коробочка — была в Зеньковском уезде, а также и в Миргородском»147.
Родом из «Екатеринославской губернии» был, согласно черновой редакции «Ревизора», Хлестаков148. По воле своего создателя этот герой носит фамилию вполне опре деленного украинского происхожд ения. В связи с его «распекательной» для уездных

чиновников функцией находится одно из выражений гоголевского собрания «Пословиц, поговорок, приговорок и фраз малороссийских» в «Книге всякой всячины, или подручной Энциклопедии»: «Хльосту дать (розгами высечь)» (IX, 556). Согласно замыслу автора, фигурой «ничтожного» Хлестакова наказывает в «Ревизоре» проворовавшихся чиновников Сам Бог. Об этом в пьесе говорит сам Городничий: «Вот, подлинно, если Бог захочет наказать, так отнимет прежде разум» (III–IV, 299). Гоголь повторяет эту мысль от своего имени в черновых набросках «Театрального разъезда…», написанных вскоре после первой постановки «Ревизора»: «…Отнял Бог разум у тех, у которых его достало <только> на то, чтобы превратно толковать <закон>…»149 В этом свете фамилия героя — Хлестаков, через которого осуществляется возмездие, прямо перекликается с конкретным употреблением украинского слова «хльост» в «Вирше, говоренной гетьману Потемкину запорожцами на Светлый праздник Воскресения» в той же гоголевской «Книге всякой всячины…»:
Хлестаков. «Дав Бог хлости…» (IX, 503).
Худ. П. М. Боклевский, 1860-е гг. Замечание в черновой редакции слуги
Хлестакова Осипа, что от дороги между Петербургом и родовым имением барина осталось «всего треть верстов» («треть верст»)150, указывает, в свою очередь, что само действие комедии разворачивается ближе к югу России — южнее Тулы, где Хлестакова обыграл пехотный капитан151, т. е. в Орловской или Курской губерниях — в одном из трех уездных городов этих мест, через которые проходил почтовый тракт, — в Мценске, Обояни или Белгороде152. В 1835 г. городничие были только в двух последних городах (майор А. П. Муха — в Обояни, и лейб-гвардии поручик А. И. Выходцев, участник Бородинского сражения, — в Белгороде). В Мцен-ске эту должность исполнял полицеймейстер штаб-ротмистр И. А. Сементовский153. В окончательной редакции «Ревизора» маршрут следования Хлестакова смещается восточнее, через Пензу в Саратовскую губернию (III–IV, 229, 237). (Очевидно, эта перемена была мотивирована другим соображением Гоголя: она призвана подчеркнуть нежелание Хлестакова жить в глуши, в отцовской «деревне», «с мужиками» (где, по его словам, «помещики тоже не имеют образованности»; VII, 403). Гоголь напоминал этим реплику грибоедовского героя в «Горе от ума», обращенную к дочери: «Не быть тебе в Москве, не жить тебе с людьми; <…> В деревню к тетке, в глушь, в Саратов! / Там будешь горе горевать, / За пяльцами сидеть, за святцами зевать!»154). На пути из Пензы в Саратов единственным уездным городом, где проходил почтовый тракт, был Петровск. Здесь городничим в 1823–1838 гг. был майор И. Д. Хардин, потомственный дворянин, тоже участник войны 1812 г.155
Тем не менее, несмотря на эти орловско-курские и саратовские реалии комедии, установлено, что для гоголевских «сатирических» образов сразу двух городничих и двух уездных судей (в Повести о ссоре и в «Ревизоре») наиболее вероятными прототипами являются гораздо более близкие Гоголю лица — хорошо знакомые ему миргородские чиновники С. О. Браилко, К. П. Носенко, И. А. Янкевич и В. Я. Ломиков-ский156. Отдельные черты этих и других героев Гоголь также почерпнул у своих земляков: у миргородского почтмейстера И. Г. Мамчича, у своих родных деда и прадеда, А. Д. Гоголя-Яновского и М. В. Косяровского, а также у двоюродного дяди И. П. Кося-ровского. Лишь в недавнее время было доказано, что прообразом помещицы Пульхерии Ивановны в «Старосветских помещиках» стала мать писателя, Мария Ивановна Гоголь157. Отмечалось также, что в образе Плюшкина в «Мертвых душах» нашли отражение отдельные черты, присущие двоюродной тетке Гоголя по матери — А. М. Лукашевич (урожд. Косяровской)158.
Свидетельство об украинских прототипах героев Гоголя появилось еще в 1841 г. в рассказе Н. Ковалевского «Гоголь в Малороссии» (с подзаголовком «Уездная быль»). В этом произведении был выведен образ гадячского судьи Онуфрия Лукича Гниды, вспоминающего о полтавской постановке «Ревизора». Согласно другому свидетельству (независимому от рассказа Ковалевского), Гоголь побывал в Гадяче в июле 1835 г. вместе с полтавским гражданским губернатором П. И. Могилевским159; здесь писатель познакомился с реальным гадячским судьей Иваном Прокопьевичем Цацкиным. Возможно, тогдашняя поездка (а при сопровождении губернатора она была для местных чиновников настоящей ревизией), в свою очередь, нашла отражение в замысле «Ревизора». Герои повести Ковалевского, переговариваясь, сообщают следующее: «„… Доложи своему барину, что к нему прiихав — Гоголь“. <…> „Да кто ж это к нам приехал, <…> уж, не ревизор ли?“ „Эге! рассказывай: ревизор! тут такой приехал, что погрозней еще твоего ревизора… <…> Вот… прошедшую зиму… когда я был в Полтаве… Предводитель затащил меня в театр… <…> гляжу — фу ты пропасть! знакомые лица!! Думаю, думаю, что за дьявольщина: по сцене расхаживают не актеры, а наши дворяне? ну вот именно, наши Гадячане!.. Мундиры наши, походка наша, разговоры наши, все обращение наше… один даже из тех дьяволов меня передразнивал!..“«160
Среди разнообразных образов гоголевских произведений характерна связь героя «Ревизора», Растаковского, с еще одним «общероссийским» персонажем писателя — с помещицей Коробочкой в «Мертвых душах», очевидные «малороссийские» черты которой уже отмечали исследователи161. (На то, что Коробочка — «хохлачка», указал впервые в 1844 г. граф Ф. И. Толстой («Американец»); XII, 503.) Растаковского с Коробочкой объединяет их «общий знакомый» — Трепакин — разгульный «квартирмистр», в палатке которого, по рассказу Растаковского, часто оказывались девушки:
«…Наутро денщик выводит, как будто драгуна, в треугольной шляпе… хе, хе, хе… и портупея висит, хе, хе, хе…» (III–IV, 309). Коробочка называет фамилию Трепакина, перечисляя соседей-помещиков: «Бобров, Свиньин, Канапатьев, Харпакин, Трепакин, Плешаков» (V, 45).
Подобно Хлестакову, украинскую фамилию носит еще один из известных «русских» героев Гоголя — майор Ковалев в повести «Нос» (точным русским аналогом фамильного прозвища этого героя является фамилия Кузнецов). Кроме фамилии, на украинские корни Ковалева указывает еще целый ряд черт этого «петербургского» образа. Герой «Носа» имеет чин коллежского асессора. При этом рассказчик замечает, что «Ковалев был кавказский коллежский асессор» (III–IV, 43). Эта оговорка весьма значима. Дело в том, что, согласно правительственным постановлениям (прежде всего указу 1809 г.)162, для получения чина коллежского асессора были необходимы посещение во внеслужебное время лекций в университете и сдача университетского экзамена для оценки готовности кандидата на чин. Непосредственно в связи с этим Гоголь называет героя другой своей петербургской повести, переписчика Башмачки-на, «вечным титулярным советником» (III–IV, 117). К сдаче экзамена на следующий чин, коллежского асессора, тот не готов и готовиться, судя по всему, не собирается. Таким же «вечным титулярным советником» мог бы стать и герой «Носа», если бы не особый правительственный указ, позволивший Ковалеву получить новый статус в обход экзамена. Эти льготные условия предоставлялись чиновникам, служившим на Кавказе. Соответствующее постановление было издано еще в 1803 г. Это именной указ «О повышении чинами отправляющихся в Грузию на службу» (ПСЗРИ. 27: 1072–1073). Положения указа позволяли прибывшему на Кавказ чиновнику получить асессорский чин без сдачи университетского экзамена.
Указ 1803 г. касался прежде всего гоголевских земляков. Для восполнения «крайнего недостатка в канцелярских служителях» служить в Грузию приглашались чиновники прежде всего южных губерний, как ближайших к Кавказу, — Киевской, Полтавской, Черниговской, Екатеринославской и Слободско-Украинской (ПСЗРИ. 36: 500). По получении искомого асессорства чиновники со службы в Грузии в большинстве своем увольнялись («охотно все оставляли»; ПСЗРИ. 36: 290–291). Они либо возвращались на родину, либо в поисках нового места отправлялись, подобно майору Ковалеву, в Петербург. Таков был путь к асессорскому чину (и дорога в столицу) героя «Носа».
Чин коллежского асессора открывал также его обладателю прямой путь к получению дворянского звания. Пушкин в «Путешествии в Арзрум», напечатанном за полгода до выхода в свет гоголевской повести, писал о Кавказе: «Молодые Титулярные Советники приезжают сюда за чином Ассессорским, толико вожделен-ным»163. Еще одним комментарием к образу гоголевского «коллежского асессора» Ковалева служит позднейшее свидетельство К. К. Случевского, посетившего Грузию и описавшего в стихотворении «Коллежские асессоры» (1881) кутаисское кладбище с многочисленными надгробиями «кавказских коллежских асессоров»: «Говорят, что в указе так значилось: / Кто Кавказ перевалит служить, / Быть тому с той поры дворянином, / Знать, коллежским асессором быть… / И лежат эти прахи безмолвные / Нарожденных указом дворян…»164
Очевидно, что «украинец» Ковалев, по Гоголю, даже и получив вожделенное дворянство, остается, по сути, «низким разночинцем» — одним из тех «низких малороссиян, которые выдираются из дегтярей, торгашей»; является характерным представителем гоголевских земляков, «наводняющих Петербург ябедниками» и корыстолюбцами (I–II, 282–283).
Таким образом, факты неоспоримо указывают на то, что в «сатирических» образах Гоголя отразился не только «общероссийский», но и малороссийский колорит — и в весьма немалой степени. В своих произведениях писатель обличал не столько «великороссийские» или «малороссийские» типы по отдельности, но «злокачественных» (I–II, 473) представителей русского дворянства в целом.
Приведенные свидетельства однозначно опровергают мнение Хомякова о том, будто Гоголь как уроженец Украины был к Великой России «в иных отношениях». Гораздо
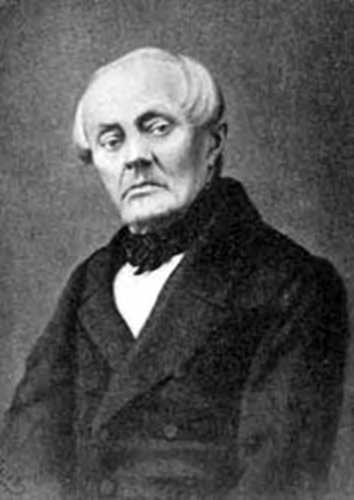
основательней суждение о Гоголе Шевыре- Степан Петрович Шевырев ва — славянофила, как указывалось, куда более близкого писателю по взглядам. Шевырев еще в 1847 г. в связи с выходом в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями» — самой патриотической книги нашей словесности165 — писал: «Мы всегда думали, что Гоголь потому так чудно, так художественно и так искренно, так сильно смеется над пошлостями русского человека, что глубоко чует в нем высшую его породу, славное его назначение, присутствие начал, которые должны в нем создать великое на благо всему миру. Без этого внутреннего, глубокого убеждения, невозможен бы был этот честный смех ни в самом Гоголе, ни в той публике, которая ему в этом сочувствовала и заодно с ним смеялась. Потому-то особенно странны казались нам мнения тех, которые готовы были в Гоголе видеть малороссиянина, неблагосклонного к достоинствам великорусской природы166. Новая книга его разоблачала нам тайну его убеждений… <…> Гоголь обнаруживает много сильных сочувствий к Русскому человеку во всех сословиях, во всех слоях общества»167. По поводу первого тома «Мертвых душ» Шевырев замечал: «…Одна из прекрасных, Христианских сторон Русского характера и Русского духа есть всегдашняя готовность сознавать открыто свои народные недостатки. <…> Так действовал и Петр: тем и велик он, что сознал недостатки своего народа [и] <…> питал <…> веру в славное его грядущее. <…> Да, Россия, как истинный Христианин, чем открытее <…> будет исповедывать внутренние свои недостатки <…>, — тем выше станет <…> перед лицом всех народов…»168
Исповедуемому «народничеству» Хомякова, взглядам, во многом близким к западным социалистическим воззрениям169 (а также похожим воззрениям Аксаковых и других радикальных славянофилов), Гоголь и Шевырев противопоставляли трезвое христианское сознание падшести человеческой природы, понимание необходимости постоянного духовного воспитания и возрастания человека170. Именно с этим, а не с политическими амбициями или какими-либо «украинофильскими» претензиями связаны все духовно-обличительные сочинения Гоголя, в которых объективно ошибочно искали оправдания своего неприятия действительности как западники, так и неумеренные «восточники».
В целом можно сделать вывод, что отличие во взглядах Гоголя и Хомякова заключается в неизменно присущей последнему как представителю радикального славянофильства оппозиционности и столь же устойчивой политической и духовной лояльности, свойственной славянофилу-государственнику Гоголю.
Список литературы А. С. Хомяков и Н. В. Гоголь: проблема взаимоотношений
- Аксаков К. Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова или Мертвые души. М.: Типография Н. Степанова, 1842. 19 с.
- Аксаков К. Москве. (Отрывок) // Москвитянин. 1845. № 2. С. 108.
- [Аксаков К. С.] Ломоносов в истории русской литературы и русского языка. Рассуждение кандидата Московского Университета Константина Аксакова, писанное на степень магистра философского факультета первого отделения. М.: В типографии Николая Степанова, 1846. (Печатать по определению Совета Московского Университета. Декабря 12 дня, 1845 года. Секретарь Совета Василий Спекторский.) 522 с.
- Аксаков К. С. Семисотлетие Москвы // Московские Ведомости. 1846. 23 апр. № 49. С. 344-346.
- Аксаков К. С. Н. М. Языкову. Ответ // Поэты кружка Н. В. Станкевича. Н. В. Станкевич, B. И. Красов, К. С. Аксаков, И. П. Клюшников // Вступ. ст., подготовка текста и примеч. C. И. Машинского. М.; Л.: Советский писатель, 1964. С. 383-384.
- АлленовМ.М. Александр Андреевич Иванов. М.: Изобразительное искусство, 1980. 206 с.
- Анненкова Е. И. Исторический путь и этика православия в концепции А. С. Хомякова и Н. В. Гоголя // Христианство и русская литература. Сборник статей. СПб.: Наука, 1994. С. 209-223.
- Б[артенев] П. Неизданные стихи А. С. Хомякова. Разговор с С. С. Уваровым // Русский Архив. 1863. Вып. 4. С. 303.
- БадалянД.А. А.С.Хомяков, С.С.Уваров и журнальная борьба 1830-1840-х годов // Острова любви БорФеда: Сборник к 90-летию Бориса Федоровича Егорова / ИРЛИ РАН, СПбИИ РАН; Союз писателей Санкт-Петербурга; Редакторы-составители А. П. Дмитриев и П. С. Глушков. СПб.: Росток, 2016. С. 180-190.
- Бадалян Д.А Книга И. С. Аксакова «Биография Федора Ивановича Тютчева»: История создания и цензуры, реконструкция первоначального замысла // От истории текста к истории литературы. Научное издание / Отв. ред. М. И. Щербакова. М.: ИМЛИ РАН, 2019. Вып. 2. С. 261-304.
- Бартенев П.И. Примечание / Письма А. С. Хомякова // Русский Архив. 1879. Кн. 3. №11. С. 324-325. С. 325.
- Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. 12. 596 с.
- Виноградов И.А. «Спасен я был Государем». Неизвестное письмо Н. В. Гоголя к Императору Николаю Павловичу и его отношение к монархии // Литература в школе. 1998. № 7. С. 5-22.
- Виноградов И.А. Александр Иванов в письмах, документах, воспоминаниях. Научное издание. М.: ИД «XXI век — Согласие», 2001. 776 с.
- ВиноградовИ.А. Неизвестные автографы Гоголя // Неизданный Гоголь. Издание подготовил И. А. Виноградов. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2001. С. 3-38.
- ВиноградовИ.А. «Необыкновенный наставник»: И.С.Орлай как прототип одного из героев второго тома «Мертвых душ» // Новi гоголезнавчi студи. Новые гоголеведческие студии / Ин-т литературы им Т. Г. Шевченко НАН Украины; Таврийский нац. ун-т им. B. И. Вернадского; Крымский центр гуманитарных исследований. Симферополь; Киев, 2005. Вып. 2 (13). С. 14-55.
- ВиноградовИ.А. Поэма «Мертвые души»: проблемы истолкования // Гоголевский вестник. Вып. 1. М.: Наука, 2007. С. 99-134.
- ВиноградовИ.А. Обретение жанра: Народная песня и «Тарас Бульба» Гоголя // Н. В. Гоголь и народная культура: Седьмые Гоголевские чтения: Материалы докладов и сообщений Международной конференции / Департамент культуры г. Москвы; Центр. гор. б-ка — мемор. центр «Дом Гоголя» / Под общ. ред. В. П. Викуловой. М.: ЧеРо, 2008. C. 62-80.
- ВиноградовИ.А Н.В.Гоголь и С.С.Уваров: Православие, Самодержавие, Народность // Духовный путь Н. В. Гоголя: В 2 ч. М.: Русское слово, 2009. Ч. 2. С. 184-227.
- Виноградов И.А. Комментарий // Гоголь Н.В. Тарас Бульба. Автографы, прижизненные издания. Историко-литературный и текстологический комментарий. Издание подготовил И. А. Виноградов. М.: ИМЛИ РАН, 2009. С. 385-656.
- ВиноградовИ.А.. Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. Полный систематический свод документальных свидетельств. Научно-критическое издание: В 3 т. М.: ИМЛИ РАН, 2010. Т. 1. 904 с.
- Виноградов И.А Народная песня в творчестве Гоголя // Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. и писем: В 17 т. (15 кн.) / Сост., подгот. текстов и коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. М.; Киев: Изд-во Московской Патриархии, 2010. Т. 17. С. 679-706.
- ВиноградовИ.А СпорК.С.Аксакова и В.Г.Белинского: Культурно-исторические аспекты полемики о жанре «Мертвых душ» // Гоголеведческие студии / Нежинский гос. ун-т им. Н. Гоголя, Гоголеведческий центр; Ин-т литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины. Нежин, 2012. Вып. 2 (19). С. 17-75.
- Виноградов И.А Гоголь о поэзии и схоластике. (К авторскому определению жанра «Мертвых душ») // Творчество Н. В. Гоголя и европейская культура. Пятнадцатые Гоголевские чтения / Под общ. ред. В.П. Викуловой. М.; Новосибирск: Новосиб. изд. дом, 2016. С. 226-233.
- Виноградов И.А «История государства Российского» в творческом наследии Гоголя // А. П. Сумароков и Н. М. Карамзин в литературном процессе России XVIII — первой трети XIX в. М.: ИМЛИ РАН, 2016. С. 141-183.
- Виноградов И.А Отеческое попечение: Император Николай I в судьбе Гоголя // Studia Litterarum. 2016. Т. 1. № 1-2. С. 269-277.
- Виноградов И. А. Гоголь и западное славянофильство: К постановке проблемы // Studia Litterarum. 2017. № 4. С. 182-207.
- Виноградов И.А Космополит или патриот? Концепция патриотизма в спорах с Гоголем и о Гоголе // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск, 2017. Т. 5. № 3. С. 35-69.
- ВиноградовИ. А. Самая патриотическая книга нашей словесности («Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя») // Актуальные вопросы изучения духовной и светской словесности / Ред. М. И. Щербакова. Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького РАН. М.: ИПО «У Никитских ворот», 2017. Вып. 1. С. 77-94.
- ВиноградовИ.А. Славянофильство русское, польское и украинское: Н.В.Гоголь, А. Мицкевич и О. М. Бодянский // Гоголь и славянский мир. Шестнадцатые Гоголевские чтения. М.; Новосибирск: Новосибирский издательский дом, 2017. С. 69-77.
- Виноградов И.А. Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя (1809-1852). Научное издание: В 7 т. М.: ИМЛИ РАН, 2017-2018. Т. 1-7. 736 + 672 + 672 + 704 + 928 + 656 + 640 с.
- ВиноградовИ.А. Литературная проповедь Н.В.Гоголя: pro et contra // Проблемы исторической поэтики. 2018. Т. 16. № 2. С. 49-124.
- Виноградов И. А. Н. В. Гоголь в Одессе. Забытые свидетельства современников (письмо протоиерея Анатолия Корочанского и воспоминания Н. И. Савича) // Литературный факт. 2019. № 1 (11). С. 403-415.
- ВиноградовИ.А. «Когда в товарищах согласья нет.» А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь, С. С. Уваров // Два века русской классики. 2019. Т. 1. № 1. С. 34-103.
- ВиноградовИ.А. Славянофил-государственник. Гоголь в движениях эпохи // Два века русской классики. 2019. Т. 1. № 2. С. 38-63.
- ВиноградовИ.А. Феномен западничества в славянофильстве: взгляд Гоголя // Литературный факт. 2019. № 2 (12). С. 189-224.
- Виноградов И.А. Н. В. Гоголь и законы Российской Империи: к единству наследия писателя // Два века русской классики. 2020. Т. 2. № 2. С. 66-133.
- ВиноградовИ.А. Послужной список Городничего в «Ревизоре». К характеристике политических взглядов Н. В. Гоголя // Литературный факт. 2020. № 1 (15). С. 237-282.
- Виноградов И.А. Неизвестный адресат статьи Н. В. Гоголя «Близорукому приятелю». К 200-летию Ю. Ф. Самарина // Верующий разум. С. 71-91.
- Виноградов И.А. ПсихологизмН.В.Гоголя // Два века русской классики. 2020. Т.2. № 4. С. 6-73.
- Воропаев В.А. «Катехизис необыкновенно замечательный» // Литературная учеба. М., 1991. Кн. 3. С. 129-131.
- Воропаев В.А. Церковь одна: А. С. Хомяков и Н. В. Гоголь // А. С. Хомяков — мыслитель, поэт, публицист: сб. статей по материалам международной научной конференции, состоявшейся 14-17 апреля 2004 г. в г. Москве в Литературном институте им. А. М. Горького. М.: Языки славянских культур, 2007. Т. 1. С. 451-456.
- ВяземскийП.А, князь. Языков. — Гоголь // Санкт-Петербургские Ведомости. 1847. № 90. 24 апр. С. 417-418.
- Герцен А. И.Собр. соч.: В 30 т. М.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. 7. 468 с.
- Гиллельсон М. Неизвестные публицистические выступления П. А. Вяземского и И. В. Киреевского // Русская литература. 1966. № 4. С. 120-134.
- Гиллельсон М.И. П.А. Вяземский. Жизнь и творчество. Л.: Наука, 1969. 392 с.
- Гильфердинг А. Ф. Предисловие к запискам о всемирной истории А. С. Хомякова «Семирамида» («И. и. и. и.») // Полн. собр. соч. Алексея Степановича Хомякова. М., 1873. Т. 4, изданный под редакциею А. Ф. Гильфердинга / А. С. Хомякова Записки о всемирной истории. Ч. 2. (Обзор всемирной литературы). [Пагинация 2]. С. 1-15.
- Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений: В 14т. Л.: АН СССР, 1951. Т.4 / Тексты и коммент. подготовили В. В. Гиппиус, В. Л. Комарович; 1949. Т. 5 / Тексты и коммент. подготовили М. П. Алексеев, Н. И. Мордовченко, А. А. Назаревский, А. Л. Слонимский. 552, 512 с.
- Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. и писем: В 17т. (15 кн.) / Сост., подгот. текстов и коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. М.; Киев: Изд-во Московской Патриархии, 20092010. 664 + 688 + 680 + 744 + 816 + 720 + 968 + 392 + 488 + 704 + 592 + 608 + 624 + 816 + 936 с.
- Гребiнка Е.П. Твори: У 3 т. Ктв: Наукова думка, 1981. Т.3 / Упорядкування i прими-ки I. О. Лучник, А. М. Полотай. 703 с.
- [ГрибоедовА.С.] Горе от ума. Комедия в четырех действиях, в стихах. Сочинение Александра Сергеевича Грибоедова. М.: В Типографии Августа Семена, при Императорской Медико-Хирургич[еской] Академии, 1833. 187 с.
- ДаниловВ.В. Украинские реминисценции в «Мертвых душах» Гоголя // HayKOBi записки. Ижинський державний педагопчний шститут iM. М. В. Гоголя. Чернигов, 1940. Т. 1. С. 77-91.
- [Диккенс Ч., Хомяков А. С.] Светлое Воскресенье. Повесть (посвящена Д. Н. С[вербееву]) // Библиотека для Воспитания. М., 1845. Отд. 1. Ч. 2. [Пагинация 3]. С. 1-159.
- [Долдобанов Г. И., Сидоров И. С.] Хроника жизни и творчества А. С. Пушкина: В 3 т. 1826-1837. М.: ИМЛИ РАН, 2016. Т.3. Кн. 1. 1835 — сентябрь 1836 / Сост. Г.И. Долдобанов, И. С. Сидоров. 872 с.
- Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 14. 512 с.
- Житие Молдавского Старца Паисия Величковского (Житие и подвиги Отца нашего Старца Паисия, Архимандрита Молдавских святых монастырей Нямецкого и Секула; Писания Старца Паисия, Архимандрита Молдовлахийския Нямецкия обители; Оглавление) // Москвитянин. 1844. №4. [Отд. 4]. С. 1-78.
- Жихарев М. Петр Яковлевич Чаадаев. Из воспоминаний современника // Вестник Европы. 1871. № 9. С. 44-45.
- Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа (Критика европейской культуры у русских мыслителей). Paris: YMCA-Press, [1926]. 292 c.
- Зеньковский В., проф., прот. Н.В. Гоголь. Париж: YMCA-Press, [1961]. 262 c.
- Зуммер В. М. О вере и храме А. Иванова. С IV таблицами (42 снимка). Издание журнала «Христианская Мысль». Киев, 1918. 60 с.
- Ковалевский Н. Гоголь в Малороссии. Уездная быль // Пантеон Русского и всех Европейских театров. 1841. Ч. 1. № 1. Отд. 2. С. 16-29.
- Кошелев А. И. Мои воспоминания об А. С. Хомякове // Записки Александра Ивановича Кошелева (1812-1883 годы). С семью приложениями / Издание подготовила Т. Ф. Пирожкова. М.: Наука, 2002. С. 345-351.
- Кошелев В.А. «Мертвые души» Н. В. Гоголя в трактовке ранних славянофилов // Русская литература. 1976. № 3. С. 82-100.
- КошелевВ.А. Гоголь и Хомяков (о принципах соотнесенности) // Микола Гоголь i свиова культура (Мaтерiaли мiжнaродноi нayковоi конференцп, присвяченоi 185^ччю з дня народження письменника). Ктв; Шжин, 1994. С. 150-152.
- Кошелев В. А., Серебренников Н. В. Примечания. «Семирамида». Исследования] и[стины] и[сторических] и[дей] // Хомяков А. С. Соч. / Вступ. ст., сост. и подготовка текста В. А. Кошелева. Примеч. В. А. Кошелева, Н. В. Серебренникова, А. В. Чернова. Ред. Е.В. Харитонова: В 2 т. М.: Московский философский фонд; Изд-во «Медиум», 1994. Т. 1. С. 535-574.
- КошелевВ.А. Хомяков и Гоголь // А.С. Хомяков: Личность — творчество — наследие. Хмелитский сборник / Гос. музей-заповедник «Хмелита». Смоленск, 2004. Вып. 7. С. 233-257.
- Кошелев В. А. Алексей Степанович Хомяков, жизнеописание в документах, в рассуждениях и разысканиях. М.: Новое литературное обозрение, 2000. 512 с.
- КошелевВ.А. Об одной университетской лекции Гоголя // Новые гоголеведческие студии. Шжин, 2007. Вып. 5 (16). С. 102-113.
- Кулиш П. А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем. Издание подготовил И. А. Виноградов. М.: ИМЛИ РАН, 2003. 704 с.
- Лавеле Э, де. Балканский полуостров / Пер. с фр. с примеч. и доп. Н. Е. Васильева. Издание Н.Т. Солдатенкова. М.: Типография В.В. Исленьева, 1889. 1122 с.
- [ЛебедевК.Н.] Из записок сенатора К.Н.Лебедева // Русский Архив. 1910. №12. С. 542-582.
- Линтур П. В. Влияние русской литературы на творчество закарпатских писателей XIX века // Hayковi записки Ужгородського державного ушверситету. 1956. Т. 20. С. 131-146.
- МартыновВ.А. У истоков «русской идеи»: жизнь и судьба С.П.Шевырева. М.: Форум, 2013. 280 c.
- Месяцеслов и Общий штат Российской Империи на 1835. СПб., [1835]. Ч. 2. 428 с. Памятные даты России. К 160-летию со дня кончины А. С. Хомякова (1804-1860) 67
- Мурзакевич Н.Н. Автобиография. СПб.: Типография В. С. Балашева, 1889. 233 с.
- Недзельский Е. Очерк карпато-русской литературы. Ужгород, 1932. 292 с.
- [Петр Цетинский]. Святой Петр Цетинский — патриарх нового времени / Пер. с серб.: С. А. Луганская, Г. В. Рачук, М. Тодич, И. М. Числов. М.: Сибирская Благозвонница, 2015. 621 с.
- Письма к А. С. Хомякову // Русский Архив. 1884. Кн. 3. № 5. С. 221-229. С. 228.
- [Погодин М. П.] Письмо Ординарного Профессора Московского Университета Погодина к Г. Министру Народного Просвещения из Германии, от 7/15 Сентября 1835 года // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1835. № 9. Сентябрь. Отд. 6. С. 544-552.
- Полевой П. Н. Век нынешний и век минувший. (Из очерков будущей истории литературы) // Исторический вестник. 1887. №4. С. 169-186.
- Полн. собр. законов Российской Империи. Собрание первое. СПб.: Печатано в Типографии II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Т. 30. 1404 с.
- Почтовый дорожник, или Описание всех почтовых дорог Российской Империи, Царства Польского и других присоединенных областей, в трех частях, с принадлежащими к оному таблицами, росписаниями, почтовыми картами и другими сведениями. Издан от Почтового Департамента сообразно с последовавшими переменами вторым тиснением. СПб., 1829. 475 с.
- Пушкин А. С. Евгений Онегин, роман в стихах. Сочинение Александра Пушкина / Глава вторая. М., 1826. 42 с.
- Пушкин А. Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года // Современник, литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным. СПб.: В Гуттенберговой Типографии, 1836. Т. 1. С. 20-84.
- Пушкин А. С. Москва // Соч. Александра Пушкина. СПб.: В типографии И. Глазунова и Ко, 1841. Т. 11. С. 13-18.
- Пыпин А. Н Русское славяноведение в XIX-м столетии // Вестник Европы. 1889. № 7. С. 238-274.
- Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель. — Писатель. М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1913. Т. 1. Ч. 1. 616 с.
- Савва Бабинец, епископ Мукачевский и Ужгородский. Схиархимандрит Алексий (Ка-балюк) (1877-1947) // Журнал Московской Патриархии. 1979. № 1. С. 18-20.
- [Самарин Ю. Ф.] Сочинения Ю. Ф. Самарина: [В 12 т.] М.: Товарищество типографии А. И. Мамонтова, 1911. Т. 12. Письма 1840-1853. 478 с.
- Сахаров В.И. Гоголь и А. С. Хомяков в мемуарах В. И. Хитрово // Лит. Россия. 1994. 24 июня. № 25 (1637). С. 6.
- Симонова И.А. Федор Чижов. М.: Молодая гвардия, 2002. 335 с.
- Случевский К.К. Коллежские асессоры // Случевский К.К. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст., составл., подгот. текста и примеч. Е. А. Тахо-Годи. СПб.: Академический проект, 2004. С. 233-234.
- Соловьев Вл. Из воспоминаний. Аксаковы // Иван Аксаков в воспоминаниях современников / Сост., предисл. и коммент. Г. Н. Лебедевой. Отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2014. С. 193-201.
- Срезневский И. И. На память о Бодянском, Григоровиче и Прейсе, первых преподавателях славянской филологии // Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. 1878. Т. XVIII. № 6. С. 1-47.
- Толстой А.К. Поток-богатырь // Толстой А.К. Собр. соч.: В 4т. М.: Правда, 1969. Т. 1. С. 294-301, 637-638.
- Уваров С. С. О Гете. В торжественном собрании Императорской С. Петербургской Академии Наук читано Президентом Академии. Перев. с фр. И. Давыдов. М.: В Университетской типографии, 1833 (цензурное разрешение 13 окт.). 29 с.
- Хомяков А. Иностранка // Европеец. 1832. № 2. С. 257-258.
- Хомяков А. Ей же. [А. О. Россет] // Европеец. 1832. № 2. С. 259.
- Хомяков. Письмо в Петербург о выставке // Москвитянин. 1843. № 7. С. 211-222.
- Хомяков А. С. Опера Глинки Жизнь за Царя // Москвитянин. 1844. № 5. С. 98-103.
- Хомяков А. Письмо в Петербург // Москвитянин. 1845. № 2. С. 71-86.
- [Хомяков А. С.] Мнение иностранцев о России // Москвитянин. 1845. № 4. С. 21-48.
- [Хомяков А. С.] Мнение русских об иностранцах. Письмо к приятелю А. Хомякова // Московский Литературный и Ученый Сборник. М.: В типографии Августа Семена, 1846. С. 145-198.
- Хомяков А. С. О возможности Русской художественной школы // Московский Литературный и Ученый Сборник на 1847 год. М.: В типографии Семена, 1847. С. 319-358.
- [Хомяков А. С.] Англия. Письмо А. С. Хомякова // Москвитянин. 1848. № 7. С. 1-38.
- Хомяков А. С. Картина Иванова. Письмо к редактору // Русская Беседа. 1858. Т. 3. С. 1-22.
- Хомяков А. С. Речь по случаю возобновления публичных заседаний Общества [любителей Российской словесности], читанная председателем в публичном заседании, Марта 26, 1859 г. // Русская Беседа. 1860. № 1. С. 8-19.
- [ХомяковА.С.] Полн. собр. соч. Алексея Степановича Хомякова. М., 1871. Т.3, изданный под редакциею А. Ф. Гильфердинга / А. С. Хомякова Записки о всемирной истории. Ч. 1. 522 с.
- Хомяков А. С. О старом и новом // Полн. собр. соч. А. С. Хомякова: [В 8 т.]. М.: Университетская типография, 1900. Т. 3. С. 11-29.
- Хомяков А. С. К Рос[сет] (А. О. Смирновой) // Полн. собр. соч. А. С. Хомякова: [В 8 т.] М.: Университетская типография, 1900. Т. 4. С. 409.
- ХомяковА.С. Политические письма 1848 года / Публ. и примеч. В.А. Кошелева // Вопросы философии. 1991. № 3. С. 109-132.
- ХомяковА.С. «Семирамида». Исследования] и[стины] и[сторических] и[дей] // Хомяков А. С. Соч. / Вступ. ст., сост. и подготовка текста В. А. Кошелева. Примеч. В. А. Кошелева, Н. В. Серебренникова, А. В. Чернова. Ред. Е. В. Харитонова: В 2 т. М.: Московский философский фонд; Изд-во «Медиум», 1994. Т. 1. С. 17-446.
- ХомяковАС. Несколько слов о философическом письме (напечатанном в 15 книжке «Телескопа») // Хомяков А. С. Соч. / Вступ. ст., сост. и подготовка текста В. А. Кошелева. Примеч. В. А. Кошелева, Н. В. Серебренникова, А. В. Чернова. Ред. Е. В. Харитонова: В 2 т. М.: Московский философский фонд; Изд-во «Медиум», 1994. Т. 1. С. 449-455.
- Цимбаев Н.И. Хомяков и социализм // А. С. Хомяков. Проблемы биографии и творчества. Хмелитский сборник. Смоленск: Смоленский гос. пед. ун-т, 2002. Вып. 5. С. 20-26.
- Шевырев С. Взгляд Русского на современное образование Европы // Москвитянин. 1841. Ч. 1. №1. С. 219-296.
- Шевырев С. Критический перечень произведений Русской Словесности за 1842 год // Москвитянин. 1843. № 1. С. 274-298.
- Шевырев С. Выбранные места из переписки с друзьями Н. Гоголя // Москвитянин. 1848. № 1. [Отд. 2.] С. 1-29.


