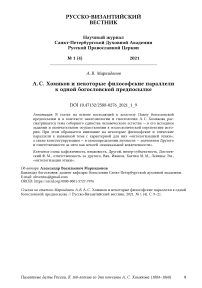А. С. Хомяков и некоторые философские параллели к одной богословской предпосылке
Автор: Маркидонов Александр Васильевич
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: Памятные даты России. К 160-летию со дня кончины А. С. Хомякова (1804-1860)
Статья в выпуске: 1 (4), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе восходящей к апостолу Павлу богословской предпосылки и в контексте экклезиологии и гносеологии А. С. Хомякова рассматривается тема соборного единства человеческого естества - в его исходном задании и окончательном осуществлении в эсхатологической перспективе истории. При этом обращается внимание на некоторые философские и этические параллели к названной теме с характерной для них «онтологизацией этики», а также конституирующим - в самоопределении личности - значением Другого и ответственности за него как некоей «изначальной вовлеченности».
Кафоличность, инаковость, другой, интерсубъектность, достоевский ф. м, ответственность за другого, вяч. иванов, бахтин м. м, левинас эм, «онтологизация этики»
Короткий адрес: https://sciup.org/140294771
IDR: 140294771 | DOI: 10.47132/2588-0276_2021_1_9
Текст научной статьи А. С. Хомяков и некоторые философские параллели к одной богословской предпосылке
В 11-й главе Послания апостола Павла к Евреям есть замечательные слова. «И все сии, свидетельствованные в вере, — говорится здесь о сонме ветхозаветных праведников, подвижников и мучеников, — не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас (χωρις) достигли совершенства» (Евр 11:39–40).
Согласно этим словам Апостола, человеческое существование в модусе «каждый по отдельности» — с различением и противопоставлением «я» и «они», где «я» и «они» врозь (χωρις — «друг без друга»), — превосходится здесь — в замысле Бога и эс-хатоне истории — таким состоянием, в котором «они не без нас» (и «я не без другого»). И поскольку чаемое «совершенство» есть, конечно, преображенное состояние самого естества, то и указанное единство человеческого рода, когда «они не без нас», — имеет не внешний, относительно-функциональный характер, но есть известная онтология, открытая к истории, предполагающая свое историческое свершение.
«Замысел Бога, — пишет Ж.-К. Ларше, — спасение и обожение как каждого человека, так и всего человечества, и в понимании святых отцов одно всегда неотделимо от другого. Так, Ориген говорит, что „есть только одно тело, которое ждет своего искупления“ (Гом. на кн. Левит, 7, 2). Св. Ипполит Римский пишет: „Желая спасения всех, Господь призывает нас быть одним совершенным человеком“ (О Христе и Антихристе, 3)»1.
Самый образ Божий в человеке, предвосхищая грядущее совершенство и ориентируя к нему, усвоивается каждому человеку в модусе его единства со всем человечеством. Особенно определенно говорит об этом св. Григорий Нисский: «Слово, говоря: „Сотвори Бог человека“, неопределенностью обозначения указывает на все человеческое [естество]. Ведь здесь сотворенное не именуется „Адамом“, как в последующем повествовании, но имя сотворенного человека не конкретное, а общее. <…> Ведь образ не в части природы, и благодать ведь не в чем-либо одном из того, что в нем есть, но одинаково по всему роду распространяется эта сила. <…> Потому целое наименовано одним человеком, что для силы Божией — ни прошедшего, ни будущего, но и ожидаемое наравне с настоящим содержится всеокружающею энергией. Так что вся природа, распространяющаяся от первых до последних, есть единый образ Сущего»2.
Человек оказывается изначально, изнутри своего естества, в самой сути своей, в первичном своем определении, — уже «не без другого», но с другими сопряжен в единое целое. И это согласие и сопричастность целому — по существу кафолич-ность — отличает само человеческое естество, как в исходном посыле его первоначального состояния, так и — сквозь историю — в его эсхатологической свершенности. Сотериология совпадает здесь с онтологией. Но совпадает, придавая, усвоивая онтологии открытость к истории, «историчность». Так, согласно Откровению, сначала мы узнаем о повреждении, о распаде первичной целостности, а затем — о восстановлении ее во Христе как Церкви.
Именно Церковь, осознанная как первореальность самого человеческого естества в его кафоличности — как актуализированный, досягаемый изнутри истории образ его (естества) первичного устроения и эсхатологической судьбы, — была для А. С. Хомякова ведущей темой его мысли.
«Мы знаем, — пишет Хомяков в своей книге о Церкви, — когда падает кто из нас, он падает один, но никто один не спасается. Спасающийся же спасается в Церкви как член ее и в единстве со всеми ее членами»3.
Именно в так мыслимой сотериологии — глубинная предпосылка философской мысли А. С. Хомякова, в частности, его антропологии, гносеологии и, конечно, этики. «Первая основная особенность философского творчества Хомякова, — пишет протоиерей В. В. Зеньковский, — состоит в том, что он исходил из церковного сознания при построении философской системы»4. И в свете этого церковного сознания оказывается, как утверждает Хомяков, что «отдельная личность — в состоянии того самого «χωρις» — «друг без друга» — есть совершенное бессилие и внутренний непримиримый разлад»5.
Масштабный в европейской ментальности социально-философский опыт культивирования индивидуальности (именно как «отдельности») опознан здесь, у Хомякова, в своей ущербности, как «бессилие» и «разлад» по отношению к ее (индивидуальности-личности) кафолическому заданию. Не в «отдельности» своей, а в сопричастности собранию всех — при действии в свою меру каждого отдельного члена (ср.: Еф 4:16) — осуществляется полнота личности. Притом церковность в этом случае — не социально-юридическая, не институциальная, но, в первую очередь, внутренняя онтологическая характеристика личности. Ибо «человек находит в Церкви не чуждое что-либо себе. Он находит в ней самого себя, но себя не в бессилии своего духовного одиночества, а в силе своего духовного, искреннего единения со своими братьями, со своим Спасителем. Он находит в ней себя в своем совершенстве, или, точнее, находит в ней то, что есть совершенного в нем самом…»6.
В Церкви человек осуществляется в исконной своей кафоличности — открытости к Другому и, таким образом, в сопричастности Целому. Осуществляется не социально-юридически, не психологически, а прежде всего — экклезиально, т. е., по замечанию протоиерея Г. Флоровского, — «не потому [индивидуум] становится кафолическим, что включается во множественность верующих, но потому, что приобщается единству благодати»7.
Причем важно подчеркнуть, что именно в самой личностности своей человек в Церкви, по интуиции А. С. Хомякова, конституируется и структурируется καθ`ολον — в согласии Целому: не так, чтобы личность , а потом — согласие , но личность изначально — исключительно и только — в согласии. Личностность онтологически не опережает согласия, и тем самым самая онтология личности сотериологически (и на этой основе — этически) обусловлена.
Казалось бы, неделимым и неподвижным центром самоопределения человека должна была выступить вера . Но в философии Хомякова это совершенно недопустимо: вера «центрирует», собирает человека, но тем и тогда именно, когда она, как бы возвышаясь над собою , самую субъектность личности размыкает «в мир объективный, в мир святых реальностей, в такой мир, которого она сама была бы частью…»8.
Удел замкнутого, «разрозненного» человека — лишь субъективное веренье , всегда доступное сомнению и заблуждению. «Веренье, — пишет А. С. Хомяков, — превращается в веру и становится внутренним к Самому Богу только через святость, по благодати животворящего Духа, Коего она дар»9.
Быть, в святости, «внутренним к Самому Богу» — по образу того προς τον Θεον, которым выражены в Прологе Евангелия от Иоанна отношения Лиц во Святой Троице, — это и значит осуществиться в кафоличности, по образу Святой Троицы устроенного, человеческого естества. «Итак, — продолжает Хомяков, — вера есть Дух Святой, налагающий печать свою на веренье. Но эта печать не дается человеку по его усмотрению; она вовсе не дается человеку, пребывающему в своей одинокой субъективности. Она была дана единожды на все века апостольской Церкви, собранной в святом единении любви и молитвы, в великий день Пятидесятницы, и от того времени христианин, человек субъективный, слепой протестант по своей нравственной немощи, становится зрящим кафоликом в святости апостольской Церкви, к которой он принадлежит как ее неразрывная часть»10.
Как личность в своей «отдельности», обособленности — не есть подлинная личность, поскольку обречена на «непримиримый внутренний разлад», так и отдельные способности человеческого естества (разум, воля, чувство) бесплодны или опрометчивы до и помимо своего, нравственно-религиозно окрашенного, согласия в Духе Божием, Который, в свою очередь, «доступен только полноте человеческого духа под вдохновением благодати»11.
Познание Бога, как и всякое истинное познание, согласно А. С. Хомякову, существенно кафолично. «Мысль всей Церкви, — пишет он, — образуется гармоничным слиянием мыслей личных, просвещенных Божественною благодатью»12. Кафолич-ность в горизонтальном, межчеловеческом измерении отзывается и находит для себя соответствие и в измерении вертикальном (во внутриличностном устроении). Так, с одной стороны, «из всемирных законов волящего разума или разумеющей воли (ибо таково определение самого духа) первым, высшим, совершеннейшим является неискаженной душе закон любви. <…> Общение любви не только полезно, но вполне необходимо для постижения истины, и постижение истины на ней зиждется и без нее невозможно. Недоступная для отдельного мышления, истина доступна только совокупности мышлений, связанных любовью»13.
С другой же стороны, «в мире умственном и духовном для разумения истины самый рассудок должен быть согласен со всеми законами духовного мира, не только в отношении к логическому устроению, но и в отношении ко всем своим внутренним живым силам и способностям»14. Поэтому «и личная мысль не простая рефлексия анализирующего и рационализирующего духа; в ней всецело проявляется нравственное существо. Она приемлет научение не только словом, но всею полнотою церковной жизни. Она не итог умозаключений, а совокупность разумных стремлений. Ей служит выражением не только силлогизм выговоренный или силлогизм в мысли, но и созерцание, и сердце сокрушенное, и смирение искреннее, и колена, преклоненные в горячей молитве, и несомненная надежда, что Бог не откажет в истине Своей Церкви, спасенной Им кровию Сына Своего; паче всего она есть взаимная любовь во Иисусе Христе, Едином Подателе силы и мудрости и слова Жизни»15.
Таким образом, в конечном счете, и мысль — в Церкви, во Христе — есть любовь , в которой и разум — волит, и воля — разумеет, а потому, по слову св. Григория Нисского, восходящему к новозаветному основанию и посылу, — «познание совершается любовью»16.
Но главное, — независима от нашей субъективности в так ориентируемом сознании личность другого человека, сохраняющего и даже актуализирующего свою инако-вость в опыте его, с нашей стороны, постижения.
В строгом смысле, именно к другому человеку, к человеку как к другому , должна быть отнесена и такая характеристика познания, согласно которой «полное разумение есть воссоздание, т. е. обращение разумеваемого в факт нашей собственной жизни»19.
Знание как «полное разумение» уже не связано жесткой структурой субъект-объектных отношений, в которых «другой» опознается лишь по аналогии с тем, что и как есть «свое собственное». Другой как «факт» (от латинского: factio — действие) — уже не объект гносеологической похоти, но нас самих формирующее событие внутри «нашей собственной жизни».
Внутренняя экзистенциальная структура субъекта как личности оказывается существенно интер-субъектна: Другой не поддается объективации, не вытесняется на периферию нашего восприятия и, если вглядеться, предваряет и самый момент нашего самосознания. Реальность Другого нарастает в движении от «оно» через «он» к «ты», изначально и требовательно присутствующем в горизонте нашего «я».
Монашеское присловье «Брат твой — жизнь твоя», как и слова Хомякова о том, что «один никто не спасается», многообразно отзываются в последующей философской, этической и художественной мысли.
Обратим внимание, имея в виду увидеть мысль А. С. Хомякова в культурноисторической перспективе, на некоторые из ее отзвуков-откликов. При этом оговоримся, что параллели к осмысленной Хомяковым и укорененной в новозаветном Откровении теме кафолической природы человеческого начала (естества) опознаются нами лишь в первом приближении, в самых общих чертах: уточнение, обнаружение вполне вероятных существенных различий при бросающемся в глаза сходстве — дело более кропотливого специального исследования.
Представляется, к примеру, что именно хомяковская антропология и гносеология в их тесной и необходимой связи с экклезиологией отзываются в учении С. Н. Трубецкого о природе сознания. «Человеческое сознание, — пишет названный автор, — не есть мое личное отправление только, но <…> оно есть коллективная функция человеческого рода. Я думаю также, что человеческое сознание не есть только отвлеченный термин для обозначения многих индивидуальных сознаний, но что это живой и конкретный универсальный процесс. <…> Фактически я по поводу всего держу внутри себя собор со всеми»20.
При этом, продолжает Трубецкой, «утверждаемая отвлеченно, обособленная индивидуальность обращается в ничто; она сохраняется и осуществляется только в обществе, и притом совершенном обществе»21.
Такое «совершенное общество» не есть, однако, институция, которую можно было бы распознать и выверить, а тем менее — учредить, с помощью инструментария социально-юридической науки и политической воли. Это ближе к тому, что называется «организмом любви» и, как таковое, усматривается экклезиологически. Ибо, пишет Трубецкой, «эта любовь, полная и совершенная, заключающая в себе больше, чем все, не есть природный инстинкт человека или личный подвиг его воли, а благодать, независимая от него и вместе дающаяся ему»22.
Таким образом, здесь, подобно тому как и у Хомякова, Церковь как «организм любви» оказывается, одновременно, и первореальностью человечества, и эсхатологическим заданием для его исторических судеб. «Совершенная любовь есть единство всех в одном, сознание всех в себе и себя во всех. Но такая совершенная, божественная любовь не может быть осуществима в каком-либо естественном человеческом союзе: царство ее не от мира сего, она предполагает совершенное общество, богочеловеческий союз, или Церковь »23.
Эта же тема кафолического устроения как онтологической (а потом уже и социальной) характеристики духовной жизни лаконично, но определенно заявлена у С. Л. Франка, который в 1926 г. писал: «Западное мировоззрение берет я за отправную точку мышления, идеализму соответствует индивидуалистический персонализм. Возможна, однако, совершенно другая точка зрения, согласно которой не я , а мы образует последнюю основу духовной жизни. Мы мыслится в этом случае не как внешний, лишь позднее образовавшийся синтез многих я , а как их первичное неразложимое единство, из лона которого произрастает каждое отдельное я и благодаря которому оно только и формируется, утверждая свою свободу и неповторимое своеобразие. <…> Здесь отрицается не свобода и своеобразие личных я, а лишь их разъединенность, самодостаточность и замкнутость. Это, так сказать, „мы-философия“ в противоположность „я-философии“ Запада»24.
С особенной, почти пророческой истовостью и глубиной звучит тема кафолического устроения человеческого естества в творчестве Ф. М. Достоевского. Здесь она обнаруживается, прежде всего, в своем этическом содержании. Притом, что это этическое приобретает модус изначальности, положение первичного основания. Этическое как будто возвращается из узкого горизонта «автономизирующей морали» к своей изначальной нераздельности с полнотой бытия — как ее внутреннее, нравственнорелигиозное условие. Онтологизация этического начала есть у Достоевского — тем самым — и его сотериологизация25.
Вторя А. С. Хомякову с его «никто один не спасается», Достоевский, устами своих героев, доводит эту тему «соборности спасения» до ее предельной этической конкретизации: «Одно тут спасение себе: возьми себя и сделай себя же ответчиком за весь грех людской. Друг, да ведь это и вправду так, ибо чуть только сделаешь себя за все и за всех ответчиком искренно, то тотчас же увидишь, что оно так и есть в самом деле и что ты-то и есть за всех и за вся виноват»26.
Именно изнутри так переживаемой ответственности (вины) за другого и сам он вырастает (или растет, по крайней мере) в полноту своего человеческого достоинства, а значит, не поддается агрессии завершающего и овеществляющего гнозиса. Другой у Достоевского, в полноте и непредсказуемости своей инаковости, уже не дается объективирующему познанию, ускользает в своей незавершенности от какой бы то ни было его тематизации или концептуализации. Познание в этом случае, вместо того чтобы так или иначе, уже самим этим вожделением знать, детерминировать Другого, — напротив, само этически связано в себе, дабы соблюсти Другого в его инаковости. Поэтому, в явном созвучии с гносеологией А. С. Хомякова, художественный реализм Достоевского, как об этом говорит Вячеслав Иванов, «зиждется не на теоретическом познании, с его постоянным противоположением субъекта и объекта, а на акте воли и веры, который соответствует приблизительно Августинову “transcende te ipsum”»27. Сам Достоевский обозначил такое познание словом «проникновение». Вяч. Иванов так раскрывает его глубинный смысл: «Проникновение есть некий transensus субъекта, такое его состояние, при котором возможным становится воспринимать чужое я не как объект, а как другой субъект. Это не периферическое распространение границ индивидуального сознания, но некое передвижение в самих определяющих центрах его обычной координации; и открывается возможность этого сдвига только во внутреннем опыте, а именно в опыте истинной любви к человеку, которая потому есть реальное познание, что она совпадает с абсолютной верой в реальность любимого…»28
Итак, как и у Хомякова, здесь сызнова обретает свое место и значение исконная христианская максима: «Познание совершается любовью».
Но сказанного мало: оказывается, что, в конечном счете, именно восприятие и переживание другого я как нетематизируемого субъекта (и только такое переживание) придает объективность моему собственному бытию. «Символ проникновения, — пишет Вяч. Иванов, — заключается в абсолютном утверждении, всею волею и всем разумением, чужого бытия: „ты еси“. <…> „Ты еси“ — не значит более „ты познаешься мною как сущий“, а — „твое бытие переживается мною как мое, твоим бытием я снова познаю себя сущим“»29. Другой, как другой именно, присутствует на границах моей субъектности как «фактор», эти границы формирующий и — как бы легитимизирующий, а точнее, — пророчески, в общении любви, открывающий и утверждающий самую бытийность моего «я»: «Брат мой есть жизнь моя».
Человек, как он явлен в художественном мире Достоевского, — увиденный в своей ни к чему не сводимой инаковости, как другой, не поддающийся объективации, субъект, — продолжает оставаться главной темой размышлений и у некоторых других, после Вяч. Иванова, истолкователей творчества великого писателя. Так, М. М. Бахтин отмечает, что в художественном космосе Достоевского «человек никогда не совпадает с самим собой. К нему нельзя применить формулу тождества: А есть А. По художественной мысли Достоевского, подлинная жизнь личности совершается как бы в точке этого несовпадения человека с самим собою, в точке выхода его за пределы всего, что он есть как вещное бытие, которое можно подсмотреть, определить и предсказать помимо его воли, „заочно“. Подлинная жизнь личности доступна только диалогическому проникновению в нее, которому она сама ответно и свободно раскрывает себя. Правда о человеке в чужих устах, не обращенная к нему диалогически, т. е. заочная правда становится унижающей и умерщвляющей его ложью, если касается его „святая святых“, т. е. „человека в человеке“»30.
Дело в том, что, с одной стороны, «человек как предмет научного познания в методологическом отношении подобен всем другим объектам познания. Это не „я“, не „ты“ и не „он“. И выводы обобщающего познания совершенно одинаково распространяются и на „я“, и на „ты“ и др.». Но, с другой стороны, «в действительном переживаемом мире только человек, и ни одно явление, кроме человека, всегда дан в формах „я“ и „другого“ („ты“ и „он“)»31.
При этом, отчасти вторя С. Н. Трубецкому в теме «соборности сознания», но опираясь на скрупулезное и во многом проникновенное исследование текстов Достоевского, Бахтин находит возможным определить и самосознание (а не только межличностное общение) как глубинно социальный акт. Ведь, как разъясняет исследователь, «самосознание невозможно без слова, слово же по природе своей существует для другого, хочет быть услышанным и понятым. Ни сознание, ни самосознание не могут обойтись без другого. Одинокое сознание — иллюзия или ложь и узурпация»32.
Экзистенциальная незавершенность и незавершимость личности, ее нетематизи-руемая и необъективируемая инаковость заставляют вспомнить слова псалма: «Приступит человек, и сердце глубоко» (Пс 63:7). Этот «сокровенный сердца человек» (1 Пет 3:4) может открыться только любви, которая одна сопрягает познание с благоговением. А «благоговение, — отмечает М. М. Бахтин, — ведет в самые глубины человеческой жизни и является гарантией ее бездонности и непостижимости. Нравственный характер человека не есть последнее в нем: за ним стоит более высокое бытие, которому человек причастен»33.
Бахтин здесь оправданно различает «нравственный характер человека» и онтологическую («бездонную», «непостижимую») глубину личности. Но в том-то и дело, что, как видно из предшествующего, у того же Бахтина, описания человеческой экзистенции по Достоевскому, сама эта «глубина личности» существенно интерсубъектна, а значит — как онтология этична, так и этика онтологична.
Именно это последнее становится исходной посылкой в философии еще одного из «наследников Достоевского» в 20-м столетии — Эмманюэля Левинаса. «Моя главная мысль, — говорит философ в одной из своих бесед, — заключается в том, что я называю асимметрией интерсубъективности: данная ситуация имеет отношение только к „Я“. По этому поводу я всегда вспоминаю Достоевского. Один из его персонажей говорит: „Мы все ответственны за все и за всех, и я ответствен более, чем все другие“»34. Причем, отмечает Левинас, проясняя характеристику «асимметричности», «отношение к Другому, вопреки Мартину Буберу, не симметрично: когда я, согласно Буберу, говорю Ты другому Я, то передо мною предстоит такое Я, которое также говорит мне Ты; здесь мы имеем отношение взаимности. Я же, напротив, считаю, что отношение к Лицу асимметрично: мне с самого начала не важно, как Другой относится ко мне, это его дело; для меня же он прежде всего тот, за кого я ответствен»35.
Левинас, имея в виду вышеуказанную онтологизацию этики, говорит о ней как о «первой философии». Ибо, отмечает он, «вселенная смысла, представляющаяся мне первичной, есть как раз то, что приходит к нам из межличностного отношения, что рождается из этого отношения, и Лицо со всем тем, что можно обнаружить при анализе его значений, является началом интеллигибельности»36.
Разнореча с Хайдеггером и подчеркивая первичность этического , а тем самым его онтологичность37, Левинас пишет: «Вопрос по преимуществу, первый вопрос — это не вопрос „почему есть сущее, а не ничто?“, а — „имею ли я право быть?“»38.
Мое «право быть» непоправимо запаздывает по отношению к ответственности за бытие Другого. Ибо «ответственность за другого, — говорит Левинас, — прежде моей свободы во внепамятном прошлом, в прошлом, которое не поддается представлению и воспроизведению, которое никогда не было настоящим, которое „старше“, чем всякое сознание чего-либо. Я вовлечен в ответственность за другого тем же исключительным образом, которым тварь, услышав слово еще прежде, чем стать миром и быть в мире, отвечает на fiat книги Бытия»39.
Бытию предпослана, как наиболее «изначальная вовлеченность», ответственность за другого; она находится у истоков нашего самосознания и нашей личностной свершенности. Ибо «ответственность — это индивидуация, сам принцип индивидуации. На место проблемы: «человек индивидуализируется благодаря материи либо форме, — я, — говорит Левинас, — ставлю вопрос об индивидуации через ответственность за Другого. Это довольно сурово: все, что в такой морали связано с утешением, я оставляю религии»40.
Философия, исходящая из первенства этического в отношении к самой интел-лигибельности, должна быть, конечно, преобразована: из способа мысли в образ существования. «Путь, который предлагает Левинас, — пишет об этом А. В. Ямпольская, — заключается в том, чтобы увидеть задачу философствования не как познавательную, а как практическую, как необходимость выстроить определенное отношение с истиной . Разумеется, такая истина уже не может быть истиной (адекватного) познания, которое предполагает, что сам предмет скроен по мерке познающего, что он присутствует перед нами, что он доступен нам. А если предмет не соответствует нашим представлениям о нем — тем хуже для предмета: интенциональность, которую Ле-винас интерпретирует как акт воли, означает, что мы навязываем реальности наши представления о ней, что познание является формой власти над действительностью, формой насилия»41.
Припомним, что уже «полное разумение» у А. С. Хомякова приобретает, в отличие от рационального познания, экзистенциальный характер. По существу, и 18-летний Достоевский осознанно формулирует задачу постижения человека как события своего собственного становления и осуществления. Хорошо известны его слова: «Я в себе уверен. Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком»42.
В дальнейшем и Вяч. Иванов, и М. М. Бахтин, как мы отчасти уже видели, развернуто истолковали: и разрушительную тенденцию объективирующего, овеществляющего познания, и то, руководимое любовью проникновение, которое соблюдает Другого в полноте его — неовнешняемой и не редуцируемой к чему-то уже данному — инаковости.
То и другое мы находим и у Левинаса. С одной стороны, это у него — критика концепции, которая «мыслит отношение к Другому именно в терминах знания: в этом знании, полученном исходя из аналогии между поведением чужого объективно данного тела и моим внутренним поведением, формируется лишь общая идея Я и внутренней жизни. Не хватает именно неразличимой инаковости Другого»43.
«Вслед за Хайдеггером, — замечает по этому поводу А. В. Ямпольская, — Левинас рассматривает познание как разновидность обладания, тем самым обнажая изначально заложенное в стремлении к пониманию стремление к господству, своего рода „волю к власти“, рождение которой он видит уже в греческой философии, в преимуществе Тождественного перед Иным»44.
Но, с другой стороны (хочется сказать, со стороны Другого), Левинас говорит о некоем таинстве Лика, в котором Другой может быть явлен. «Лик, — приоткрывает эту тему философ, — это не качественное данное, эмпирически добавляемое к предшествующей множественности Я, к множественности душевных, психических жизней, к множеству содержимых, складывающихся в единое целое. Лик, властвующий тут над собиранием, устанавливает близость, отличную от той, которая управляет синтезом, объединяющим данные „в“ мир, составляя целое „из“ частей. Лик властвует над мыслью, которая старше и трезвее знания и опыта. <…> В лике нереду-цируемая инаковость другого человека оказывается достаточно сильна, чтобы „сопро-тивляться“ синхронизации ноэтико-ноэматического соответствия и чтобы означать внепамятное и бесконечное , которых не „удержать“ в присутствии и пред-ставлении. Внепамятное и бесконечное, не делающиеся имманентностью, в которой инаковость была бы отдана на откуп пред-ставлению…»45
«Своей „эпифанией“, — комментирует эту тему А. Ямпольская, — лик оказывает мне „этическое сопротивление“: своей наготой, честностью, беззащитностью он противостоит моей власти — не как другая власть, а как утверждение неадекватности моего представления о Другом»46.
Не власть , в какой бы утонченной модальности она не предносилась нашей экзистенции в познании и опыте, но бесконечно предшествующая акту самосознания ответственность за Другого конституирует и нашу собственную личность, — дает жизни жительствовать . Причем, жизненность такой ответственности выверяется мерой нашей готовности соучаствовать в смерти Другого. Ведь, говорит Левинас, «это лицом к лику в его выражении — в его смертности — взывает ко мне, требует меня, обязывает меня, как если бы та невидимая смерть, к которой обращен лицом лик другого, — эта чистая инаковость, некоторым образом отделенная от любой общности, — стала моим личным делом. Как если бы смерть, неведомая тому другому, в наготе лика которого она уже просвечивает, „касалась“ бы „меня“ лично — прежде чем стать смертью, предстоящей мне самому, <…> и как если бы, еще прежде чем я посвящу сам себя служению другому, я должен отвечать за смерть другого человека, за то, чтобы не покинуть его в одиночестве»47.
Подлинное этическое, а тем самым и смыслообразующее значение имеет не наша собственная смерть, а смерть нашего ближнего, Другого, который нуждается в нашей близости. «Значение смерти, — пишет Левинас, — в том конкретном факте, что другого невозможно оставить в одиночестве (перед лицом смерти), значение смерти состоит в запрете его покинуть»48.
«Брат наш есть наша жизнь», — эти слова старца Силуана Афонского, изнесенные из глубины монашеского уединения49 в опыте молитвы за весь мир, были бы близки и Эм. Левинасу.
А изначальной предпосылкой (настолько изначальной , что теряет определяющее значение вопрос о мере сознательности в ее усвоении) — изначальной предпосылкой для религиозно-философского — по почину А. С. Хомякова — осмысления темы «соборного спасения» является, безусловно, Новозаветное откровение, — в частности, в лице апостола Павла свидетельствующее, что «Бог предусмотрел о [ всех ] нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства» (Евр 11:40).
Список литературы А. С. Хомяков и некоторые философские параллели к одной богословской предпосылке
- Антоний, митр. Сурожский. Друг друга тяготы носите // Антоний, митрополит Сурожский. Труды: [В 3 т.] Т. 2. М., 2007. С. 888-895.
- Антоний, митр. Сурожский. Самопознание // Антоний, митрополит Сурожский. Труды: [В 3 т.] Т. 1. М., 2002. С. 289-301.
- Бахтин М. М. Дополнения и изменения к «Достоевскому» // Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 6. М., 2002. С. 301-365.
- Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979.
- Григорий Нисский, св. О душе и воскресении // Восточные отцы и учители Церкви IV века: В 3 т. Т. 2. М.,1999. С. 200-256.
- Григорий Нисский, св. Об устроении человека. СПб., 2000.
- Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 9. М., 1958.
- Достоевский Ф.М. Письмо брату Михаилу // Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 28. Кн. 1. Л., 1985. С. 61-63.
- Зеньковский В.В., прот. История русской философии: [В 2 т.] Париж, 1989. Т. 1.
- Иванов В. Достоевский: трагедия — миф — мистика // Иванов В. Лики и личины России. Эстетика и литературная теория. М., 1995. С. 351-458.
- Ларше Ж.-К. Жизнь после смерти согласно Православной Традиции. М., 2017.
- Левинас Э. Заметки о смысле // (Пост) феноменология. Новая феноменология во Франции и за ее пределами. М., 2014. С. 18-38.
- Левинас Э. Философия, справедливость и любовь // Левинас Э. Избранное: Тотальность и бесконечное. СПб., 2000. С. 356-364.
- Старец Силуан. М., 1994.
- Трубецкой С.Н. О природе человеческого сознания // Трубецкой С.Н. Сочинения. М., 1994. С. 483-592.
- Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Париж, 1983.
- Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1992.
- Хомяков А.С. Еще несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях. По поводу разных сочинений латинских и протестантских о предметах веры // Хомяков А. С. Сочинения: В 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 129-195.
- Хомяков А. С. Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях // Хомяков А. С. Сочинения: В 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 72-128.
- Хомяков А. С. Письмо о философии к Ю. Ф. Самарину // Хомяков А. С. Полное собрание сочинений Алексея Степановича Хомякова: В 8 т. Т. 1. М., 1900. С. 321-349.
- Хомяков А.С. По поводу Гумбольдта // Хомяков А.С. Полное собрание сочинений Алексея Степановича Хомякова: В 8 т. Т. 1. М., 1900. С. 143-176.
- Хомяков А. С. По поводу отрывков, найденных в бумагах И. В. Киреевского // Хомяков А. С. Полное собрание сочинений Алексея Степановича Хомякова: В 8 т. Т. 1. М., 1900. С. 263-288.
- Хомяков А. С. Церковь одна // Хомяков А. С. Сочинения: В 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 5-23.
- Ямпольская А. В. Предисловие к переводу статьи Эмманюэля Левинаса «Заметки о смысле» // (Пост) феноменология. Новая феноменология во Франции и за ее пределами. М., 2014. С. 11-17.
- Ямпольская А. В. Эмманюэль Левинас: философия и биография. К., 2011.