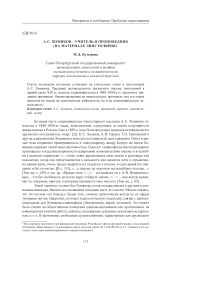А. С. Хомяков - учитель и проповедник (на материале эпистолярия)
Автор: Кузьмина Марина Дмитриевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Материалы и сообщения. Проблемы преподавания
Статья в выпуске: 3, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению установки на учительное слово в эпистолярии А. С. Хомякова. Традиции исповедального дружеского письма, популярной в первой трети XIX в., идеолог славянофильства в 1840-1850-е гг. предпочел традицию проповеди. Ориентированная на евангельскую, проповедь под его пером нацелена не только на христианские добродетели, но и на славянофильскую деятельность.
А. с. хомяков, учительное слово, проповедь, притча, эпистолярий, жанр
Короткий адрес: https://sciup.org/146281484
IDR: 146281484 | УДК: 82-6
Текст научной статьи А. С. Хомяков - учитель и проповедник (на материале эпистолярия)
Большая часть сохранившегося эпистолярного наследия А. С. Хомякова относится к 1840–1850-м годам, десятилетиям, следующим за пиком популярности жанра письма в России. Еще в 1830-е годы была актуальна традиция исповедального дружеского послания (см. подр.: [2]). К. С. Аксаков, А. И. Герцен, Т. Н. Грановский и другие современники Хомякова в молодости отдавали ей дань уважения. Они и в зрелые годы сохраняют приверженность к эпистолярному жанру. Корпус же писем Хомякова поражает своей малочисленностью. Идеолог славянофильства неоднократно признавался в неудовлетворенности жанровыми возможностями письма и в нелюбви к ведению переписки: «…очень ловко рассказывать свои мысли в разговоре или письменно, когда они представляются в цельности или вводятся хотя и отрывочно, но связью речи, очень трудно выразить их отдельно в письме, в одно время без введения и без полноты» [8, с. 311], «…к письму не чувствую ни малейшего позыва…» [Там же, с. 439] и мн. др. «Правда твоя <…>, – соглашался он с А. В. Веневитиновым, – что без особенного дела я не вдруг соберусь писать. <…> …мне всегда нужен, как ты говоришь, крючок, к которому прицепить свое письмо» [Там же, с. 65].
Такой «крючок» нужен был Хомякову, когда он адресовался к друзьям и единомышленникам. Именно им посвящена основная часть его писем. Можно сказать, что это письма «по поводу». Более того, «повод» практически всегда не из сферы эмпирики жизни. Напротив, он имеет идеологическую подоплеку, связан с принципиальными для Хомякова-славянофила убеждениями, верой, позицией. Это может быть отклик на общественное поведение единомышленников или противников, на появившуюся в печати работу, наконец, на неверные суждения, высказанные адресатом, и т. п. В противовес свободным душеизлияниям, характерным для дружеского исповедального письма первой трети XIX в., в эпистолярии Хомякова возобладала установка на учительное слово, письмо-проповедь. В этом, очевидно, сказывались как особенности его личности (достаточно закрытой, не склонной к доверительным признаниям и меланхолии) и возраст (в 1840–1850-е гг. ему более 40–50 лет), так и особенности эпохи. Время «идеалистов тридцатых годов» (П. В. Анненков) осталось в прошлом, наступила пора зрелости и общественного служения. Будучи старше своих корреспондентов-славянофилов (Ю. Ф. Самарина, братьев Аксаковых и др.), занимая положение идеолога славянофильского кружка, Хомяков проповедует, откликаясь в том числе на запросы адресатов. От него ждали ответов.
Та архиважная роль, которую в эпистолярии Хомякова играют элементы жанра проповеди, как очевидно, в немалой степени обусловлена самой ее природой и заложенными в этой последней возможностями. По наблюдению современного исследователя, «среди жестко регламентированных, “канонизированных” жанров богослужебной коммуникации проповедь всегда занимала особое место. Ее своеобразие – в наибольшей степени авторской свободы» [7, с. 228]: это «…комплексный <…> жанр, состоящий из цепочки более мелких жанров» и потому предполагающий гибкие «жанровые переключения» [Там же]. При этом в составе проповеди преобладают дидактические жанры. Являясь комплексным монологическим жанром с установкой на диалог, проповедь близка к эпистолярному жанру, отличающемуся этими же особенностями, и, возможно, в какой-то степени примиряла с ним Хомякова. Последний задействует едва ли не весь спектр жанровых составляющих проповеди – прежде всего наставляет, но также обличает, объясняет, советует, утешает.
Во всем корпусе эпистолярия Хомяков выступает, в сущности, с одной развернутой проповедью – о Христе и о «русской идее». Определяемое мировоззрением автора писем, содержание этой проповеди в основе своей тождественно, к какому бы адресату он ни обращался. Оно достаточно единообразно не только по содержанию, но и по форме.
Проповедуя, Хомяков ставит диагнозы, как духовные, так и светские, как отдельным лицам, своим корреспондентам (например, И. С. Аксакову: «Кажется, ереси в вас нет, а только некоторый маленький стоицизм и боязнь вмешивать Бога в суету жизни земной» [8, с. 365]), так и всей России («Слава Богу, кажется, участь Севастополя решена. <…> …это происшествие, носящее на себе характер жизни, и жизни народной» [Там же, с. 325]). Одновременно указывает путь излечения и развития. Советует А. Н. Попову «…сказать себе не “я хотел бы”, но “я хочу”. Тогда тревога упадет перед решимостью…» [Там же, с. 186]; полагает: «…все общины христианские должны к нам прийти с смиренным покаянием, не как равные к равным, а как владельцы частных истин, которых они ни связать между собою, ни вполне за собою утвердить не могут… <…> Православие не есть спасение человека, но спасение человечества» [Там же, с. 138] и т. п.
В эпистолярии идеолога славянофильского кружка устойчивы императивные и модальные формы (должен / не должен, надобно, не могут и т. п.), примечательно употребление глагола-связки есть / не есть, обычного для философского дискурса и придающего высказыванию характер одновременно авторитетного и универсального умозаключения. Хомяков стремится быть убедительным, приводя систему аргументации, выражая свою уверенность – в том числе в отношении будущего, вследствие чего его суждения принимают вид пророчеств, ср.: «Известие о болезни Самарина меня огорчило, хотя я уверен, что последствий никаких не будет» [Там же, с. 424]; «Запад встрепенется, правда, уже лишенный своей резкой особен- ности…» [Там же, с. 351]; «Россия сильна, непоколебима <…>; но она всегда жила особняком. Так было, есть и будет» [Там же, с. 412] и др. Тем самым в эпистолярии наряду с профанным актуализируется сакральный план содержания. Их сочетание заложено в традициях жанра проповеди.
Сакральное актуализируется в эпистолярии Хомякова не только через суждения-пророчества, но и, в первую очередь, через лейтмотивную тему Бога, во имя Которого автор писем проповедует, именем Которого наставляет и благословляет («С Богом, любезный Юрий Федорович, на новый, неожиданный путь! <…> Да будет воин вооруженным гражданином! С Богом!» [Там же, с. 285]), подобно тому как это делали апостолы и, наследуя им, делают священники. Подобно тем и другим, идеолог славянофильства апеллирует к богодухновенным текстам: Евангелию, Апостолу, Псалтири, – и обращается к высокому стилю, архаичной лексике, использует церковнославянизмы, за счет чего также преподносит свои суждения как сакральные и авторитетные и актуализирует благоговейную тональность, не менее характерную для проповеди, чем учительная (см. подр.: [3; 4, с. 32, 44–45, 62–70; 5]). Он и цитирует, и пересказывает отдельные места Священного Писания, но чаще – немногими словами отсылает к ним. Этого было достаточно для его корреспондентов, людей религиозных и начитанных, чтобы самостоятельно опознать текст и «восстановить» исходный контекст. Вместе с тем автор писем, в соответствии с жанровыми традициями проповеди, помещает слова Священного Писания в новые контексты. Прежде всего – в традициях жанра проповеди проецирует вечное на современные ему и его адресатам ситуации, в очередной раз совмещая сакральный и профанный планы.
Наиболее часто Хомяков апеллирует к Евангелию, заставляя корреспондентов услышать в своих словах слова Христа, Основоположника христианской проповеди. За счет этого высказывание обретает особую авторитетность. Своих адресатов автор писем, таким образом, ставит в положение учеников Христовых, избранных на благовествование миру. Очевидно, по мысли Хомякова, славянофилы в современную эпоху наследуют апостолам, сохраняя верность Богу. Автор писем призывает соратников не опасаться и не стыдиться своей малочисленности. Напротив, противопоставляет эту небольшую группу избранных – огромному количеству погибающих (вероятно, ожидая, что его корреспонденты вспомнят слова Христа о «малом стаде» (Лк. 12: 32) и о немногих, входящих «тесными вратами» – Мф. 7: 13–14). Так, отвечая на сомнения Самарина, Хомяков учит: «Человек не имеет права отступиться от требований науки. Он может с утомления закрыть глаза, насильно на себя наложить забвение, но последующий за этим мир есть гроб повапленный, из которого не выйдет никогда ни жизни, ни живого» [8, с. 239] (ср.: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным (по-церковнославянски: повапленным. – М. К.) гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты…» – Мф. 23: 27-28), «…общество пляшет, дворянство играет в карты, чиновник крадет, поп меняет каноны на гривенники; да ведь это делали всегда; разом не переменишься. И тогда, когда придет Сын Человеческий, разве не то же? Он найдет мир, плетущийся по своим привычным колеям» [Там же, с. 297] (ср.: «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого: ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. <…> …так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится» – Лк. 17: 26–30). Той же цели служит цитата из Псалтири в письме к И. Аксакову: «…нас подрезало равнодушие общества, подобного “аспиду глуху, иже не обавается от премудра”» [Там же, с. 386] (ср.: «Отчуждишася грешницы от ложесн, заблудиша от чрева, глаголаша лжу. Ярость их по подобию змеину, яко аспида глуха и затыкающего уши свои, иже не услышит гласа обавающих, обаваемь обавается от премудра» (Пс. 57: 4–6), в синодальном переводе: «С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждаются, говоря ложь. Яд у них – как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях»), – где по принципу антитезы общество соотносится с грешниками, распявшими Христа иудеями, извергающими, подобно ядовитой змее, яд, славянофилы же – с «искусными заклинателями», тщетно силящимися их образумить словом истины (толкуя этот псалом, свт. Афанасий Великий видел в нем отсылку к ветхозаветному змею, виновнику грехопадения праотцев Адама и Евы, но отмечал, что, пророчествуя об иудеях, распявших Христа, псалмопевец Давид уподобляет их не просто змею, а аспиду, «…у которого на зубах яд, и который не хочет слышать заклинателей и потом отложить свою ярость». Он поясняет: «Говорит же это, потому что иудеи, по слову Исаии, отягчили слух свой, чтобы не слышать им словес Господних (Ис. 6: 10)» [1, с. 209]).
И все же гораздо больше усилий Хомяков прилагает, чтобы безотносительно к состоянию окружающего мира позаботиться о внутреннем мире своих соратников, укрепить их. В целом ряде писем он соотносит деятельность славянофилов прежде всего с сеянием хлеба: «Поле чисто, да его надобно вспахать анализом науки и засеять семенем живым» [8, с. 178], «никто из нас не доживет до жатвы» [Там же, с. 252], «сейте, где можно и сколько можно; где взойдет, никто не возьмется сказать» [Там же, с. 286], «мы с вами увидим хлеб в краске, хотя зеленей настоящих не увидим» [Там же, с. 299], – отсылая сразу к целому ряду фрагментов и нескольким важным образам-символам Евангелия (семя, сеятель, хлеб и др.). Символично, что славянофилы «сеют» именно «хлеб» – несомненно, Хлеб Жизни Вечной. Хомяков вслед за Христом призывает соратников «сеять», «где можно и сколько можно», отсылая прежде всего к знаменитой притче о сеятеле. Вслед за Евангельским Сеятелем, бросающим семена на всякую почву, Хомяков призывает соратников всем и всюду проповедовать истину, не ожидая ни быстрого отклика, ни награды в земной жизни. Очевидно, их радость должно составлять то, что они служат Богу, наряду с апостолами совершают дело благовествования миру. Христос говорил ученикам: «…возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут…» (Ин. 4: 35–36). Но если Он посылал апостолов «жать» то, что было «посеяно» другими, то Хомяков видит необходимость в современной ему России именно «сеять», причем на «непаханом», «чистом» «поле» [Там же, с. 178], то есть начинать практически с нуля, возложив на плечи тяжкое бремя. «Жать» же, причем в отдаленном будущем, предстоит их преемникам, а самим славянофилам не доведется увидеть даже «зеленей настоящих» [Там же, с. 299]. Хомяков стремится укрепить славянофилов словами святого апостола Павла, настроив на духовно здоровое отношение к служению Богу: «…мы не можем ничего ожидать скорого, – пишет он Самарину, – ибо всегда должны помнить, что борьба наша не к крови и плоти» [Там же, с. 277]. Эти слова приводится и в письме к К. Аксакову: «Несть наша борьба крови и плоти» [Там же, с. 351]. «Восстанавливая» контекст цитаты из Послания к Ефесянам, адресаты Хомякова получали полное наставление, которое должно было их воодушевлять: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не про- тив крови и плоти, но против начальств, против властей, против духов злобы поднебесной» (Еф. 6: 12).
В контексте этой развернутой проповеди, с которой Хомяков выступает на страницах писем, ему было достаточно одного-двух слов соответствующей тематики (например: «О неверующий!» [Там же, с. 190]) или в архаичной форме, на церковнославянском языке, например: «Неужели ни у кого не найдется смысла? Или вси обуяша до единого?» [Там же] (церковнославянское «обуяша» (обезумели, лишились смысла), актуализируя в целом религиозный контекст, отсылает, в частности, к ряду текстов. Например, к ветхозаветной книге пророка Иеремии: «… понеже обуяша пастырие и Господа не взыскаша, сего ради не уразуме все стадо и расточено бысть» (Иер. 10: 21), в синодальном переводе: «…ибо пастыри сделались бессмысленными и не искали Господа, а потому они и поступали безрассудно, и все стадо их рассеяно»), – чтобы актуализировать сакральный план содержания и вызвать у адресата повышенное внимание к предмету речи и повышенное же доверие к содержанию высказывания.
Вместе с тем Хомяков, вновь в традициях жанра проповеди, позиционирует себя неоднозначно. С одной стороны, он как «пастырь» находится над «пасомыми», с другой же – рядом с ними, как подобный им человек, а потому обращает учительное слово не только к другим, но и к самому себе. Отсюда распространенность в эпистолярии идеолога славянофильства наряду с императивными и модальными формами – характерных для жанра проповеди «мы»-форм. Если первые, по справедливому наблюдению О.А. Прохватиловой, выражают «иерархические отношения между участниками коммуникации» («проповедником и прихожанами»), то вторые – «симметричные» [6, с. 43]. Если первые связаны с собственно учительно-проповеднической тональностью, то вторые несут на себе также печать тональности покаянной. Хомяков прибегает к «мы»-формам достаточно часто. Например: «Богом данные силы разума оставляются в каком-то преступном небрежении от вечного ожидания чудес. Это – наша болезнь» [8, с. 142], «Не позволительно нам молчать…» [Там же, с. 274], «Мы не привыкли думать и оттого и придумать не умеем» [Там же, с. 277]). За счет «мы»-форм в эпистолярии решается целый ряд задач: руководя соратниками, Хомяков не уязвляет их самолюбие и не вызывает протеста, а вызывает, напротив, уважение к себе, потому что, с одной стороны, по-христиански смиряет себя, а с другой – поднимает их статус до своего, побуждая к сотрудничеству. Он формирует у адресатов-славянофилов чувство общности, единого кружка, совместными усилиями достигающего целей и находящегося на верном пути под водительством Христа.
В традициях жанра проповеди Хомяков апеллирует к притчам. Никто из проповедников после Христа не говорил притчами. Священник, обращаясь к пастве, только пересказывает и толкует ту из них, которая читалась за богослужением; разъясняет ее смысл, подобно тому как Христос разъяснял его ученикам. Хомяков же идет другим путем. Он не пересказывает и не толкует евангельские притчи, а лишь отсылает к ним, заставляя адресатов вспомнить их содержание – и тут же приспосабливая его к целям своей славянофильской проповеди, как это было в случае с притчей о сеятеле. В то же время отваживается сам говорить притчами. Он включает их в свою проповедь, как это делал Христос. Например, в письме к А. И. Кошелеву идеолог славянофильского кружка рассказывает достаточно развернутую притчу о трех братьях, только старший из которых (православие) сохранил переданную отцом (Богом) истину, тогда как младшие (представители других конфессий) ее исказили (см.: [8, с.139]). Притчевый дискурс, осмысленный в евангельских традициях, придавал особую сакральность и авторитетность проповеди Хомякова.
Учительно-проповедническое слово, преподнесенное в форме дружеского письма, не теряя своей непреложности, приобретало гибкость, диалектичность. Оно должно было восприниматься как слово идеолога славянофильства и старшего товарища, но одновременно – соратника. Оно излагало основы убеждений, веры, жизненной позиции Хомякова, отстаивавшиеся им в посланиях к разным лицам, равно как и в неэпистолярных текстах, но, обращенное к конкретному адресату в личном письме, – это слово воспринималось как доверительно-личное, побуждавшее к соответствующему отклику. Эпистолярная форма, с одной стороны, не могла не формировать у адресатов иллюзии права на свободный выбор, а с другой – многократно повышало действенность проповеди.
Список литературы А. С. Хомяков - учитель и проповедник (на материале эпистолярия)
- Афанасий Великий, свт. Толкование на псалмы. М.: Благовест, 2011. 528 с.
- Гинзбург Л. Я. «Застенчивость чувства». По поводу писем людей пушкинского круга // Красная книга культуры. М.: Искусство, 1987. С. 183-188.
- Ицкович Т. В. Базовые субкатегории тональности в текстах религиозного стиля (на материале православной проповеди) // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2012. № 14. С. 160-168.
- Ицкович Т. В. Жанровая систематизация религиозного стиля на коммуникативно-прагматическом и категориально-текстовом основаниях: дис. … докт. филол. н.: 10.02.01 / Т. В. Ицкович; Уральский федер. ун-т. Екатеринбург, 2016. 387 с.
- Ицкович Т. В. Тональность православной проповеди // Современная лингвистика и межкультурная коммуникация: коллект. моногр. Красноярск: Научно-инновац. центр, 2012. С. 69-97.
- Прохватилова О. А. Речевая организация звучащей православной проповеди и молитвы: автореф. дис. … докт. филол. н.: 10.02.01 / О. А. Прохватилова; Гос. ин-т рус. языка им. А. С. Пушкина. М., 2000. 46 с.
- Розанова Н. Н. Коммуникативно-жанровые особенности храмовой проповеди // И. А. Бодуэн де Куртенэ: Ученый. Учитель. Личность / Красноярский гос. ун-т. Красноярск, 2000. С. 227-240.
- Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. Т. 8: Письма. М.: Университетская тип., на Страстном бульваре, 1900. 538 с.