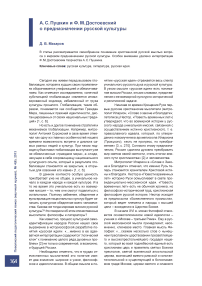А. С. Пушкин и Ф. М. Достоевский о предназначении русской культуры
Автор: Макаров Денис Владимирович
Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 4 (6), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается своеобразное понимание христианской русской мыслью вопроса о мировом предназначении русской культуры. Особое внимание уделено интерпретации Ф.М. Достоевским творчества А.С. Пушкина.
Русская культура, литература, русская идея
Короткий адрес: https://sciup.org/14219320
IDR: 14219320
Текст научной статьи А. С. Пушкин и Ф. М. Достоевский о предназначении русской культуры
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 4(6). 2013
Сегодня мы живем перед вызовом глобализации, которая в худших своих проявлениях оборачивается унификацией и обезличиванием. Как отмечают исследователи, конечной субстанцией глобализации «является атоми-зированный индивид, избавленный от груза культуры прошлого. Глобализация, таким образом, понимается как сообщество Граждан Мира, лишенных прежней идентичности, дистанцированных от своих национальных традиций» [1, с. 6].
Но есть и другое понимание стратегий и механизмов глобализации. Например, митрополит Антоний Сурожский в свое время отмечал как одну из главных особенностей нашего времени возможность встречи и диалога самых разных людей и культур. При таком подходе субъектами глобализации выступают уже не обезличенные «граждане мира», а «люди, несущие в себе сокровищницу национального культурного опыта, который в результате глобализации становится не закрытым, а открытым для освоения его извне» [1, с. 6].
В данном контексте особую ценность приобретает уже не общее, а уникальное начало в каждом народе и каждой культуре. И в то же время это уникальное есть их всемирная миссия – то, чем они смогут поделиться с остальными. Поэтому забвение, обеднение и вульгаризация национальных культур будет означать культурное обеднение всего человечества. Какова же тогда мировая миссия русской культуры? Что говорили об этом отечественные мыслители: философы и литераторы?
Как известно, процесс культурной самоидентификации народов России нашел свое выражение в историософской разработке понятия «русская идея»: «…именно в ее адекватной интерпретации содержится “логический ключ” к пониманию целого ряда духовных проблем» [2] не только современной, а возможно, и будущей России.
Необходимо отметить, что в трудах отечественных мыслителей это понятие имеет два значения: широкое и узкое, философское и идеологическое. В общем смысле в по- нятии «русская идея» отражается весь спектр уникального русского духа и русской культуры. В узком смысле «русская идея» есть понимание миссии России, иными словами, представление о ее всемирной культурно-исторической и религиозной задаче.
Начиная со времен Крещения Руси первые русские христианские мыслители (митрополит Иларион, «Слово о законе и благодати»; летописец Нестор, «Повесть временных лет») утверждают, что во всемирной истории у русского народа уникальная миссия, связанная с осуществлением истинно христианского, т. е. православного идеала, который, по утверждению новомученика архиепископа Илариона (Троицкого), «есть не прогресс, но преображение» [3, с. 270]. Согласно этому предназначению, Россия «должна духовно преобразить мир светом своей святости, стать итогом земного пути христианства» [2] и человечества.
Митрополит Иларион в «Слове о Законе и Благодати» отмечал, что именно Русь теперь становится хранителем Христовой истины и благодати. Нестор в «Повести временных лет» историю Руси осмысливает в свете провиденциально-мессианской идеи. «Повесть временных лет» есть не обычная хроника, но философско-исторический труд, христианская философия русской истории. Нестор исходит из предпосылки «Божественного промысла», который ведет племена и народы к высшей цели – вхождению в Царство Божие.
В начале XVI в. монах Филофей становится основоположником новой идеологии – учения о «Москве – третьем Риме». Ему в русской мессианской мысли принадлежит, несомненно, ключевое место. Главная мысль Филофея: «…скажем несколько слов о нынешнем преславном царствовании пресветлейшего и высокопрестольнейшего государя нашего, который во всей поднебесной единый есть христианам царь и правитель святых Божиих престолов, святой вселенской апостольской церкви, возникшей вместо римской и константинопольской и существующей в богоспасаемом граде Москве, церкви святого и славного
Успения пречистой Богородицы, что одна во вселенной краше солнца светится. Так знай, боголюбец и христолюбец, что все христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего государя, согласно пророческим книгам, это и есть римское царство: ибо два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать» [6, с. 121]. В этой формуле с предельной ясностью выражается смысл русской идеи, а также характер ее всемирно-исторической миссии. Русский народ, по Филофею, призван стать духовным и политическим вождем христианского мира.
В XIX в. к данному вопросу обращаются славянофилы, а также близкий их взглядам Ф. М. Достоевский. Как и их предшественники, славянофилы видели сущность русского духа именно в Православии. Они разделяли мысль о провиденциальном, всемирно-историческом значении русского народа. Как глубоко религиозные мыслители (и в то же время люди культурные) они полагали, что истинный путь и судьба России, смысл ее национальной идеи заключаются в создании целостной и самобытной православной культуры.
У славянофилов, и особенно у Достоевского, происходит отождествление народа русского и народа церковного, «общинной организацией крестьянства и общинной же организацией Церкви» [4]. Несомненно, что в таком отождествлении проявляется некая идеализация (определенный утопизм), своеобразный «хилиазм, который был далеко не чужд уже социальным упованиям старших славянофилов» [2].
Наиболее же сильно эта тенденция проявилась в Пушкинской речи Ф. М. Достоевского (1880 г.) и особенно в авторской апологии этой речи в Дневнике писателя за 1880 г. «‘‘Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа’’, – сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое. Да, в появлении его заключается для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое. Пушкин как раз приходит в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшегося и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с петровской реформы, и появление его сильно способствует освещению темной дороги нашей новым направляющим светом. В этом-то смысле Пушкин есть пророчество и указание. Я делю деятельность нашего великого поэта на три периода…» [7].
Первый период характеризуется в основном подражанием европейским литераторам. Это период ученичества и освоения поэтического мастерства. К нему Ф. М. Достоевский относит, к примеру, начало «Онегина», поэму «Цыганы» и др.
Второй период – время, когда поэт «нашел уже свои идеалы в родной земле» [7] и соз- дал в своих произведениях «целый ряд положительно прекрасных русских типов» [7].
Третий период определяется созданием таких произведений, «в которых преимущественно засияли идеи всемирные, отразились поэтические образы других народов и воплотились их гении» [7]. В этот период Пушкин обращается к так называемым «мировым проблемам», в частности, темам Фауста, Дон Жуана и другим. Здесь Достоевский отмечает у Пушкина такую черту русского гения, как «всемирную отзывчивость» и стремление «ко всемир-ности и ко всечеловечности».
Таким образом, можно утверждать, что основной идеей Пушкинской речи Достоевского является утверждение грядущего, неотвратимого, вполне закономерного движения народов Европы к сближению, братству, всечелове-честву. Отсюда следует и представление о задаче писателя, а также миссии русской словесности – послужить делу укрепления будущего братства и воссоединения людей.
Конечно, Достоевский говорил не только о Пушкине, и не только о миссии русской литературы, а также и о миссии всей русской культуры. На примере творчества Пушкина Достоевский хотел объяснить своим современникам, а также и потомкам мессианский смысл русской культуры. При этом Достоевский говорил о пророческом содержании творчества Пушкина и воспринимал его личное творчество как основную проекцию для грядущих творцов.
-
1. Кучмаева И. К. Социальные закономерности и механизмы наследования культуры. М. : Гос. акад. славянской культуры, 2006. С. 6.
-
2. Бойко П. Е. Этапы эволюции русской идеи в отечественной историософской мысли // Тотум : философский журн. 2003. № 1. URL : http://korfo.kubsu.ru/totum (дата обращения: 19.10.2013).
-
3. Илларион Троицкий, архиеп. Прогресс и Преображение // Архиепископ Илларион Троицкий. Без церкви нет спасения. М., 1998. С. 264–284.
-
4. Лурье В. М. Протрезвление от славянофильской утопии: К. Н. Леонтьев, Л. А. Тихомиров и их выбор между Православием и Россией // Феномен российской интеллигенции. История и психология : материалы Международной науч. конф. 24–25 мая 2000 г., г. Санкт-Петербург / под ред. С. Н. Полтарака, Е. Г. Соколова, Л. Б. Борисковской, Т. В. Партаненко. СПб. : Нестор, 2000. С. 56–68.
-
5. Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. Философская и политическая публицистика. Духовная проза (1872–1891) / общ. ред., сост., подг. текста, коммент. Г. Б. Кремнева. М., 1996.
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 4(6). 2013
-
6. Синицына Н. В. Третий Рим: Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV– XVI вв.). М., 1998. URL : http://pushkinskijdom . ru/Default.aspx?tabid=5105#_ednref34 (дата обращения: 20.10.2013).
-
7. Достоевский Ф. М. Пушкин (очерк). Произнесено 8 июня в заседании Общества любителей российской словесности // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. : в 30 т. Т. 26. Л. : Наука, 1984. С. 129–149.

A. S. Pushkin and F. M. Dostoevsky on the Destiny of Russian Culture
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 4(6). 2013
Список литературы А. С. Пушкин и Ф. М. Достоевский о предназначении русской культуры
- Кучмаева И.К. Социальные закономерности и механизмы наследования культуры. М.: Гос. акад. славянской культуры, 2006. С. 6.
- Бойко П.Е. Этапы эволюции русской идеи в отечественной историософской мысли//Тотум: философский журн. 2003. № 1. URL: http://korfo.kubsu.ru/totum (дата обращения: 19.10.2013).
- Илларион Троицкий, архиеп. Прогресс и Преображение//Архиепископ Илларион Троицкий. Без церкви нет спасения. М., 1998. С. 264-284.
- Лурье В.М. Протрезвление от славянофильской утопии: К.Н. Леонтьев, Л.А. Тихомиров и их выбор между Православием и Россией//Феномен российской интеллигенции. История и психология: материалы Международной науч. конф. 24-25 мая 2000 г., г. Санкт-Петербург/под ред. С.Н. Полтарака, Е.Г. Соколова, Л.Б. Борисковской, Т.В. Партаненко. СПб.: Нестор, 2000. С. 56-68.
- Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство. Философская и политическая публицистика. Духовная проза (1872-1891)/общ. ред., сост., подг. текста, коммент. Г.Б. Кремнева. М., 1996.
- Синицына Н.В. Третий Рим: Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV-XVI вв.). М., 1998. URL: http://pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5105#_ednref34 (дата обращения: 20.10.2013)
- Достоевский Ф.М. Пушкин (очерк). Произнесено 8 июня в заседании Общества любителей российской словесности//Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 26. Л.: Наука, 1984. С. 129-149