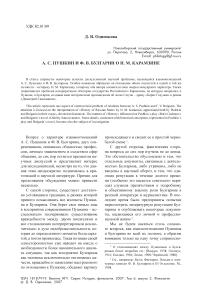А. С. Пушкин и Ф. В. Булгарин о Н. М. Карамзине
Автор: Одинокова Д.В.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.6, 2007 года.
Бесплатный доступ
В статье затронуты некоторые аспекты дискуссионной научной проблемы, касающейся взаимоотношений А. С. Пушкина и Ф. В. Булгарина. Особое внимание обращено на отношение обоих писателей к одной и той же личности - историку Н. М. Карамзину, которому оба автора посвятили свои очерки мемуарного характера. Также затрагивается проблема интерпретации «Истории государства Российского» Карамзина, на которую опирались и Пушкин, и Булгарин, создавая свои исторические произведения об эпохе Смуты - драму «Борис Годунов» и роман «Димитрий Самозванец».
Короткий адрес: https://sciup.org/14736868
IDR: 14736868 | УДК: 82.01/09
Текст научной статьи А. С. Пушкин и Ф. В. Булгарин о Н. М. Карамзине
В статье затронуты некоторые аспекты дискуссионной научной проблемы, касающейся взаимоотношений А. С. Пушкина и Ф. В. Булгарина. Особое внимание обращено на отношение обоих писателей к одной и той же личности – историку Н. М. Карамзину, которому оба автора посвятили свои очерки мемуарного характера. Также затрагивается проблема интерпретации «Истории государства Российского» Карамзина, на которую опирались и Пушкин, и Булгарин, создавая свои исторические произведения об эпохе Смуты – драму «Борис Годунов» и роман «Димитрий Самозванец».
This article represents one aspect of controversial problem of relations between A. S. Pushkin and F. V. Bulgarin. The attention is focused on the interpretation of «History of Russian State» by N. M. Karamsin, appreciated both by Pushkin and Bulgarin in their essays, devoted to Karamsin. The matters of «History» influenced on Pushkin`s play «Boris Godunov» and Bulgarin`s novel «Dimitry Samosvanetz». Some details, connected with historical conception, represented in Pushkin`s play and Bulgarin`s novel, become also the subject of investigation.
Вопрос о характере взаимоотношений А. С. Пушкина и Ф. В. Булгарина, двух современников, связанных общностью профессии, личным знакомством и сходством сфер общения, до сих пор остается предметом научных дискуссий и представляет интерес для исследователей, несмотря на то, что данная тема неоднократно поднималась в критической и научной литературе. Причин для продолжения обсуждения можно привести несколько.
С одной стороны, существует достаточно устоявшаяся традиция, в рамках которой принято осмысливать все контакты Пушкина и Булгарина. Она берет свое начало еще в восприятии современников Пушкина – исследователи подчеркивали существование враждебности между двумя писателями и все столкновения интерпретировали исключительно в духе недоброжелательности, которая до определенного момента была скрытой, а потом проявилась. Такая позиция своей односторонностью уже наводит на мысль о необходимости более внимательного анализа ситуации, так как восприятие Булгарина как человека исключительно негативных качеств, враждебно и завистливо настроенного по отношению к Пушкину, обедняет картину происходящего и сводит ее к простой чернобелой схеме 1.
С другой стороны, фактическая сторона вопроса до сих пор изучена не до конца. Это обстоятельство обусловлено и тем, что отдельные документы, связанные с деятельностью Булгарина, либо утрачены, либо не введены в научный оборот, и тем, что одиозная репутация в течение долгого времени (особенно это касается советского периода) служила препятствием к подробному и объективному анализу роли Булгарина в русской литературе и журналистике. В последнее время были предприняты попытки пересмотреть литературную репутацию Булгарина и опубликовать некоторые документы, касающиеся его личной и профессиональной жизни 2.
Мы не будем касаться столь сложного вопроса, как взаимоотношения Пушкина и Булгарина во всей их полноте, а обратим внимание только на одну точку соприкосно-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2007. Том 6, выпуск 2: Филология © Д. В. Одинокова, 2007
вения, которая, однако, достаточно типична и позволяет сделать далеко идущие выводы, и при этом до сих пор не являлась объектом детального исследования. Речь идет о ситуации, связанной с использованием обоими авторами одного и того же сюжета из русской истории и одного и того же общего источника – «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. В 1825 г. Пушкин написал драму «Борис Годунов», которая, однако, не была издана сразу из-за цензурных препятствий. Незадолго до появления драмы в печати, что произошло в 1831 г., Булгарин опубликовал свой роман «Димитрий Самозванец» (1830). Пушкин был склонен обвинять Булгарина в заимствовании сюжета, на что действительно указывали некоторые обстоятельства 3.
В печати того времени разгорелась жесткая полемика, в которой участвовали не только Пушкин и Булгарин, взаимно обвинявшие друг друга в плагиате и клевете, но и их сторонники, выступавшие в поддержку того и другого лагеря 4. Однако нас будет интересовать не столько проблема связей между двумя произведениями – пушкинским и булгаринс-ким, сколько сопряженный с данной ситуацией более частный аспект – вопрос об отношении обоих авторов к Н. М. Карамзину. Материалы Карамзина были использованы в равной степени Пушкиным и Булгариным при написании их произведений, посвященных Смутному времени. Кроме того, оба писателя были лично знакомы с Карамзиным, и знакомство их состоялось примерно в одно и то же время – во второй половине 1810-х гг. Карамзин в этой ситуации стал для Пушкина и Булгарина своеобразной «точкой пересечения».
Пушкин оставил о Карамзине воспоминания, которые, по всей видимости, входили в состав более обширных мемуаров, писавшихся в Михайловском во время ссылки и вынужденно уничтоженных после восстания декабристов 5. Булгарин также написал про- изведение, относящееся к тому же мемуарному жанру, что и очерк Пушкина – «Встреча с Карамзиным» (Из литературных воспоминаний) 6. Два этих очерка, на наш взгляд, имеет смысл сопоставить, так как их сравнительный анализ помогает выявить специфику отношения двух авторов не только к одному и тому же лицу, но и к некоторым основополагающим принципам создания исторических произведений. При этом следует оговориться, что Пушкин, разумеется, был знаком с булгаринским очерком и высказал по этому поводу определенное мнение, считая, что Булгарин не вправе комментировать что-либо, касающееся личности такого масштаба. В письме к А. А. Дельвигу от 31 июля 1827 г. Пушкин писал: «…у вас Булгарин? Кстати: Сомов говорил мне о его “Вечере у Карамзина”. Не печатай его в своих “Цветах”. Ей-богу неприлично. Конечно, вольно собаке и на владыку лаять, но пускай лает она на дворе, а не у тебя в комнатах. Наше молчание о Карамзине и так неприлично; не Булгарину прерывать его. Это было б еще неприличнее» [Пушкин, 1979. С. 181]. Однако, несмотря на негативное мнение одного из авторов об очерке другого, эти произведения мемуарного жанра имеют точки соприкосновения и могут дать немало информации о своих создателях.
Пушкин открывает свои заметки упоминанием о собственной болезни, относящейся к зиме 1818 г., когда началось издание «Истории государства Российского»: «Первые восемь томов “Русской истории” Карамзина вышли в свет. Я прочел их в моей постели» [Пушкин, 1978. С. 49]. Далее следует развер- рамма, критикующая монархизм Карамзина, в его бумагах сохранились «Заметка при чтении т. VII, гл. 4 “Истории государства Российского”» (1818–1819) и отзыв на Ключ к Истории государства Российского Н. М. Карамзина, изданный П. М. Строевым. Пушкин часто упоминал о Карамзине и его трудах в заметках и статьях, посвященных другим лицам (например, в записке «О народном воспитании» (1826), в «Письме к издателю “Московского вестника”» (1828), в статье «История русского народа, сочинение Николая Полевого» (статья напечатана в 1830 г.) и др.). Кроме того, Пушкиным было написано «Путешествие из Москвы в Петербург», полемичное по отношению к «Путешествию» Карамзина. Это говорит о несомненном интересе поэта к личности Карамзина.
6 Впервые эти воспоминания были опубликованы в издании: Булгарин Ф. В. Встреча с Карамзиным (Из литературных воспоминаний) // Альбом северных муз: Альманах на 1828. СПб., 1828. С. 137–168.
нутая оценка заслуг Карамзина как историка: «Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка – Коломбом» [Пушкин, 1978. С. 49]. Анализируя труд историка, Пушкин вступился за Карамзина перед публикой, отводя наиболее распространенные обвинения, адресованные ему: «Ничего не могу вообразить глупей светских суждений, которые удалось мне слышать насчет духа и слова “Истории Карамзина”» [Там же]. Пушкин выделил следующие основные претензии светского общества к «Истории»: монархизм, отсутствие увлекательных исторических гипотез, старомодный чувствительный стиль. Все три упрека Пушкин счел нужным прокомментировать.
Наиболее развернутое оправдание он привел в связи с обвинением в реакционном монархизме: «Молодые якобинцы негодовали; несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, казались им верхом варварства и унижения. Они забывали, что Карамзин печатал “Историю” свою в России… Он рассказывал со всею вернос-тию историка, он везде ссылался на источники – чего же более требовать было от него?» [Там же. С. 50]. Достойно внимания то обстоятельство, что Пушкин в принципе не пытался доказать правильность позиции Карамзина, а лишь объяснял, откуда она взялась, и указывал, что наличие ссылок на подлинные факты, а также правдивые исторические документы, опубликованные Карамзиным в качестве приложения к его «Истории», искупают тенденциозность изложения материала в основном тексте.
По поводу недостатка в «Истории» авторских домыслов Пушкин отозвался следующим образом: «Мих. Орлов в письме к Вяземскому пенял Карамзину, зачем в начале “Истории” не поместил он какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян (курсив Пушкина. – Д. О.), т. е. требовал романа в истории – ново и смело!» [Там же]. Здесь прослеживается точка зрения Пушкина, которую он неоднократно развивал в своих письмах и заметках – о разнице между документальным историческим трудом и историей в вымышленном повествовании. С точки зрения Пушкина, авторская фантазия может чувствовать себя свободно в художественном произведении, но абсолютно недопустима в историческом труде. То, что Карамзин строго следовал фактам, не дополняя их своими измышлениями, на взгляд Пушкина, было несомненным достоинством.
В отношении стиля Карамзина Пушкин отчасти соглашается с мнением публики – сам он не допускал насмешек по этому поводу, но отмечал, что пародии на стиль «Истории» вполне оправданно вызывали смех: «Некоторые остряки за ужином переложили первые главы Тита Ливия слогом Карамзина. Римляне времен Тарквиния, не понимающие спасительной пользы самодержавия , и Брут, осуждающий на смерть своих сынов, ибо редко основатели республик славятся нежной чувствительностию (курсив Пушкина. – Д. О. ), – конечно, были очень смешны» [Там же].
Только рассмотрев «Историю» и роль, которую данная книга сыграла для русского общества, Пушкин позволил себе перейти к характеристике некоторых личностных качеств Карамзина. Он описывает случай, когда в личной беседе упрекнул историка за его монархизм и вызвал ответный гнев: «Карамзин вспыхнул и назвал меня своим клеветником». Однако историк смог преодолеть свой гнев: «Скоро Карамзину стало совестно, и, прощаясь со мною, как обыкновенно, упрекал меня, как бы сам извиняясь в своей горячности: “Вы сегодня сказали на меня то, чего ни Шихматов, ни Кутузов на меня не говорили”. В течение шестилетнего знакомства только в этом случае упомянул он при мне о своих неприятелях, против которых не имел он, кажется, никакой злобы…» [Там же. С. 50–51]. Необходимо учитывать, конечно, что очерк не сохранился в полном виде, но некоторые выводы его структура и содержание вполне позволяют сделать.
Итак, Пушкин воспринимал Карамзина прежде всего как автора «Истории государства Российского», в которой писатель ценил факты и историческую достоверность. Даже обстоятельства личного знакомства отодвинуты на задний план, Пушкин упоминает в первую очередь именно о знакомстве с историческим трудом Карамзина. Основная часть очерка посвящена разбору достоинств и недостатков «Истории», причем Пушкин отдает должное автору, отвергая сложившееся общественное мнение. Примечатель- но, что в очерке Пушкин особо оговаривает свое неприятие монархической концепции Карамзина, хотя многие современники, анализируя драму «Борис Годунов», склонны были приписывать поэту слепое следование взглядам историка 7. На личностном уровне Пушкин считает нужным подчеркнуть в первую очередь отсутствие злопамятности в Карамзине.
Очерк Булгарина строится совершенно по другому принципу. В нем, в противоположность заметкам Пушкина, прежде всего, подробно изложены обстоятельства, при которых состоялось личное знакомство автора с героем очерка: «В 1819 году, в зимние вечера собирались к одному содержателю пансиона в Петербурге (французскому дворянину) любители словесности…» [Булгарин, 1990. С. 668]. Характеризуется внешность Карамзина, которой Пушкин в принципе не уделил внимания: «Лицо его было продолговатое; чело высокое, открытое, нос правильный, римский. Рот и уста имели какую-то особенную приятность и, так сказать, дышали добродушием. Глаза небольшие, несколько сжатые, но прекрасного разреза, блестели умом и живостью» [Там же. С. 669].
Особенно примечательно, какие заслуги Карамзина Булгарин считает достойными упоминания – выражая свое восхищение этой личностью, он перечисляет: «Он заставил нас читать русские журналы своим “Московским журналом” и “Вестником Европы”; он своими “Аонидами” и “Аглаей” ввел в обычай альманахи; он “Письмами русского путешественника” научил нас описывать легко и приятно наши странствия; он своими несравненными повестями привязал светских людей и прекрасный пол к русскому чтению; он сотворил легкую, так сказать, общежительную прозу; он первый возжег светильник грамматической точности и правильности в слоге, представив образцы во всех родах; он познакомил все состояние россиян с отечественною историею, очистив ее от архивной пыли» [Там же. С. 670–671]. В глазах Булгарина заслуги Карамзина как историка, по меньшей мере, уравниваются, если не умаляются перед лицом его заслуг как писателя-беллетриста и издателя. Далее следует уточнение: «Различие в мнениях насчет изложения “Истории” ни мало не ослабляло во мне чувства уважения к великому мужу…» [Там же. С. 671]. На этом Булгарин предпочел завершить характеристику Карамзина как историка.
Вторая половина очерка Булгарина посвящена описанию умения Карамзина вести интересную беседу, его демократизма в обществе и перечислению отдельных тем, которые затрагивались на вечерах в доме Карамзина (сравнительная характеристика русского и французского народа, русские народные сказки и песни). Завершается рассказ о Карамзине изложением случая милосердия, проявленного историком по отношению к бедному человеку, просившему на улице подаяние. Вывод, сделанный Булгариным, звучит следующим образом: «Правильность, нежность, простота, занимательность слога Карамзина были отпечатками его характера. Различие в мнениях никогда не могло ослабить уважения к нему в человеке благомыслящем. Отдаленное потомство скажет: Карамзин был великий писатель и – благородный, добрый человек. Одно стоит другого. Но какое счастье, если это соединено в одном лице!» [Там же. С. 676].
Таким образом, мы видим, что для Булгарина чрезвычайно важен сам факт личного знакомства со столь выдающимся человеком – обстоятельства личной встречи описаны детально и подчеркивается, что автор воспоминаний был вхож в дом Карамзина. Заслуги Карамзина в глазах Булгарина весьма разнообразны – это, прежде всего, писательство и издательская деятельность. С одной стороны, кажется, что Булгарин сумел более адекватно оценить богатство творческого наследия Карамзина, тогда как для Пушкина Карамзин более всего ассоциировался с «Историей государства Российского». Однако, с другой стороны, Булгарин фактически умаляет роль основного труда всей жизни Карамзина, уравнивая заслуги историка с заслугами журналиста и беллетриста. Разумеется, при этом Булгарин более разносторонне обрисовал характер Карамзина, отметив и его способность вести интересную беседу, и его склонность помогать людям, и отсутствие сословных предрассудков, простоту обращения, представив, по сути, полноценный литературный портрет. Пушкин в своем очерке преследовал несколько другие цели, поэтому психологическая характеристика в его воспоминаниях отходит на задний план. Хотя, если бы мы имели дело с полным законченным вариантом очерка Пушкина, можно предположить, что его характеристика нравственных качеств Карамзина в целом совпала бы с характеристикой, приведенной Булгариным, о чем свидетельствует указание на добросердечие героя очерка, подтверждаемое приведенной ранее цитатой.
Если смотреть на принципиальные моменты, отличающие очерки друг от друга, то мы увидим большее стремление Булгарина «приобщиться» к личности Карамзина за счет подтверждения существовавшей дружеской близости (это характеристика скорее психологического плана). В сфере профессиональной Пушкин более ценил именно то, что считал основной заслугой Карамзина – его вклад в историческую науку, тогда как Булгарин склонен был «распылять» заслуги Карамзина и «Историю» его не считал чем-то безусловно выдающимся.
Подобные варианты восприятия роли Карамзина нашли отражение не только в проанализированных очерках. Они имели значение и при создании Пушкиным и Булгариным исторических произведений, где использовались материалы карамзинской истории. Если Пушкин, работая над трагедией «Борис Годунов», с одной стороны, активно пользовался всем богатством фактов, излагаемых в Х и ХI томах «Истории», а с другой – корректировал религиозно-монархическую концепцию, являющуюся доминантной в труде, и заменил ее позицией, почерпнутой из свидетельств очевидцев, то Булгарин важностью источников, приведенных у Карамзина, предпочел пренебречь. Вместо этого в романе «Димитрий Самозванец» излагается достаточно экзотическая версия происхождения Самозванца из числа воспитанников иезуитов.
Пушкин, ценивший Карамзина именно за точность изложения фактической стороны дела, сумел рассмотреть под покровом тенденциозной авторской концепции точку зрения современников и очевидцев событий Смутного времени, благодаря чему в его драме приведена картина, соответствующая исторически сложившейся традиции восприятия ключевых моментов и личностей эпохи Смуты. Булгарин же, не рассматривавший труд Карамзина как нечто уникальное и полагавший, что это одна из многих работ подобного рода, оказался не в состоянии оценить сильные стороны «Истории» и пошел на поводу у собственной тяги к блестящим гипотезам и нестандартным ситуациям. Идея о польском происхождении Самозванца и о заранее заготовленной программе его воцарения в России действительно упоминалась Карамзиным, но из материалов Приложений к «Истории» и цитат из летописных и иных источников, приводимых в тексте, легко можно было убедиться, что данная точка зрения в эпоху Смуты не относилась к числу общепризнанных и широко распространенных – это был лишь один из экзотических слухов.
Таким образом, анализ отношений Пушкина и Булгарина к Карамзину, нашедших отражение в очерках мемуарного характера, позволяет прояснить понимание обоими писателями принципов создания исторического произведения. Пушкин более всего ценил историческую правду и близость к особенностям мировоззрения очевидцев и современников изображаемых событий, а Булгарин тяготел к увлекательности в ущерб правдоподобию и смотрел на историю с субъективной точки зрения. В литературном процессе эти две тенденции интегрировались, но все-таки доминантным оказался пушкинский принцип, предопределивший главную линию развития русского реалистического романа, в котором нашли отражение различные аспекты исторического процесса, воплощенного в «вымышленном повествовании».