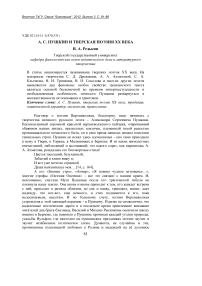А. С. Пушкин и тверская поэзия ХХ века
Автор: Редькин Валерий Александрович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется пушкиниана тверских поэтов ХХ века. На материале творчества С. Д. Дрожжина, А. А. Ахматовой, С. А. Клычкова, Н. И. Тряпкина, В. Н. Соколова и многих других поэтов выявляются два феномена: особое свойство пушкинского текста являться основой бесконечной во времени интертекстуальности и необыкновенная особенность личности Пушкина развернуться в множественности её понимания и трактовки.
А. с. пушкин, тверская поэзия xx века, традиция, национальный характер, аксиология, православие
Короткий адрес: https://sciup.org/146121026
IDR: 146121026 | УДК: 821.161.1-1(470.331)
Текст научной статьи А. С. Пушкин и тверская поэзия ХХ века
Разговор о поэзии Верхневолжья, бесспорно, надо начинать с творчества великого русского поэта – Александра Сергеевича Пушкина. Вдохновленный скромной красотой верхневолжского пейзажа, очарованный обаянием наших милых, прелестных землячек, плененный тихой радостью провинциального поместного быта, он в свое время написал немало поистине гениальных строк. Пушкин не искал здесь вдохновенья – оно само приходило к нему в Твери, в Торжке, в Малинниках и Бернове. И из каких мимолетных впечатлений, наблюдений и ассоциаций, «из какого сора», как выразилась А. А. Ахматова, рождались его бессмертные стихи!
Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я;
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя… [14, с. 164].
А его «Зимнее утро», «Анчар», «Я помню чудное мгновенье…», многие строфы «Евгения Онегина» – все это связано с нашим краем. И, несомненно, смуглая Муза Пушкина после его трагической гибели не покинула нашу землю. Она вновь и вновь приходит к тем, кто жаждет встречи с ней, приходит в разном обличии, во сне и наяву, тревожит, манит, дает надежду, что вот-вот, еще немного, и стих поднимется к его, пока недосягаемым, высотам. И по большому счету, поэзия Верхневолжья устремлена к этой манящей вершине – к Пушкину. И разве не символично, что наделенные поэтическим даром и в последнее время привлекшие внимание читателей два брата-близнеца, Василий и Михаил Рысенковы окончили школу именно в Бернове, где памятью о Пушкине пронизан каждый уголок природы, усадьбы Вульфов, где ежегодно на пушкинских праздниках поэзии звучит и звучит незабвенное поэтическое слово. Думается, не случайны и эти, пронизанные пушкинской любовью к Родине и надеждой на её духовное возрождение, строки одного из них – В. Рысенкова из стихотворения «Русские в 1812 году», связавшие две далекие эпохи:
Французились, по-модному картавили,
А где-то в сердце – спал ольховый свет.
– Скажите, барин, что в Москве оставили?
– Оставил то, чего дороже нет… [15, с. 36].
В русской поэзии ХХ века мы имеем дело с пушкинской традицией в самом широком понимании этого слова. Здесь первостепенны его нравственный и эстетический идеалы, концепция мира и человека, его воплощение национальной идеи как общечеловеческой ценности. Параллельно этому возникает более узкий вопрос об интерпретации и инновации пушкинских текстов в русской поэзии ХХ века, когда творчество Пушкина воспринимается как реальность культуры, на которую опираются стихотворцы. Мы сталкиваемся с двумя феноменами: особым свойством текста являться основой будущей бесконечной во времени интертекстуальности и необыкновенным свойством личности автора развернуться в множественности её понимания и трактовки.
К А. С. Пушкину устремлены в ХХ веке и неоклассики, и сторонники критического или социалистического реализма, и романтики, и авангардисты. Символисты, футуристы, акмеисты, имажинисты, пролеткультовцы, обэриуты, поэты фронтового поколения и 50-х годов, тихие и громкие, православной ориентации и постмодернисты – все обращали свой взор к Пушкину, но каждый по-своему, от преклонения и до попыток свергнуть, разрушить, восстать против него или вступить в полемику.
Ярким примером непосредственного обращения к пушкинским текстам с использованием их интонационно-ритмической и образной системы является творчество нашего земляка, поэта-реалиста С. Д. Дрожжина, чье творчество лежит в русле крестьянской линии русской поэзии. Следует подчеркнуть, что смысл его произведений углубляет опора на классические тексты. Так, стихотворение «Птичка», несомненно, накладывается на стихотворение А. С. Пушкина «Узник». Внутренняя диалогичность связана с иным характером героя (не борец, а страдалец) и с иным образом птицы (не орел, а «милая гостья», «крошка» [8, с. 257]). С тем же произведением Пушкина связано и стихотворение «За решеткой»: «Вдали от родных, за тюремной стеной, // Поет свою песню певец молодой...» [8, с. 231]. Но если узник Пушкина устремлен «туда, где за тучей белеет гора,.. // Туда, где синеют морские края» [13, с. 203], то у Дрожжина желания героя предельно конкретизированы во времени и пространстве. Он из-за «железной решетки окна» устремлен «Туда, где на горке виднеется храм, // Под старую крышу, к полям и лесам; // Туда, где жена молодая в слезах, // Где матери бедной покоится прах, // Где катится Волга вперед и вперед // И снова певца на свободу зовет» [8, с. 231]. Пушкинский текст дает возможность выразить христианский идеал в его народном, крестьянском понимании.
Конечно, Дрожжин далеко не всегда так близко подходит к Пушкину, что произведение воспринимается как калька. Чаще он использует широко известные пушкинские образы как знаки определенной преемственности. Именно так использовали пушкинские тексты близкие С. Д. Дрожжину тверские поэты литературно-художественного общества имени И. С. Никитина М. Дудоров, К. Берсенев, О. Смольский, А. Докучаев и др. Духовная жизнь с молитвой и страданием волнует лирического героя А. Докучаева. В его стихах мы найдем миницитаты, ритмы и образы Пушкина, например, в стихотворении «Нет... нет... Живым в могилу лечь...». Слова, на семантическом острие которых держится стихотворение (меч, крылья, прах отрясть, рубище, в пустыне, оковы и т. д.), в своей совокупности вызывают ассоциации с посланием «В Сибирь» и другими стихами Пушкина.
Наш земляк, выдающийся поэт С. А. Клычков, ценит в гении Пушкина именно то, чем отличается и его собственная поэзия: простоту, простодушие, сердечность. Отвечая на анкету «К пушкинскому юбилею», он заявляет: «Чувство влечения к Пушкину, любви к его поэзии – как чувство голода, жажда, почти физическое чувство. В разгар футуризма и поэтического астенизма Пушкин для меня всегда был образом утешения, успокоения и надежды – надежды, что вся эта шумливость, заносчивость нелепости, самоуверенная непростота и бездушье – пройдет без следа и заметы в сердце человечества. Если мы еще не вплотную подошли к Пушкину, то это будет завтра… Завтра литература будет жить Пушкиным» [11, с. 489].
Сказочные образы С. Клычкова: бовы, русалки, колдуна, сквозной образ дубравы – несомненно, восходят к образной системе А. С. Пушкина. Образ царевны у Клычкова из стихотворения «Девятый вал» вызывает ассоциации с царевной из «Сказки о царе Салтане…» Пушкина, спящей царевной из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях» и уснувшей княжной из поэмы «Руслан и Людмила»:
Над волною в вышине
Звезды и зарницы,
Под волною в тишине
Чудный свет таится! [10, с. 75]
На пушкинских аллюзиях и контаминациях явно построено стихотворение Клычкова «Не мечтай о светлом чуде…». Читатель не может не вспомнить стихотворение Пушкина «Бесы»: «Ночь пришла, погаснул свет… // Мир исчезнул… Мира нет… // Только в поле из-за леса // За белесой серой мглой // То ли люди, то ли бесы // На земле и над землёй. // Разве ты не слышишь воя: // Слава Богу, что нас двое!» [10, с. 247]
Особую роль А. С. Пушкин сыграл в творчестве А. А. Ахматовой. В её стихах ведущим оказывается пушкинское начало. Достаточно вспомнить её раннюю поэму «У самого моря», где уже само название вызывает в памяти пушкинскую строку: «У самого синего моря...». Вся образная система этого произведения вызывает ассоциации с пушкинской «Сказкой о рыбаке и рыбке». Здесь явно те же интонации: «На что мне розы? Только колются больно!» [2, с. 360]. Как в пушкинской сказке, море живет одной жизнью с героями: «Вдруг подобрело темное море...» [2, с. 263]. Не только сама ситуация, но и ритмический рисунок помогают утвердить в сознании читателя мысль о древности, вечности и всеобщности конфликта между безмерными человеческими желаниями и реальным человеческим счастьем. Поразительно, но лирическая героиня ощущает себя неблагодарной старухой из сказки Пушкина и внутренне сожалеет, что отпустила влюбленного юношу: «Ушел, не простившись, мальчик, унес мускатные розы», «А тайная боль разлуки застонала белою чайкой» [2, с. 261].
Хронотоп пушкинской сказки и иных литературных произведений великого поэта придают повествованию Ахматовой нравственно-этический обобщенный смысл. В духе народных поэтических традиций поэтесса сближает себя с субъектом лирических народных песен. Здесь и тайная весть о приближении возлюбленного, и условный знак узнавания, и гаданье, и сны, и смятение чувств, а условно-фантастический колорит некоторых сцен, необъяснимость некоторых событий сближает произведение с романтической балладой. Таким образом, создается многослойность времени и пространства. Моряк, вытаскивающий утонувшего царевича, реален и не реален, как образ из страшных мистических снов, которые встречаются и в пушкинских произведениях: «По пояс стоя в воде прозрачной, // Шарит руками старик огромный // В щелях глубоких скал прибрежных» [2, с. 266]. Критики отмечали множество реминисценций, связанных с именем А. С. Пушкина, в «Поэме без героя», «Реквиеме» и других произведениях А. А. Ахматовой.
Все творчество А. Ахматовой пронизано ощущением таинственности жизни. Она использует симпатические чернила, ощутима тяга поэтессы к тайным смыслам. Присутствие каких-то непостижимых сил в стихах нарастает. Для неё характерно ощущение тайны мира, и Пушкин ей представлялся неразгаданной тайной:
Кто знает, что такое слава!
Какой ценой купил он право,
Возможность или благодать
Над всем так мудро и лукаво
Шутить, таинственно молчать
И ногу ножкой называть? [1, с. 40]
Связь с иным миром проявляется таинственно и непостижимо, но духовно-религиозное сознание поэтессы твердо утверждает, что высший, горний мир есть. У поэтессы, как и у Пушкина, возникают окна в потустороннюю реальность.
Образ темных сил, образ «князя мира сего» у Ахматовой существует как бы на стыке мифологического сознания и христианской веры, часто преломляясь в национальной литературной традиции. Здесь и фольклорногоголевский черт: «Хвост задрав под фалды фрака... // Как он хром и изящен...», [2, с. 491] и лермонтовский Демон: «Демон сам с улыбкой Тамары, // Но такие таятся чары // В этом страшном дымном лице»[2, с. 398]. В эмоционально насыщенном образе у Ахматовой сопрягаются идущая от мифа гордыня с сочувствием Демону, и христианское страдание, и тоска по единению и любви. Но в целом она утверждает пушкинскую иерархию духовных ценностей от безмерного зла до высокого добра.
Влияние А. С. Пушкина ощутимо во всей образной системе В. Соколова и, прежде всего, в его концепции искусства. В стихотворении «Убит. Убит. Подумать. Пушкин…» он писал о неотвратимости гибели поэта [18, с. 49]. Используя ритмический рисунок «Бесов» Пушкина (строку из этого стихотворения поэт берет в качестве эпиграфа), он в стихотворении «Натали, Наталья, Ната…» подчеркивает, что именно инфернальные силы пытаются дискредитировать образ жены поэта. По мнению автора, Пушкин своей жизнью, творчеством, своей смертью защитил честь Натальи Гончаровой: «Есть прямое указанье, // Чтоб её нетленный свет // Защищал стихом и дланью // Божьей милостью поэт» [18, с. 65].
На основе пушкинских образов создано стихотворение Н. Тряпкина «Сказ»: «Ты же дуй и колдуй, ветер северный, // По Руси по великой по северной // Поплывем Лукоморьями пьяными // Да гульнем островами Буянами» [20, с. 30].
В стихотворении «Пробуждение» возникает образ чародея Черномора с его миражами замков и дворцов «из рубинов и злата», с его колдовскими скрипками и свирелями, плеском белых лебедей [20, с. 162]. Все это воспринимается поэтом как «ребяческий сон», как сказка детства на фоне реальных топей и болот, на фоне современного индустриального общества. Тряпкин развивает пушкинскую мысль о своеобразии и единстве славянства перед лицом западного мира, выраженную великим предшественником в стихах «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Но, если Пушкин, говоря о заслугах России перед Европой, опирался на исторические факты своего времени, разгром Наполеона («…В бездну повалили // Мы тяготеющий над царствами кумир // И нашей кровью искупили // Европы вольность, честь и мир» [14, с. 269]), то Тряпкин продолжает тему на материале Великой Отечественной войны:
Не к векам Святослава
Крылья нашей молвы.
Слушай, Дон и Морава,
Слушай Курск и Варшава,
Голос красной Москвы!.. [21, с. 85].
Характерно, что Тряпкин сохраняет пушкинскую вопросительную интонацию, который вопрошал; «Иль русского царя уже бессильно слово? // Иль нам с Европой спорить ново? // Иль русский от побед отвык?»; «Еще ли северная слава // Пустая притча, лживый сон?» [14, с. 27–272]. Тряпкин часто обращается жанру пушкинских стансов, развивает образ Гришки Отрепьева, конкретизирует пушкинскую тему «племени молодого, незнакомого» и т. д.
Вновь и вновь к пушкинской теме возвращается наш земляк поэт А. Д. Дементьев. Для Андрея Дементьева Пушкин в годы голодного и холодного военного детства был одной из немногих мальчишеских радостей. К тринадцати годам, как вспоминает поэт, он прочёл всё, что было написано гением русской поэзии. Именно с этого началось постижение Дементьевым тайн поэтического слова. Не случайно стихотворение поэта «Болдинская осень», написанное им еще в годы учёбы в Литературном институте, насыщенно пушкинскими образами, лексикой, перекликается с пушкинской «Осенью» своей мелодикой: «В багрец и золото // Едва // Леса окрестные оделись, // Как уж и ветры расшумелись, // И зябко съежилась листва» [4, с. 42].
С годами, став зрелым поэтом, Андрей Дементьев вновь и вновь обращается в своём творчестве к образу Пушкина. Он берёт факты из жизни великого поэта в качестве материала для размышлений над нравственными проблемами жизни. Так, в 1965 году он написал стихотворение «Дантес», в котором воплотил мысль о подлости дуэли у Чёрной речки. Этот сюжет нашёл дальнейшее продолжение и развитие в другом известном стихотворении Дементьева «А мне приснился сон». В годы, когда на родине поэта и в местах, связанных с его пребыванием, стали регулярно проводиться Пушкинские праздники поэзии Дементьев написал ряд стихотворений, многие из которых связаны с пушкинскими местами Верхневолжья («Встреча Пушкина с Анной Керн», «А мне приснился сон», «У могилы Н. Н. Пушкиной», «Натали»). Он стремится очистить жизнь великого поэта от шелухи светских сплетен, вернуть доброе имя Наталье Гончаровой. Для Дементьева, говоря словами Пушкина, образ Натали Гончаровой – это «чистейшей прелести чистейший образец», перед которой нужно преклоняться уже только потому, что она удостоилась любви самого гениального человека ХIХ столетия, и была постоянным вдохновителем его выдающегося творчества.
Для А. Дементьева А. С. Пушкин является не только идеалом поэта, но и идеалом гражданина, идеалом нравственности. Воссоздавая образ Пушкина, поэт обращается к его личным письмам, как подлинным историческим свидетельствам: «Восхищением и бесконечной нежностью к Наталье
Гончаровой, – пишет А. Дементьев, – полны письма Пушкина. И когда читаешь их, слышишь голос не просто влюблённого человека, великого поэта, но чувствуешь за каждой строкой подлинного рыцаря, готового в любую минуту постоять за свою любовь и жизнью своей доказавшего это...» [5, с. 2]. Именно поэтому так проникновенно звучат строки стихотворения «Натали»:
Не ведал мир такой любви, не ведал мир такой печали. Он ей дарил стихи свои, что для неё в душе звучали [6, с. 15].
В стихотворении «Мойка, 12» Дементьев в применении к Пушкину реабилитирует понятие «чистое искусство», вкладывая в него значение истинности, духовности, не ангажированности. В стихотворении «Встреча Пушкина с Анной Керн» автор стремится опоэтизировать миг, когда поэт, очарованный красотой, «как пилигрим в пустыне – шел к роднику далеких глаз» [7, с. 81]. Миг, из которого родилось знаменитое и всеми любимое стихотворение гения. Поэт является постоянным участником Пушкинского праздника поэзии в Берново. Поэтому очень символично, что почти все его стихи о Пушкине впервые прозвучали на родной Тверской земле, «на гордых волжских берегах», на земле, которая до сих пор хранит ещё дух и образ великого поэта России.
Трудно назвать тверского поэта, который бы не обращался к жизни и творчеству А. С. Пушкина, к его образной системе. Талантливый тверской поэт Анатолий Скворцов в стихотворении «Июнь, Берново» писал: «Травы вызревают на опушках // В голубой пугливой тишине. // Еду снова на свиданье с Пушкиным, // Чтобы с ним побыть наедине» [17, с. 61]. Пушкинские места Тверской земли стали сквозной темой верхневолжской поэзии. В 60-е годы власти осознали культурологическую ценность литературных мест Тверской области. В 1960-м году по заданию обкома партии доцент Тверского пединститута Г. Костин, студент третьего курса В. Грехнев и я, студент второго курса, посетили памятные места Старицы, Торжка, Бернова,
Малинников, Прямухина, место захоронения А. Керн и написали справку об увековечивании памяти пребывания Пушкина на Тверской земле, необходимости реставрации барских усадеб в Бернове и Прямухине, об установке мемориальных досок и памятников. К настоящему времени все это воплотилось в реальности. С 1970 года в Бернове ежегодно стали проводиться Пушкинские праздники поэзии. «Каждый год к нему мы едем в гости. // Каждый день он сам приходит к нам» [17, с. 61], – писал А. Скворцов. Созвучно этому высказыванию стихотворение А. Гевелинга «Берново»: «Я знаю – уеду в Берново: // Там Пушкин. // Мне надо к нему» [3, с. 99]. При этом поэт вписывает берновские пейзажи в контекст пушкинских памятных мест всей России.
Галина Киселева в стихотворении «Берново» утверждает: «Он вечно жив, России гений. // Ему, влюбляясь до конца, // Приносят смены поколений // Цветы, поэмы и сердца» [9, с. 67].
Елена Бурчилина, рисуя берновский пейзаж, пытается разгадать в нем тайну поэтического гения Пушкина («В Бернове»), пытается защитить от кривотолков доброе имя Натали («К сонету А. С. Пушкина «Мадонна»). В защиту Пушкина от современных пересудов и сплетен выступает Галина Брюквина («Ах, Пушкин! Полюбите Натали…»). Татьяна Пушай стремится установить кровную связь с Пушкиным через очарование старого приусадебного парка в Малинниках: «Здесь красота открыта и строга, // Тебя одарит неизбывным светом, // И тополиный снег в разгаре лета // Легко летит в грядущие года» [12, с. 38].
Михаил Суворов в стихотворении «Перстень Пушкина» ставил проблему современного наследия гения Пушкина. Интертекстуальны в отношении к творчеству великого поэта его стихи «Монолог Отрепьева», «Марина Мнишек», «Монолог Сальери». В его стихотворении «Корсар» задается вопрос: «Чем всегда душа поэта и страдает и живет?» [19, с. 68] и утверждается свободолюбие и бунтарство Пушкина.
Евгений Сигарев, развивая пушкинскую тему в стихотворениях «Музыкальная Пушкиниана», «Идёшь, идёшь, и вдруг, как выстрел…», «Черная речка», «Убит поэт и стал загадкой…», «Ах, как блистала светская цивильность…», «Ах, Пушкин, Пушкин, вы, как Мекка…» и многих других, обращает внимание, прежде всего, на трагическую судьбу поэта, связывая её с трагической судьбой России, поэтизирует образ жены Пушкина, Натали, подчеркивает незримое присутствие гения великого стихотворца в нашей сегодняшней жизни: «Мы с детства Вашу песнь заводим // И Вашим молимся стихам. // Чем дальше мы от Вас уходим, // Тем ближе мы приходим к Вам» [16, с. 24].
Пушкинская тема варьируется в стихах Г. Степанченко («Тень Пушкина витает над Россией…»), О. Горлова («Пушкин»), Н. Веселовой («В Пушкиногорье»), В. Кокина («Через десять лет…»), Б. Рапопорта («Тверь. Памятник Пушкину»). Анатолий Устьянцев выступает в защиту пушкинского языка от посягательств современного сленга («На фоне Пушкина снимается кино…»), пушкинская строка входит в его стихи эпиграфом, аллюзией. Многие стихи Владимира Львова перекликаются со стихотворением А. С.
Пушкина «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы» не только концептуально, но и инновацией образов, традиционной метрикой.
Значительный вклад в тверскую стихотворную пушкиниану внес Валентин Штубов. Не случайно один из своих поэтических сборников он назвал «Душа в заветной лире». Он издал роман в стихах «Александр Пушкин», пока недооцененный критикой. В поэтическом сборнике «Двенадцать струн» он опубликовал поэтический цикл «Мой Пушкин» состоящий из тридцати стихотворений. В стихах Штубова рисуются и поэты пушкинского окружения. Для того чтобы составить разговор с Пушкиным, писать строфы от имени Пушкина, нелидовскому поэту надо было не только впитать в себя лексику основателя русского литературного языка, овладеть его ритмико-интонационной системой, но и воссоздать его образ в своей душе, понять его систему ценностей. Пушкин Штубова так оценивает явления отечественной поэзии ХХ века: «Мне ведом Блок, понятен и Есенин // И не всегда понятен Пастернак» [22, с. 77]. Взор Пушкина – это «взгляд небес открытый», а звезда его улыбкой брезжит. В стихах «Берново», «Берновский омут», «Ночью в Бернове» В. Штубов находит самые трогательные, проникновенные слова, использует пушкинскую ритмико-интонационную систему, чтобы передать свою духовную связь с русским гением: «Тихо дерево бормочет – // Словно гений вновь пророчит // Утешенье на века» [22, с. 102].
Главное в том, что тверские поэты ХХ века не уходят от классической эстетики и традиционной иерархии ценностей, именно поэтому они вольно или невольно обращаются вновь и вновь к А. С. Пушкину. И для всех нас незыблемым остается призыв – «Вперед, к Пушкину!»