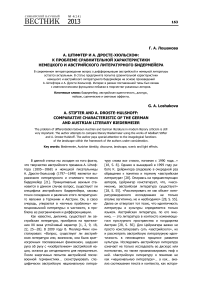А. Штифтер и А. Дросте-Хюльсхоф: к проблеме сравнительной характеристики немецкого и австрийского литературного бидермейера
Автор: Лошакова Г.А.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 4 (14), 2013 года.
Бесплатный доступ
В современном литературоведении вопрос о дифференциации австрийской и немецкой литературы остается актуальным. В статье предпринята попытка сравнительной характеристики немецкого и австрийского литературного бидермейера на основе произведений А. Штифтера и А. Дросте-Хюльсхоф. Интерес в рамках поставленной темы был связан с имагологическими функциями пейзажа в творчестве указанных авторов.
Бидермейер, австрийская идентичность, дискурс, пейзаж, сценические и световые эффекты
Короткий адрес: https://sciup.org/14113842
IDR: 14113842
Текст научной статьи А. Штифтер и А. Дросте-Хюльсхоф: к проблеме сравнительной характеристики немецкого и австрийского литературного бидермейера
В данной статье мы исходим из того факта, что творчество австрийского прозаика А. Штиф-тера (1805—1868) и немецкой писательницы А. Дросте-Хюльсхоф (1797—1848) является выражением литературного и стилевого течения бидермейер [21]. Принципиально важным становится в данном случае вопрос, существует ли специфика австрийского бидермейера, каковы точки схождения и различия этого литературного явления в Германии и Австрии. Он, в свою очередь, упирается в «вечные проблемы» немецкоязычной литературы: в частности, в проблему ее разграничения и дифференциации.
Как известно, дилемма, существует ли австрийская литература, приобрела на протяжении ХХ века устойчивый характер [1, 2, 9, 18, 22, 25—28]. В 2009 году В. Мюллер-Финк констатировал: «Вопрос, существует ли австрийская литература или, возможно, она была краткосрочным послевоенным феноменом, шедшим рука об руку с «изобретением» австрийской нации, остался до сегодняшнего дня нерешенным. После энергичных попыток австрийской послевоенной германистики… сконструировать специфически австрийскую национальную литера- туру снова все стихло, начиная с 1990 года…» [18, S. 8]. Однако в вышедшей в 1999 году работе К. Цейрингера следовало в очередной раз обращение к понятию и термину «австрийская литература» [28]. Опираясь на предшествующих авторов, Цейрингер констатирует, что, «несомненно, австрийская литература существует» [28, S. 55]. «Рассматривать ее как объект литературоведческого исследования не только вполне легитимно, но и необходимо» [28, S. 55]. Далее он отвергает тот тезис, что идентичность литературы и культуры определяется только языком. Австрийская литература, по его мнению, — это литература в контексте изменяющегося культурного пространства и государства Австрии [28, S. 56]. Для Цейрингера важно не просто констатировать суть «австрийского», но и рассмотреть австрийскую литературную идентичность в меняющемся процессе развития культуры. Исследовать австрийскую литературу означает не только исследовать ее дискурс или поэтологию, но также проанализировать миф о ней. «Австрийскую литературу я понимаю не как «национальную литературу»… а как… анализ соотношения текста и контекста, как истори- ко-литературное поле, которое необходимо исследовать с точки зрения истории культуры и социологии, социологии искусств и критики текста» [28, S. 58]. В 2011 году В. Кригледер снова обозначил вопрос дифференциации австрийской и немецкой литературы как наиболее острый, не имеющий однозначного решения [17, S. 13].
Следует отметить при этом, что проблема специфики австрийской литературы решалась российским литературоведением утвердительно уже с 70-х годов ХХ века. Об этом свидетельствовали работы А. В. Русаковой [12], Д. В. Затон-ского [3], А. В. Михайлова [5, 6], С. В. Рожнов-ского [11] и других ученых. При наличии в российском и немецкоязычном литературоведении большого количества исследований о специфике австрийской литературы мы опираемся в данном случае на работы Н. С. Павловой, содержащие, на наш взгляд, глубокий обобщенный анализ уникальности литературы Австрии [8, 9].
Универсализм в австрийской литературе достигался, по утверждению Н. С. Павловой, на иной основе, чем в немецкой. «Он не был плодом усилий личности, совершавшей непосильную и героическую… работу универсализации. Личность традиционно занимала подчиненное положение по отношению к действительности… Смысл не был прерогативой человека и духа, не привносился (как в крайнем варианте Новалиса) одухотворенной личностью в мертвую природу, — он светился в самой жизни, был разлит в действительности, нуждавшейся поэтому в постижении» [7, с. 265]. В первой половине ХХI века исследовательница также характеризует основные черты австрийской литературы в противопоставлении с немецкой. Она отмечает такие антитезы австрийской литературы, как «вера в раз установленный твердый порядок», с одной стороны, с другой же — представление о жизни как о «многоликой, неустойчивой, нетвердой, зыбкой» [9, с. 10].
Как «основополагающую черту австрийской литературы», отличающую ее от немецкой, Н. С. Павлова отмечает «приверженность эмпирике жизни, «вещи». Этим, по ее мнению, можно объяснить рецепцию немецкой классики. Как известно, в ней предпочтение было отдано не «идеальному» Шиллеру, а «объективному» Гете [9, с. 29]. Исследовательница находит «неисчерпаемую многозначность» героев и «вещей» в творчестве А. Штифтера. У него «…лес получил право жалобы» [9, с. 33]. Н. С. Павлова, таким образом, снова подчеркивает различие двух литератур, базирующееся на жизненности, вещности, с одной стороны, и на «трансреальности», на превалировании идеи — с другой. Она выделяет также «театрально-музыкальное народное начало» австрийской литературы, опираясь на характеристику, данную Г. фон Гофмансталем в 1916 году. Однако, как акцентирует Н. С. Павлова, оно присуще также и австрийской культуре в целом [9, с. 17].
Следует отдельно сказать еще о важной черте, проявившейся в австрийской литературе и культуре уже после 1945 года, времени, в котором с наибольшей интенсивностью утверждала себя австрийская «идентичность» [10, с. 4]. В сознании австрийцев еще с начала ХХ века развивалась тоска по утраченной стране, ассоциируемой ими со стабильностью и величием Габсбургской империи. Об этом, как известно, существовало множество свидетельств в литературе (Й. Рот, Г. фон Гофмансталь, С. Цвейг). В первые десятилетия после окончания Второй мировой войны начинается процесс демифологизации традиционной Австрии с ее парадной и идиллической стороной (Т. Бернхард, П. Хандке, П. Целан, И. Бахман, Э. Елинек). Во второй половине ХХ века в австрийской культуре и литературе складывается парадоксальная ситуация. Чтобы прийти к австрийской идентичности, осмыслить «австрийскость», необходимо было подвергнуть жесточайшему пересмотру традиционные культурные и нравственные ценности. Литература Австрии прошла и проходит и через этот процесс в поисках своей идентификации [10, с. 12].
Вернувшись к проблеме литературного би-дермейера и становления прозы Австрии, подчеркнув важность вопроса размежевания австрийской и немецкой литературы, можно выделить следующие утвердившиеся к настоящему времени в германистике и австристике положения. Традиционная наука, включая сюда и Ф. Зенгле, в целом все же не разделяет немецкий и австрийский бидермейер, хотя и выделяет какие-то специфические черты последнего. Так, Зенгле, начиная свое исследование, указывал на особое значение Австро-Венгрии в рамках данного стиля и эпохи. «Из четырнадцати авторов, которых мы выделяем… в анализе эпохи, шестеро австрийцы: Грильпарцер, Нестрой, Раймунд, Штифтер, Силсфилд, Ленау. Этот выбор совершен с чистой совестью. …автор не хотел бы традиционно льстить старой Австрии, но хотел бы правильно с исторической точки зрения интерпретировать ее» [21(1), S. 116].
Далее следует отметить, что в австрийском и немецком бидермейере существуют действительно общие как исторические, так и поэтоло- гические корни, хотя нет ни одного писателя, который по своему стилю походил бы на другого. Как австрийский, так и немецкий бидермей-ер не оставили после себя ни единой философии, ни программы, ни теоретически обоснованной школы. Однако, имея в виду тенденцию философского рационализма немецкой культуры в целом, можно выделить вслед за Г. С. Слободкиным следующий тезис. Австрийская культура — театр, музыка — «имели преимущество в чувственно-конкретной образности и были лишены налета чрезмерно немецкой умозрительности и абстрактности» [13, с. 14].
Необходимо также подчеркнуть, что в произведениях австрийского бидермейера проявляется, на наш взгляд, в большей степени одновременное воздействие литературы различных эпох, чем в немецком. Это объясняется тем, что, нагоняя в своем художественном развитии другие страны, Австрия одновременно усваивает многообразный эстетический опыт разных культурно-исторических периодов. По замечанию А. В. Михайлова, в литературе Австрии ХIХ века было все «перемножено, все отдельное глубоко переработано и все поставлено под знак эстетического совершенства» [6, с. 298]. Однако мы должны иметь в виду, что австрийская литература не восприняла в мировоззренческом плане немецкого романтизма, хотя в литературной практике он находил свое место. Вследствие этого совсем по-иному, чем в немецкой литературе этого периода, решается центральная проблема европейской литературы первой половины ХIХ века. Это проблема художника, необычайной творческой личности. В произведениях Ф. Грильпарцера («Бедный музыкант»), А. Штиф-тера («Полевые цветы», «Дурацкий замок») порывы и проявления романтической индивидуальности смиряются и на первый план в характере героев выступают человечность, смирение, отказ от эгоизма.
Исходя из вышесказанного, следует выдвинуть предположение, что различие немецких и австрийских текстов бидермейера может проходить по линии изображения природы. Это предположение может подкрепляться рядом тезисов Г. фон Гофмансталя, размышлявшего о своеобразии австрийской литературы [2]. Во-первых, Гофмансталь подчеркивает, что «всякий австрийский писатель творит на фоне своего ландшафта», тогда как немец скорее «отрешен от своего фона». «При мысли о Канте, Гельдерлине, Ницше уже по беспримерному парению духа, по самой высоте их взлета я могу заключить, что родиною их была Германия и что оттолкну- лись они от немецкой духовной почвы, но мне не различить цвета их оперения. Австрийская же птица никогда не взлетает настолько высоко, чтобы нельзя было узнать ее по окраске» [2, с. 646]. Во-вторых, выразителем обозначенных тенденций Гофмансталь считает А. Штиф-тера. «Занявшись каким-либо делом поближе к природе, став садоводом, сельским врачом, художником, собирателем древностей, эти благочестивые созерцатели (герои Штифтера. — Г. Л.) снова возвращаются к родной земле, с которой их разлучила жизнь. Природе предоставлено последнее слово, какой-нибудь ливень или снегопад вдруг приносит с собой решение всех вопросов, и собственная судьба передается в руки природы» [2, с. 648]. «…создаваемые его воображением человеческие судьбы, его новеллы, обнимающие целые жизни человеческие, Штиф-тер озаглавливает «Пестрые камни» или «Горный хрусталь», «Гранит», «Турмалин». … это не манерность, не жеманство. Самая глубинная суть его имеет что-то общее с этими простейшими творениями природы, он пропускает их сквозь себя и возвращает природе» [2, с. 648].
Штифтер А., действительно, был воспринят в ХIХ веке как поэт прекрасной природы, хотя и пишущий в прозе. Лишь во второй половине ХХ века была открыта философская глубина его произведений. Ученые ХХ века отмечали в его творчестве, в отличие от критиков предыдущего столетия, мотив равнодушной и угрожающей человеку природы [15, 19, 20]. Опираясь на исследования творчества Штифтера, можно вместе с тем констатировать, что пейзажи в его произведениях основаны всегда на глубоком чувстве, насколько бы некоторые из них ни казались «естественно-научными» и дискурсивно сдержанными. В них многое привнесено из драматургии [23, с. 158], а «природа анимати-чески оживляется» [15, S. 141]. Большую роль играют сценические и световые эффекты. Таково, например, описание лунной ночи в новелле «Кондор».
Нередко пейзаж становится основным действием дискурса, и речь должна идти уже об онтологическом осмыслении природы. Таково описание природного явления в очерке «Солнечное затмение 8-го июля 1842 года» (“Die Sonnenfinsternis am 8. Juli 1842ˮ). Затмение представлено как действие, как трехактная драма (начало — прибытие зрителей, далее — постепенное проникновение тени луны, кульминация — круг луны окончательно закрывает солнце, на короткое мгновение установление тьмы, далее — игра света и цвета, развязка — окончательное возвращение света и жизни). Переживание этого спектакля природы рождает у автора вопрос и о связи явлений природы и Бога. Штифтер пишет: «Почему, хотя все законы природы являются чудом и творением Бога, замечаем мы его присутствие в них менее, чем когда происходит их внезапное изменение и одновременно их нарушение, при которых мы внезапно с благоговейным ужасом созерцаем его стоящим рядом с нами? Не есть ли эта закономерность его блистающее одеяние, которое скрывает его, и не должен ли он время от времени приподнимать его, чтобы мы смогли увидеть его самого?» (перевод здесь и далее наш. — Г. Л.) [24, S. 511]. Проведя зрителей через потрясение, вызванное страхом и тайной, испытав душевное очищение, Штифтер побуждает читателей-зрителей задуматься о важных вопросах бытия.
В своем позднем творчестве Штифтер также опирается на метафору спектакля в изображении природы. В очерке «Зимние письма из Киршлага» (“Winterbriefe aus Kirschlagˮ, 1866), который в целом по стилю во многом приближается к естественно-научному, он рассказывает о спектакле, устраиваемом природой. Он отмечает движение облаков, изменение контуров и субстанции тумана и повсюду для обозначения происходящего использует именно слово “das Schauspielˮ [24, S. 538—540]. «Одно явление я должен упомянуть особо. Поздней осенью или ранней зимой туман в низине часто лежит неделями, временами еще дольше, в то время как в горах еще светит ясное, теплое солнце. Потом начинается своеобразный спектакль. Прежде чем восходит солнце, верхний слой стелющегося повсюду тумана окрашен в свинцовосерые тона, когда солнце уже взошло, он становится пурпурно-розовым, однако позднее солнце сияет, как искрящееся, расплавленное серебро, по краям которого резко выделяется голубизна Альп, а когда появляется полная луна, надо всей огромной массой разливается призрачный мягкий свет. Если днем на небе облака, то они создают на серебряном фоне голубые острова теней, и от этого все становится еще более великолепным и живым, и равнина кажется еще более протяженной» [24, S. 539]. Таким образом, движение тумана представлено как грандиозный спектакль, в котором изменение цвета, восход солнца, луна ночью и другие природные явления, переданные в рамках данного хронотопа, сопоставимы с освещенной сценой, на которой разыгрывается действие естественного мира. Вместе с тем описание тума- на и игра света поданы автором в таком ракурсе, что они непременно требуют зрителя, который бы мог прийти в восхищение от происходящего. Не случайно абзац заканчивается предложением «Кроме моря я не видел на земле ничего более чудесного» [24, S. 539].
Очерки А. Дросте-Хюльсхоф «У нас дома в деревне» и «Картины Вестфалии» (“Bei uns zu Lande auf dem Landeˮ, 1842; “Bilder aus Westfalenˮ, 1844) противоречат в общем утверждению Г. фон Гофмансталя, что партикуляризм был присущ только австрийской литературе. Дросте-Хюльсхоф ведет читателя в Вестфалию, открывая ее природу, нравы, обычаи и предания. В этом смысле они могут быть образцом бидермейеровского дискурса и жанровой картины (das Bild) в чистом виде, как ее характеризует Ф. Зенгле [21(2), S. 790]. Это описание края, основанное на путешествии рассказчика, его открытии и знакомстве с ним. Начав с момента обнаружения рукописи, повествующей о поездке дворянина из Лаузитца на родину своих предков в Вестфалию, рассказчик сразу же вводит мотив малой родины, выраженный в авторском металепсисе. «…это не роман, это наша земля, наш народ, наша вера…» [16, S. 293]. Вестфалия, как уже было указано, открывается повествователем через природу, однако обращает на себя внимание то обстоятельство, что изображение домашних сцен, общения с домочадцами и прислугой значительно превышает долю пейзажных зарисовок.
Рассказчик прежде всего акцентирует внимание на том, что он вместе с коляской чуть не провалился в песчаный вал (die Welle). Только потом он предлагает читателю зарисовку местности, способную пробудить положительное природное чувство. «Еще полдня пути, и местность постепенно проясняется; пустоши становится меньше, она покрывается цветами и почти что зеленью и начинает выглядеть почти идиллически с ее разбросанными жилищами, с бросающимися в глаза пестрыми стадами и группами деревьев на ней; справа и слева рощи…» [16, S. 297]. Далее рассказчик выстраивает повествование, в котором на первый план выходит семья вестфальского дворянина, его жена, дети, его род занятий и увлечений. Воспроизведены картины быта и нравов, природа остается фоном повествования. Текст А. Дросте-Хюльсхоф легко дифференцировать от аналогичных штифтеровских, в которых пейзаж дан как выражение внутреннего чувства (нередко скрытого), события или великого потрясения. Е. Р. Иванова указывает, однако, на субъектив- ное авторское начало очерков А. Дросте-Хюльс-хоф, в котором выражена ее искренняя любовь к Вестфалии, ее «малой родине» [4, с. 188].
Ср. описание путешествия в рассказе «Бригитта» Штифтера. «…на восьмой день я уже шагал по пуште, такой величественной и пустынной, какую можно увидеть только в Венгрии. Вначале душа моя была захвачена этой величавой картиной; ибо меня ласково овевал ветер бескрайних просторов, степь благоухала, и блеск, подобный блеску пустыни, был разлит повсюду; но когда то же самое повторилось и на другой день, когда и на третий не было ничего, кроме тонкой черты там, где небо сливалось с землей, — красота примелькалась, а глаз начал уставать, пресыщенный однообразной пустотой, словно бесконечной сменой впечатлений; от игры солнечных лучей, от сверкания трав взор мой обратился внутрь, в голове стали мелькать бессвязные думы, над степью зароились старые воспоминания…» [14, с. 269]. В данном отрезке текста пейзаж пушты становится поводом погрузиться в свой душевный мир, в свои воспоминания. У Дросте-Хюльсхоф рассказчик, утомленный описанием пустынного пейзажа, изображает быт и обычаи вестфальцев. Этнографический же аспект в дискурсе Штифтера обычно отсутствует.
Дросте-Хюльсхоф интересны характеры людей, населяющих Вестфалию. Так, повествователь обращает внимание на хитрость одного из слуг. В рамках одного предложения, которое можно обозначить как синтаксический период, он способен воспроизвести целую историю взаимоотношений людей. «...падерборнский проказник… хитрый, никчемный парень, издевающийся нещадно с помощью тысячи насмешек над своими друзьями из-за скуки, которую они доставляют ему, — господина он уговорит на все, как он хочет…» [16, S. 320]. Далее следует история о том, как хитроумный парень уговорил служанку, «несчастную подагрическую особу» излечить ее с помощью заговоренных шелковых лент, если она будет ставить каждый день корзину дров перед дверью хозяйской комнаты. Так он перекладывает свои обязанности на бедную девушку [16, S. 320].
В «Картинах Вестфалии» Дросте-Хюльсхоф в большей степени рисует ландшафт, чем в предыдущем произведении. Она воспроизводит именно картины Вестфалии, отличающиеся точностью в отображении деталей, изменяющиеся по мере продвижения рассказчика в пространстве текста. Чаще всего ландшафт эмоционально невыразителен, хотя его основной тонально- стью может быть как грусть, вызываемая созерцанием серой местности, так и радость (ср.: «Безотрадная местность! Необозримые песчаные равнины, прерывающиеся только у горизонта то там, то тут лесом или отдельными деревьями. Кажется, что воздух, несущий внутри себя морские ветра, только вздрагивает во сне. С каждым дыханием по равнине проходит мягкое, похожее на шум сосен журчание и рассеивает пылающими полосами песчаный гравий до ближайшей дюны…» [16, S. 322]). И далее: «Постепенно открываются между тем более приветливые картины (freundlichere Bilder), рассеянные в низинах травяные поляны, чаще встречающиеся и зеленеющие группы деревьев приветствуют нас как вестники приближающегося плодородия, и скоро мы прибываем в сердце Мюнстерланда, в местность, которая настолько привлекательна, насколько это позволяет полное отсутствие гор, скал и оживленных водных потоков… В высшей степени тихая, она, однако, ничего не имеет, что было бы свойственно для пустоши; более того, немного встречается ландшафтов, наполненных такой зеленью, пением соловьев и цветами, и путешественник, прибывший из менее влажной местности, будет почти оглушен трезвоном бесчисленных певчих птиц, отыскивающих свой корм в мягкой измельченной земле» [16, S. 323].
Однако А. Дросте-Хюльсхоф не останавливается на пейзажных зарисовках. Так же, как и в предыдущих очерках книги «У нас дома на земле», в вестфальских картинах автором уделено большое внимание этнографическому аспекту. Дросте-Хюльсхоф подробно описывает образ жизни жителей Мюнстерланда, Зауерлан-да, Падерборна. Она изображает праздники и похороны местных жителей, показывает их в движении танца или за деревенскими работами. Ей важно отметить разнообразие физиогномических типов, чтобы выявить различие между жителями Мюнстерланда, или Зауерланда, или Падерборна. Она охватывает в своем описании целый край в его общих чертах и деталях (см., например, описание жителя Зауерланда: «За-уерландец необыкновенно высок ростом и хорошо сложен, возможно, это самая высокая порода людей в Германии, но он менее гибок… Черты его лица, хотя отчасти широки и плоски, очень приятны, и при преимущественно светлокаштановых или белых волосах его голубые глаза с длинными ресницами блестят и смотрят, как черные. Его лицо дерзкое и открытое, его обхождение непринужденно, так что ты склоняешься к тому, чтобы считать его добродушным естественным человеком, чем кого-либо из его соседей-вестфальцев; и все-таки зауерландец не без примеси хитрости, скрытности и практической сметки, и даже самый ограниченный из них во всем другом будет иметь практическое преимущество перед самым ловким мюнстер-ландцем» [16, S. 331]). В целом повествование представляет собой текст своего времени и является выражением стиля бидермейер с его тенденцией описательности в «жанровых картинах».
Подводя итог анализа текстов А. Штифтера и А. Дросте-Хюльсхоф, можно представить следующие выводы. Вопрос об австрийской «идентичности» по-прежнему является актуальным для исследователей немецкоязычной литературы. Исходя из тезиса, что различие немецких и австрийских текстов бидермейера может проходить по линии изображения природы, можно утверждать:
Список литературы А. Штифтер и А. Дросте-Хюльсхоф: к проблеме сравнительной характеристики немецкого и австрийского литературного бидермейера
- Архипов Ю. И., Седельник Д. В. Введение//История австрийской литературы ХХ века. Т. 1. М., 2009. С. 5-21.
- Гофмансталь Г. Австрия в зеркале своей литературы//Гофмансталь Г. Избранное: пер. с нем./предисл. Ю. Архипова; коммент. Э. Венгеровой. М., 1995. С. 643-655.
- Затонский Д. В. Существует ли австрийская литература?//Современная литература за рубежом. М., 1975. С. 154-174.
- Иванова Е Р. Литература бидермейера в Германии ХIХ века. М.: Прометей: МПГУ, 2008.
- Михайлов А. В. Искусство и истина поэтического в австрийской культуре середины ХIХ века//Сов. искусствознание. М., 1976. № 1. С. 137-175.
- Михайлов А. В. Варианты эпического стиля в литературах Австрии и Германии//Типология сти левого развития Х!Х века/ред. Н. К. Гей. М., 1977. С. 267-307.
- Павлова Н. С. Типология немецкого романа. 1900-1945. М.: Наука, 1982.
- Павлова Н. С. О кротком законе//Штифтер А. Бабье лето/пер. с нем. С. Апта. М., 1999. С. 7-18.
- Павлова Н. С. Природа реальности в австрийской литературе. М.: Языки славянской культуры, 2005.
- Плахина А. В., Седельник Д. В. Послевоенный синдром: литература в поисках австрийской идентичности//История австрийской литературы ХХ века. Т. 2. 1945-2000. М., 2010. С. 3-17.
- Рожновский С. В. Прошлое и настоящее австрийской словесности: не совсем академические раздумья//Иностранная литература. 1981. № 9. С. 183-188.
- Русакова А. В. Австрийская литература: к проблеме изучения//История и современность в зарубежных литературах: межвузовский сб./под ред. В. Е. Балахонова. Вып. 1. Л., 1979. С. 146-152.
- Слободкин Г. С. Венская народная комедия ХIХ века. М.: Искусство, 1985.
- Штифтер А. Бригитта/пер. Д. Каравкиной//Штифтер А. Лесная тропа. Повести и рассказы: пер. с нем. М., 1971. С. 268-315.
- Begemann Ch. Die Welt der Zeichen. Stuttgart; Weimar: Metzler Verl., 1995.
- Droste-Hülshoffs Werke. In einem Band. Berlin und Weimar: Aufbau-Verl., 1973.
- Kriegleder W. Eine kurze Geschichte der Literatur in Österreich//Menschen -Bücher -Institutionen. Wien: Präsens Verl., 2011.
- Müller-Fink W. Komplex Österreich. Fragmente zu einer Geschichte der modernen österreichischen Literatur. Wien: Sonderzahl Verlagsges. m.b. H, 2009.
- Preisendanz W. Die Erzählfunktion der Naturdarstellung bei Stifter//Landschaft und Raum in der Erzählkunst/Hrsg. von A. Ritter. Darmstadt, 1975. S. 373-391.
- Seidler H. Die Natur in der Dichtung Stifters//Seidler H. Studien zu Grillparzer und Stifter. Wien : Böhlau Verl., 1970. S. 159-184.
- Sengte F. Biedermeierzeit. Deutsche Literatur im Spannungsfeld zwischen Restauration und Revolution 1815-1848. In 3 Bd./Bd. 1: Allgemeine Voraussetzungen, Richtungen, Darstellungsmittel. Stuttgart: Metzler Verl., 1971; Bd. 2: Die Formenwelt, 1972; Bd. 3: Die Dichter, 1980.
- Siegl W. Was ist Österreichisches an Österreich//Österreichische Literatur: Theorie, Geschichte und Rezeption: Jahrbuch der Österreich-Bibliothek in St. Petersburg/Hrsg. von A. Belobratow. 1995/1996. № 3. S. 6-14.
- Silman T. I. Adalbert Stifter. Bergkristall//Сильман Т. И. Пособие по стилистическому анализу немецкой художественной литературы. Л., 1969. С. 156-172.
- Stifter A. Die Mappe meines Urgrossvaters. Schilderungen. Briefe. München: Winkler Verl., 1986.
- Strelka J. Zwischen Wirklichkeit und Traum: das Wesen des Österreichischen in der Literatur. Tübingen, Basel: Francke Verl, 1994.
- Thurner E Gibt es eine österreichische Literatur?//Literatur aus Österreich. Österreichische Literatur. Ein Bonner Symposium/Hrsg. von K. K. Pohlheim. Bonn, 1981. S. 36-46.
- Zeman H. Die Österreichische Literatur -Begriff, Bedeutung und literaturhistorische Entfaltung in der Neuzeit//Die Österreichische Literatur. Ihr Profil von den Anfängen im Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert (1050-1750)/Hrsg. von H. Zeman. Graz: Böhlau, 1986. S. 617-640.
- Zeyringer K. Österreichische Literatur 1945-1998: Überblicke, Einschnitte, Wegmarkern. Innsbruck: Haynon-Verl, 1999.