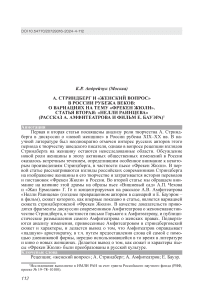А. Стриндберг и "женский вопрос" в России рубежа веков: о вариациях на тему "Фрекен Жюли". Статья вторая: "Нелли Раинцева" (рассказ А. Амфитеатрова и фильм Е. Бауэра)
Автор: Андрейчук К.Р.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 4 (71), 2024 года.
Бесплатный доступ
Первая и вторая статьи посвящены анализу роли творчества А. Стринд-берга в дискуссии о «новой женщине» в России рубежа XIX-XX вв. В научной литературе был неоднократно отмечен интерес русских авторов этого периода к творчеству шведского писателя, однако в вопросе рецепции взглядов Стриндберга на женщину остаются неисследованные области. Обсуждение новой роли женщины в эпоху активных общественных изменений в России оказалось встречным течением, определившим особенное внимание к некоторым произведениям Стриндберга, в частности пьесе «Фрекен Жюли». В первой статье рассматриваются взгляды российских современников Стриндберга на изображение женщины в его творчестве и затрагивается история переводов и постановок «Фрекен Жюли» в России. Во второй статье мы обращаем внимание на влияние этой драмы на образы пьес «Вишневый сад» А.П. Чехова и «Жан Ермолаев» Г. Ге и концентрируемся на рассказе А.В. Амфитеатрова «Нелли Раинцева» (позднее превращенном автором в сценарий и Е. Бауэром -в фильм), сюжет которого, как впервые показано в статье, является вариацией сюжета стриндберговской «Фрекен Жюли». В качестве доказательств приводятся фрагменты дискуссии современников Амфитеатрова о женоненавистничестве Стриндберга, в частности письмо Горького к Амфитеатрову, и публицистические размышления самого Амфитеатрова о женских правах. Подвергаются анализу изменения, привнесенные Амфитеатровом в стриндберговский сюжет и характеры, и делается вывод о том, что Амфитеатров оправдывает «падшую» аристократку, в т. ч. путем предоставления слова ей самой с помощью дневниковой формы, нередко использовавшейся в то время в литературе и кино о новых женщинах. Делается вывод о том, как сюжет и характеры пьесы «Фрекен Жюли» были преобразованы в русской культуре.
Рецепция, «женский вопрос», а. стриндберг, а. амфитеатров, е. бауэр
Короткий адрес: https://sciup.org/149147180
IDR: 149147180 | DOI: 10.54770/20729316-2024-4-112
Текст научной статьи А. Стриндберг и "женский вопрос" в России рубежа веков: о вариациях на тему "Фрекен Жюли". Статья вторая: "Нелли Раинцева" (рассказ А. Амфитеатрова и фильм Е. Бауэра)
Reception, “women’s question”; August Strindberg; “Fröken Julie”; A. Amfiteatrov; “Nelly Raintseva”; E. Bauer.
В предшествующей статье «А. Стриндберг и “женский вопрос” в России рубежа веков: о вариациях на тему “Фрекен Жюли”. Статья первая: к постановке проблемы» [Андрейчук 2024] мы обратились к истории рецепции пьесы «Фрекен Жюли» в России и рассмотрели «встречное течение» интереса к взаимоотношениям полов в контексте социальных условий у русских авторов рубежа веков и начала XX в., приведшее к появлению вариаций на тему «Фрекен Жюли» Стриндберга. В этой статье мы обратимся к вопросу о том, какие поднятые Стриндбергом проблемы в первую очередь привлекали его российских современников, и рассмотрим влияние «Фрекен Жюли» на русские литературные и кинематографические произведения, в частности ранее не исследованную связь с этой пьесой рассказа А.В. Амфитеатрова «Нелли Раинцева» (1896) и снятого по нему одноименного фильма Е. Бауэра 1916 г.
Любопытно, какие названия получала пьеса в русских переводах и поста- новках: «Графиня Юлия» (так перевела название Шаврова-Юст) в некоторых постановках получила название «Графиня и лакей» [Шарыпкин 1980, 265]. В 1908 г. вышел перевод Феофана Платоновича Шипулинского под названием «Барышня» [Стриндберг 1908]. Фильм Протазанова получил название «Плебей». То есть на первый план русская рецепция выводила именно проблему межсословной связи.
Горький в связи со Стриндбергом тоже подчеркивал тему лакейства. Горького восхищала смелость шведского автора в изображении «аристократизма холопов», «холопища гнуснейшего» с его подлой душой. Для Горького важным у Стриндберга оказался прежде всего образ Холопа, Лакея, Грядущего Хама. «Ницше где-то сказал: “Все писатели всегда лакеи какой-нибудь морали”. Стриндберг – не лакей. Я – лакей и служу у барыни, которой не верю, не уважаю ее. Да и знаю ли я ее? Пожалуй – нет» [Горький 1997б, 340], – пишет он в ответ Чехову, сравнившему его со Стриндбергом.
Исследователи творчества Чехова иногда возводят образы Яши и Лопахина из пьесы «Вишневый сад» (1903) к образу лакея Жана из «Фрекен Жюли» [Одесская 2007, 225]. Лопахин, как и Жан, готов ради выгоды (отеля у Стринд-берга и дач у Чехова) уничтожить то, что имеет нематериальную ценность для аристократии: Жан отрубает голову чижику, а Лопахин вырубает вишневый сад. Лопахин не такой однозначный персонаж, как Жан, грубо отрицающий все, что было свято для аристократии. Зато таким же грубым лакеем предстает у Чехова Яша – «и хозяин, и раб одновременно» [Одесская 2007, 223]. Разумеется, идея «Вишневого сада» не была взята Чеховым непосредственно из пьесы «Фрекен Жюли» (она исходит из личного опыта писателя – продажи с аукциона дома в Таганроге и присутствует уже в рассказе «Цветы запоздалые» 1882 г.), однако некоторое влияние Стриндберга представляется весьма возможным и могло бы быть предметом отдельного исследования.
Связь между «Фрекен Жюли» и «Вишневым садом» была, вероятно, замечена и современниками. Так, Яков Протазанов, режиссер фильма «Плебей» по мотивам «Фрекен Жюли», неслучайно взял на главную роль Николая Радина, до этого сыгравшего Ермолая Лопахина в «Вишневом саде».
Известный актер Григорий Ге в 1906 г. в качестве пародии на «Фрекен Жюли» написал водевиль «Жан Ермолаев». Имя героя отсылает к имени лакея из пьесы Стриндберга, а фамилия – к чеховскому Ермолаю Лопахину. В Жана Ермолаева, так же, как и в стриндберговского Жана, влюблена барыня. Он же стремится заработать денег и открыть трактир (Жан из «Фрекен Жюли» также планирует открыть отель, когда уедет за границу). Отель и трактир, как и дачи, которые Лопахин собирается строить на месте вишневого сада, являются, с одной стороны, приметой времени, когда на смену аристократии приходят предприниматели, а с другой – символом подмены ценностей пошлостью жизни. По мнению М. Одесской, объединение Чехова и Стриндберга в этой «непритязательной пьеске» неслучайно, т.к. Стриндберг входил в русскую культурную жизнь по пути, проторенному Чеховым, причем «в сознании некоторых современников сформировался некий “чеховско-стриндберговский” эстетический код» [Одесская 2015, 154].
Если связь «Фрекен Жюли» и «Вишневого сада» (и, еще очевиднее, «Жана Ермолаева») в научной литературе время от времени обсуждается, то влияние шведской пьесы на два других русских произведения ранее не было отмечено исследователями. Речь идет о рассказе А.В. Амфитеатрова «Нелли Раинцева» (1896) и снятому по нему в 1916 г. Е. Бауэром фильме.
Рассказ был издан в 1908 г. вместе с несколькими другими работами в сборнике «Фантастические правды» 1908 г. под рубрикой «Междусословные пары». Образ плебея-любовника главной героини отходит в этом рассказе на второй план. На первый план выходят мотивировки и характер женщины. Положение женщины вообще очень интересовало Амфитеатрова: он посвятил женскому вопросу публицистический сборник «Женское нестроение», вышедший в 1905 г. В одной из статей этого сборника – «Женщина в общественных движениях России» – мы нашли строки, навеянные, как нам кажется, Стринд-бергом, а именно одним из первых его романов «Сын служанки» 1886–1887 гг. Амфитеатров пишет: «много и справедливо писано в защиту “кухаркина сына”, <а> мытарства и страдания “кухаркиной дочери” проходили и проходят под шумок. Обществу все как-то не до них! И это “не до них” опаснее и горше правительственной репрессии» [Амфитеатров 1908, 305–306].
В рассказе «Нелли Раинцева», кстати, горячо одобренном Горьким – активным участником дискуссии о новом положении женщины [Горький 1997а, 36], как и в стриндберговской «Фрекен Жюли», незамужняя героиня с высоким общественным положением вступает в связь со слугой своего отца и в итоге кончает жизнь самоубийством. Героиня не считает себя аристократкой, она дочь биржевого маклера, но ее родители называют себя аристократами.
Исходные данные у героинь очень похожи. Стриндберг мотивирует поступки и судьбу фрекен Жюли, как он сам пишет в предисловии, в числе прочего «преступлением» матери (тоже имевшей любовника-неаристократа и давшей ему деньги на строительство кирпичной фабрики) и семейным разладом [Стриндберг 1986, 484].
О матери Нелли Раинцевой у Амфитеатрова герои говорят, что она «невредная баба», имея в виду то, что она не отказывает в своем внимании поклонникам: «Мамá меня не любила, т.-е. нет: была ко мне безразлична, – любить и не любить она не может! – говорит Нелли. – Мамá не до меня, потому что она – “невредная баба”» [Амфитеатров 2001, 153]. Отцы Нелли у Амфитеатрова и Жюли у Стриндберга мало занимаются дочерями: Стриндберг мотивирует судьбу своей героини в числе прочего «неправильным воспитанием отца» [Стриндберг 1986, 482], Амфитеатров сообщает об отце Нелли ее устами: «Папá не до меня из-за биржи и Сельскохозяйственного клуба» [Амфитеатров 2001, 153].
Нелли, как и Жюли, ищет развлечений в низших слоях общества: она то наряжается мальчиком и тайком исчезает «с гусарской компанией кузенов в какой-нибудь шикарный шато-кабак» [Амфитеатров 2001, 154], то вместе со служанкой ускользает на праздник прислуги.
Однако Нелли, в отличие от Жюли, ищет выхода «из мира ликующих, праздно болтающих» – она сама цитирует эти строки Некрасова, когда размышляет о возможности посвятить жизнь медицине, как уважаемая ей подруга, врач Корецкая [Амфитеатров 2001, 156]. Нелли пытается найти в себе различные таланты: играет рапсодию Листа перед Рубинштейном, показывает свои стихи и рисунки знаменитым литераторам и художникам в надежде найти в них учителей, однако все они советуют ей лучше выходить замуж, из чего она делает вывод о своей посредственности.
Нелли иронизирует над собой, рассказывая об этом. Уточняет, что вся ее эксцентричность «с разрешения начальства», вспоминая о то, как мать говорила ей: «У кого нет средств блистать, как Рекамье, той надо заставить заметить себя, прикинувшись хоть Марией Башкирцевой» [Амфитеатров 2001,
154–155]. Мария Башкирцева – художница-вундеркинд с трагической судьбой, изданные дневники которой стали знаменитыми и вызвали большую дискуссию в обществе (в ней участвовали Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, В.Я. Брюсов, В.В. Хлебников, М.И. Цветаева). Амфитеатров ставил Башкирцеву в ряд «демонических женщин», к которым причислял и исполнительницу главной роли во «Фрекен Жюли» Лидию Яворскую [Амфитеатров 1932].
Чтобы показать мотивы поступков Нелли и раскрыть ее личность, Амфитеатров дает слово своей героине: рассказ представляет из себя ее большую предсмертную записку (которую находит, кстати, горничная Таня – аналог стриндберговской Кристины с той лишь разницей, что Нелли и Таня весьма дружны). Если Стриндберг, несмотря на свои утверждения о том, что «авторский краткий суд над людьми: тот глуп, а тот груб, тот ревнив, а тот скуп и т. д. должен быть отвергнут натуралистом, который знает, как сложна и богата душа, и который чувствует, что у «порока» есть обратная сторона, очень похожая на добродетель» [Стриндберг 1908, 35], все же судит Жюли с позиции мужчины, то Амфитеатров пытается поставить себя на место думающей и чувствующей женщины, которая пытается найти себе место в жизни.
В отличие от Стриндберга, Амфитеатров с сочувствием изображает прислугу. Нелли говорит: «вот что меня поразило: никто из кавалеров этой «хамской» вечеринки не говорил своей даме и тысячной доли тех пошлостей, двусмысленностей, сальных каламбуров, какими занимают нас – demi-vierges – под видом флерта, Петьки Аляповы и компания. Флерт был и тут, были шутки – наивные, нескладные, часто грубые, но не гнусные» [Амфитеатров 2001, 160].
Амфитеатров не рисует любовника главной героини жалким лакеем: Нелли связывается с письмоводителем своего отца Петровым, причем с обеих сторон присутствуют по меньшей мере влюбленность. Атмосфера, при которой начинается их связь, как будто скопирована со стриндберговской Ивановой ночи: словами Стриндберга из предисловия к «Фрекен Жюли» – «праздничное настроение в канун Иванова дня, <…> будоражащее воздействие танцев; ночные сумерки, пьянящий аромат цветов; и наконец, случайность, столкнувшая героев в одной комнате, плюс накаленная отвага соблазнителя» [Стриндберг 1986, 482].
Нелли, в отличие от Жюли, с уважением относится к своему жениху Крос-сову. Если стриндберговская Жюли должна совершить самоубийство из некого наследственного чувства чести («дочь должна отомстить сама за себя, как она делает это в пьесе, из врожденного или приобретенного понятия чести, которое аристократы получили в наследство» [Стриндберг 1986, 484], – пишет Стриндберг в предисловии), то Нелли кончает жизнь самоубийством в первую очередь из-за того, что не хочет обманывать жениха и выходить замуж, будучи беременной от другого.
Надо заметить, что еще одним претекстом рассказа Амфитеатрова, помимо пьесы Стриндберга, можно считать роман «Жертва вечерняя» П.Д. Боборыкина – того самого, который критиковал Стриндберга за женоненавистничество [Боборыкин 1893; Боборыкин 1894]. Роман написан в 1868 г., т.е. задолго до «Фрекен Жюли». Роман, как и рассказ Амфитеатрова, по большей части представляет из себя дневник героини Марьи Михайловны. В романе есть аналог Корецкой – Лизавета Петровна, посвятившая себя помощи бедным и перевоспитанию девушек. Однако Марья Михайловна, несмотря на все свои попытки, не может побороть в себе стремление к наслаждению, тоже вступает во внебрачную связь (впрочем, не со слугой, а с литератором) и в конце кон- цов кончает жизнь самоубийством, так же, как и Нелли, желая добра своему жениху. Боборыкин, как и Амфитеатров и в отличие от Стриндберга, ведет повествование от первого лица, предоставляя голос самой женщине, показывая ее лучшие устремления и тем самым оправдывая. Кроме того, сам Амфитеатров указывал на некую скандальную историю, произошедшую «в московском большом свете второй половины восьмидесятых годов» [Амфитеатров 2001, 7–8], которая также подтолкнула его к написанию рассказа.
В 1916 г. Е.Ф. Бауэр, один из самых известных режиссеров того времени, новатор и провидец новых средств языка кино, таких как параллельный монтаж, имитация документальных кадров, наезд и крупный план деталей, заказал Амфитеатрову сценарий по его рассказу «Нелли Раинцева». Сценарий по сравнению с рассказом был осовременен: например, среди знаменитостей, к которым ездит Нелли спрашивать о своем таланте, появился популярный тогда Леонид Андреев [Амфитеатров 1916] (в исполнении Михаила Стальского).
Появление Леонида Андреева неслучайно. Л. Андреев сходным со Стриндбергом образом воспринимался современниками как писатель «дерзкий», врывающийся «в домашнюю жизнь» обывателя со «скандалом» [Блок 1962, 555] – и при этом чрезвычайно одинокий в своих терзаниях (типологическим сходствам творчества этих двух авторов частично посвящена статья [Михайлова, Михеичева, 2020, 101–104], авторы которой ссылаются на работы А. Блока, М. Горького, А. Луначарского об А. Стриндберге и о Л. Андрееве). Современные исследователи отмечают сходство теории драмы А. Стриндберга и Л. Андреева [Михайлова, Михеичева 2020, 107–108], а также схожую эволюцию литературного метода А. Стриндберга и Л. Андреева, начавших писать «в русле реализма с заметными натуралистическими веяниями, но затем обретших новое качество художественной мысли, отмеченное значительно большей сложностью» [Келдыш 2010, 365].
Однако непосредственной причиной появления персонажа Л. Андреева в фильме Бауэра на «женскую» тематику стало, на наш взгляд, активное участие писателя в дискуссии о «женском вопросе». Позиция Л. Андреева имела определенное сходство с позицией А Стриндберга: пьесы Л. Андреева «Екатерина Ивановна» и «Анфиса», в центре которых стоят женские характеры и внутрисемейные отношения, напоминают драмы «Фрекен Жюли» и «Отец» Стриндберга. Героини Л. Андреева так же, как фрекен Жюли, отходят от женского естества и тем самым приближают трагическую развязку [Михайлова, Макарова 2015, 139].
Картина Бауэра стала популярна и получила хвалебные критические отзывы [Иванова 2002, 337–341]. Фильм оказался одним из наиболее значимых в длинном ряде картин 1910-х гг. о женщине в новых исторических условиях, одной из примет которых стало присутствие «образцовой» «новой женщины», очень часто врача по профессии (в фильме Бауэра по сценарию Амфитеатрова это – врач Корецкая) [Смагина 2019, 110].
Если киноистории начала XX в. о женщинах-врачах обычно заканчиваются хорошо, то сюжеты о женщинах из высших слоев общества без определенных занятий часто строятся вокруг их «падения» и последующего самоубийства. Особенно часто сюжет о «падении» и самоубийстве появляется в фильмах двух известнейших режиссеров того времени – Евгения Бауэра и Петра Чардынина. У Бауэра этот сюжет использован в числе прочего в знаменитом фильме «Сумерки женской души» 1913 г. Кстати, соблазнитель там носит ту же фамилию Петров, что и герой рассказа «Нелли Раинцева». Любопытно, что в Швеции картина «Сумерки женской души» была запрещена цензурой (как в России пытались запретить «Фрекен Жюли»).
Иван Перестиани снял в 1918 г. фильм «Жертва вечерняя» по уже упоминавшемуся роману Боборыкина на ту же тему (и сыграл одну из ролей). Фильм не сохранился, поэтому неизвестно, было ли в нем передано повествование от первого лица. Тем не менее, форма дневника (часто становящегося эпитафией) была распространена в картинах о новых женщинах (см. фильмы «Дневник горничной», «Девушка из кафе», «Юрий Нагорный» и др.).
В фильме «Нелли Раинцева» сохранить повествование от первого лица удалось при помощи титров. Начинается картина со сценки с горничной Таней, которая находит предсмертную записку Нелли Раинцевой, а дальше зритель как будто вместе с Таней читает слова Нелли. Титры написал сам Амфитеатров в своем сценарии, их довольно много, и все они от первого лица.
В заключение заметим, что хотя похожие на «Фрекен Жюли» сюжеты существовали в России и до переводов Стриндберга, интерес к пьесе «Фрекен Жюли» оказался столь велик, что привел к появлению подражаний и вариаций на тему, яркими примерами которых являются рассказ А. Амфитеатрова «Нелли Раинцева» и снятый по нему фильм Е. Бауэра. Можно говорить о т. н. «встречном течении» интереса к взаимоотношениям полов и проблеме межсословной связи у русских авторов рубежа веков и начала XX в., но и т.н. «плебеи», и «падшие» аристократки в литературе и кино не вызывают отвращения, как это было у Стриндберга. Рецепция Стриндберга в России шла на фоне дискуссии о женских правах, когда о положении женщины сочувственно высказывались крупнейшие писатели (такие, как, например, М. Горький, Л. Андреев и А.П. Чехов, который, возможно, отсылал к Стриндбергу, когда писал «Вишневый сад»). Стриндберговская критика современной женщины не находит отклика у русских авторов: женщина у Амфитеатрова и Бауэра ищет выхода из своего мещанского быта, пусть и не находит его.
Список литературы А. Стриндберг и "женский вопрос" в России рубежа веков: о вариациях на тему "Фрекен Жюли". Статья вторая: "Нелли Раинцева" (рассказ А. Амфитеатрова и фильм Е. Бауэра)
- Амфитеатров А.В. Женское нестроение. Спб: Общественная польза, 1908. 401 с.
- Амфитеатров А.В. Предтеча демонических женщин. Памяти Т.С. Любатович // Сегодня. 26-09-1932. № 267.
- Амфитеатров А.В. Собрание сочинений в 10 т. Т. 3. М.: Интелвак, 2001. 890 с.
- Андрейчук К.Р. А. Стриндберг и «женский вопрос» в России рубежа веков: о вариациях на тему «Фрекен Жюли». Статья первая: к постановке проблемы // Новый филологический вестник. 2024. № 3. Т. 70. С. 341-350.
- Блок А.А. Собр. соч.: в 8 т. Т. 5. М., Л.: Художественная литература, 1962. 804 с.
- Боборыкин П. Д. Литературный театр. Артист. 1894. № 34. С. 26-28.
- Боборыкин П. Д. Противник женских прав в Швеции // Книжки Недели. 1893. № 4. С. 243-248.
- Горький М. Полное собрание сочинений. Письма: в 24 т. Т. 3. М.: Наука, 1997. 499 с.
- Горький М. Полное собрание сочинений. Письма: в 24 т. Т. 1. М.: Наука, 1997. 707 с.
- Иванова В. (сост.) Великий Кинемо: Каталог сохранившихся игровых фильмов России (1908-1919). М.: НЛО, 2002. 564 с.
- Келдыш В.А. О «серебряном веке» русской литературы. Общие закономерности. Проблемы прозы. М.: ИМЛИ РАН, 2010. 512 с.
- Михайлова М.В., Макарова А.А. Формы воплощения семейного конфликта в драмах Л. Андреева «Анфиса», «Екатерина Ивановна» // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2015. № 5. С. 138-144.
- Михайлова М.В., Михеичева Е.А. А. Стриндберг - Л. Андреев: заочный диалог о «новой драме» // Русская литература: ХХ век и современность. М.: МАКС ПРЕСС, 2020. С. 99-113.
- Одесская М.М. Ибсен, Стриндберг, Чехов в свете концепции вырождения Макса Нордау // Одесская М.М. (сост.) Ибсен, Стриндберг, Чехов: Сб. статей. М.: РГГУ, 2007. С. 211-226.
- Одесская М.М. «Фрекен Жюли»: жизнь во времени // Тоштендаль-Салыче-ва Т. А., Кобленкова Д.В., Одесская М.М. (ред.). Неизвестный Стриндберг. М.: РГГУ, 2015. C. 152-172.
- Смагина С.А. Образ новой женщины в кинематографе переходных исторических периодов (дисс. докт. искусствоведения). М., 2019. 349 с.
- Стриндберг А. Барышня (Юлия): Натуралистическая трагедия / пер. Ф.П. Ши-пулинского. СПб.: Тип. В.Я. Мильштейна, 1908. 89 с.
- Стриндберг А. Избранные произведения: в 2 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1986. 527 с.
- Стриндберг А. Полное собрание сочинений. М.: В.М. Саблин, 1908. 293 с.
- Шарыпкин Д.М. Скандинавская литература в России. Л.: Наука, 1980. 320 с.