Русская литература и литература народов России. Рубрика в журнале - Новый филологический вестник

Статья научная
Философ и критик русского зарубежья Ф. А. Степун в литературно-критических полемиках первой волны эмиграции занимал срединную позицию: скептически относился к зарубежной литературе, что раздражало эмигрантских писателей и критиков, но в то же время сдержанно высказывался о советской литературе и предлагал рассуждать о ней с целым рядом ограничений. Так, в очерке из цикла «Мысли о России», опубликованном в «Современных писках» за 1925 г., Степун, рассматривая актуальные художественные явления советской и эмигрантской литератур, утверждал, что советская литература направлена в будущее, а эмигрантская в прошлое. И писатели метрополии, и писатели эмиграции при всех формальных и идеологических различиях, по мнению критика, едины в стремлении отрицать настоящую Россию. Именно поэтому в концепции Степуна обе эти литературные традиции нежизнеспособны. Возможные пути преодоления этого разрыва Степун наметил в статье «Пореволюционное сознание и задача эмигрантской литературы», опубликованной в «Новом Граде» в 1935 г. Проблематизируя категории «памяти» и «воспоминания», критик ставил перед эмигрантской литературой задачу связать литературу и политику. В сущности, это тот же самый призыв не отрицать настоящую России и вообще настоящее. В целом темпоральные дискурсы, описанные Степуном, объясняют его обособленное положение в эмигрантских литературно-критических дискуссиях о путях развития русской литературы после революции и его стремление беспристрастно вглядываться советскую и эмигрантскую литературы.
Бесплатно

"...Не хуже короля Лира": статуя "Царь Иоанн Грозный" М.М. Антокольского в восприятии И.С. Тургенева
Статья научная
В статье дается проблемный анализ «Заметки », написанной и опубликованной И.С. Тургеневым в 1871 г. Этот короткий очерк, рассмотренный сквозь призму недавнего тургеневского творчества, свидетельствует о конгениальности созданной молодым художником скульптуры русского царя. Через сравнение специфики образа главного героя повести «Степной король Лир» с изображением Антокольского удается установить генезис писательского впечатления. Главным в статуе Ивана Грозного для Тургенева оказывается яркое воплощение трагического противоречия. Описывая изображение царя, писатель принципиально акцентирует эстетический синтез, берущий свое начало в «классической» интерпретации Н.М. Карамзина. Но соединение противоположностей он мыслил как сложное целое, основанное не только на вполне очевидном внешнем контрасте, но и на создании внутренней «гармонии». Разработав в повести 1870 г. русский характер с опорой на типологические черты исторической образности и в диалоге с У. Шекспиром, Тургенев обнаружил этот художественный комплекс (простое и значительное, вседневное и национальное, конкретное и общее) в момент оценки изваяния. В статуе царя, созданной Антокольским, он находит живой отклик на свои собственные представления. Пристально вглядываясь в каждую деталь фигурного рисунка, Тургенев выводит психологическую характеристику, которая во многом соответствует прежде созданному им образу, что в результате усложняет происхождение простого очерка и углубляет его содержание.
Бесплатно

"Криптоусадебная мифология" в повести А.П. Гайдара "На графских развалинах"
Статья научная
Усадебная мифология в повести А.П. Гайдара «На графских развалинах» (1928) анализируется с помощью нового теоретического инструментария, релевантного «усадебному тексту» русской литературы советского периода, по ряду признаков отличному от эпохи Серебряного века. Выдвинут новый термин «криптоусадебная мифология», суть которого в имплицитном присутствии в произведении положительного «усадебного мифа» рубежа XIX-XX вв. под покровом советской неомифологии как мечты о справедливом социальном строе и новом человеке, с одной стороны, и как отрицания помещичьей усадьбы из-за пороков и эксплуататорской сущности ее хозяев с другой. Доказывается, что, несмотря на критику дореволюционных порядков, повесть Гайдара является органической частью «усадебного текста» русской литературы XIX начала XX в. как в ее «готическом модусе», так и в аспекте утверждения идеала «рая на земле», присущего и традиционной «усадебной культуре», и новому советскому строю. Благодаря обнаружению в повести «криптоусадебной мифологии» сделан вывод о том, что истинными наследниками непреходящих ценностей вековой «усадебной культуры» становятся не графские, не помещичьи дети, предавшие высокие идеалы своих предков, а советские школьники конца 1920-х гг. из простых крестьянских семей, для которых бывшая владельческая усадьба превращается в общественное, народное достояние. Исследование выполнено с использованием элементов тезаурусного, контекстуального и мифопоэтического подходов в рамках исторической поэтики, а также с обращением к биографическому методу.
Бесплатно

"Мастер и Маргарита" и "Доктор Живаго" в повести Ю.В. Трифонова "Другая жизнь"
Статья научная
В статье рассматривается диалогическая природа повести Ю.В. Трифонова «Другая жизнь» (1975), в частности, ее взаимодействие с двумя ключевыми романами ХХ в. - «Мастером и Маргаритой» М.А. Булгакова и «Доктором Живаго» Б.Л. Пастернака. Выдвигается гипотеза о том, что жизнь главного героя повести, Сергея Троицкого, резонирует с историей булгаковского Мастера, а его внезапная смерть - со смертью Юрия Андреевича Живаго. Маркерами, сближающими первую пару героев, становятся служба в музее, попытка восстановления истории, мотив уцелевших рукописей (документов), контакт или попытка контакта с потусторонним миром. Подобно Мастеру, Сергей - историк не столько по образованию, сколько по складу мировоззрения. Его понимание истории как непрерывной нити, стремление «угадать» прошлое, сложность душевной организации, принимаемая едва ли не за безумие - слабые отголоски тех свойств характера и мировоззрения, которые были сформированы у героя Булгакова в досоветское время. Смерть Сергея Троицкого, которая в соответствии с хронологией романа приходится на финал «оттепели» (1969 или 1970 г.), соотносится со смертью Живаго в «год великого перелома». Сама история Сергея в этом ряду становится еще одним подтверждением той непрерывной нити, которая связывает его не только с непосредственными предками, но и с литературными предшественниками. В статье анализируются как прямые реминисценции, так и едва уловимые аллюзии, которые оказываются важными для понимания трех «московских текстов». Проведенный анализ позволяет рассматривать «Другую жизнь» как одно из значимых произведений о «сдаче и гибели советского интеллигента».
Бесплатно

"Онегинский" текст в стихотворении И.А. Бродского "Пенье без музыки"
Статья научная
В исследовании анализируется стилистическое построение и система мотивов стихотворения И.А. Бродского «Пенье без музыки». Среди задач исследования - выявить переклички «Пенья без музыки» с текстом «Евгения Онегина» на уровне микросюжетов, лексики, некоторых особенностей формы (сентентичность текстов, использование анжамбеманов). В одном из своих интервью Бродский подчеркивает: «.мы все до известной степени так или иначе (может быть, чтобы освободиться от этой тональности) продолжаем писать “Евгения Онегина”». Ю.Б. Карабчиевский делает следующее предположение о поэзии Бродского: «Быть может, такие стихи писал бы Онегин.», а М.Б. Крепс отмечает, что для поэзии Бродского вообще характерна позиция остранения, «приемы камуфляжа». Результатом исследования становится прочтение стихотворения «Пенье без музыки» как лирического высказывания, созданного в координатах онегинского письма к Татьяне, как «письмо после письма». При этом у Бродского сохраняется лирическая «тональность» онегинского послания Татьяне: досада, горечь и невыносимость мысли о том, что «счастье было. так близко». Эта невыносимость в «Пенье без музыки» драпируется рациональными построениями, самоиронией, многословием, которое является попыткой лирического героя стихотворения Бродского оттянуть неизбежную разлуку с возлюбленной. Таким образом, «онегинский» текст в структуре «Пенья без музыки» сообщает расставанию лирического героя масштаб величайшего расставания в русской литературе - расставания Онегина и Татьяны.
Бесплатно

Статья научная
В статье рассматриваются документальные источники, которые помогли А.Н. Толстому построить сюжетную линию заговора против Петра I в третьей книге романа. Центральным источником для писателя стала работа Н.Я. Новомбергского «Слово и дело государевы» (1909), на что впервые указал А.В. Алпатов в монографии «Алексей Толстой - мастер исторического романа» (1958). «Слова и дела государевы» подсказали Толстому подробности частной жизни царевен Екатерины Алексеевны и Марии Алексеевны, обстоятельства их тайной переписки с Софьей Алексеевной. Материалом послужили имена реальных лиц, общие факты, слухи о царевнах. Кроме того, Толстой воспринимал разыскные дела как образец устной речи начала XVIII в., поэтому в некоторых случаях писатель вводил в текст романа цитаты из документов (о поездках царевен в Немецкую слободу). На примере небольшой сцены с допросом в Преображенском приказе удалось показать, что из разыскных дел, опубликованных Новомбергским, Толстой взял биографические сведения реального лица (костромского попа Григория Елисеева), ряд цитат из травника XVIII в. Следственные дела Толстой изучал не только по публикациям Новомбергского, он также использовал материалы о раскольниках Григории Талицком, Самуиле Выморкове из исследований Г.В. Есипова «Раскольничьи дела XVIII в.» (1861), М.И. Семевского «Слово и дело! 1700-1725» (1885), С.В. Соловьева «История России с древнейших времен» (1911). Указанные книги сохранились в личной библиотеке писателя с многочисленными подчеркиваниями и пометами.
Бесплатно
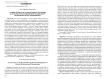
Статья научная
Цель этого исследования - анализ образов «чӑваш тӗнчи» или «чувашского мира» в поэзии модернизма и постмодернизма. Автор анализирует «чӑваш тӗнчи» как совокупность различных нарративов, которые формируют изобретенную традицию идентичности, представленной в литературе. В статье проанализированы поэтические эксперименты Ҫеҫпӗл Мишши, Андрея Пе-токки, Митта Ваҫлейҫ, Петера Хусанкая, Г. Айги и И. Трера. Автор анализирует как Ҫеҫпӗл Мишши воображал и конструировал идеальные образы «чувашского мира». В статье также показан культурный вклад Андрея Петокки, Митта Вадлейе, Петера Хусанкая в формирование и развитие «чувашского мира» как одной из «изобретенных традиций» идентичности. Вклад этих авторов анализируется в контекстах интеграции чувашской поэзии в официальный идеологический канон. Предполагается, что образы «чӑваш тӗнчи» или «чувашского мира» в поэзии модернизма и постмодернизма стали его «изобретенными традициями», которые содействовали конструированию и воображению идентичности в советской и постсоветской культурных ситуациях. Автор анализирует попытки визуализации образов «чӑваш» в категориях изобретенной традиции чувашской литературе ХХ в., предполагая, что такие культурные практики были в одинаковой степени характерны для советского модернизма и современного постмодернизма. Результаты исследования позволяют предположить, что концепт «чувашский мир» стал одной из «изобретенных традиций» идентичности, включив мотивы утопического «чувашского мира» будущего; завода как источника социальных изменений и трансформаций, стимулирующих модернизацию, а также образы прошлого, редуцируемых в постмодернизме до концептов «солнца» и «предков» как возможных ориентиров для национального и культурного воображения.
Бесплатно

"Что стало с личностью?" Интерсубъектность в лирике Лидии Чуковской
Статья научная
Статья посвящена поэзии Лидии Чуковской, к настоящему времени почти не изученной в литературоведении. Цель работы - исследовать субъектную структуру ее лирики в свете вопроса о личности во времена Большого террора как главной темы в творчестве Чуковской. Объект исследования - весь массив опубликованных на сегодня стихотворений Лидии Чуковской. Методология исследования определяется концепцией субъектного неосинкретизма, представленной в трудах С.Н. Бройтмана. На исходном этапе анализа выявляется биографическая основа лирики Чуковской и показана нейтрализация автобиографических компонентов в структуре лирического «я». Далее рассмотрена система местоимений, формирующих эту структуру, что в свою очередь позволило обозначить синкретизм как ключевой художественный прием, определивший поэтику субъекта в лирике Чуковской. Отсюда стало возможным охарактеризовать репрезентацию личности в стихах Чуковской: «я» представляет собой синкретический лирический субъект, наделенный самостоятельными эстетическими функциями. Показано, как трансформация лирического «я» выводит его на периферию субъектной структуры: «я» и «другие» образуют лирический синкретический субъект с открытыми и подвижными границами (я, ты, мы, вы, они). В статье последовательно раскрыты данные функции, а также изучена архитектоника синкретического субъекта, организованная как сложное пространство коммуникации между «я» и «другим» («другими»). В итоге исследования выявляется интерсубъектность лирического «я» как принцип его синкретизма и ценностная авторская позиция по отношению к судьбе личности в годы сталинских репрессий.
Бесплатно
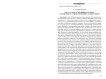
Pro et contra: "Пушкинская речь" И. Шмелева и "Стихи к Пушкину" М. Цветаевой
Статья научная
Статья посвящена сравнительному анализу «Пушкинской речи» Ивана Шмелева и цикла «Стихи к Пушкину» Марины Цветаевой. В дискуссионном разрезе эти тексты сопоставляются впервые, чем и определяется актуальность и новизна исследовательского подхода. Цель исследования - проследить смысловые и образные переклички указанных текстов в дискуссионном ракурсе, не упуская из виду идеологический контекст эмигрантской культурной диаспоры. Обращение к компаративистскому методу позволило рассмотреть тексты Цветаевой и Шмелева как бы в «двойной оптике». Выдвигается мысль о том, что смысловая энергия этих текстов направлена как на личность и творчество Пушкина, так и на самих авторов как на архетипических реципиентов, моделирующих образ Пушкина не только как данность, но и как некий паттерн восприятия современников и потомков. Обосновывается гипотеза о внутренней связи цветаевского цикла с «Пушкинской речью» Шмелева, явившегося своего рода потаенным спором со Шмелевым и его духовными соратниками. Выявление ряда адресных подтекстов позволяет утверждать, что цветаевские стихи о Пушкине, интегрируя в себе ключевые поэтологические идеи и коммуникативно-полемические тактики поэтессы, стали косвенным, имплицитным (и, возможно, подсознательным) ответом на речь Ивана Шмелева и подобные ему выступления в честь пушкинского юбилея (И. Ильина, П. Струве, Г. Федотова, С. Франка, о. С. Булгакова и др.). Показывается, что «Стихи к Пушкину» Цветаевой и «Пушкинская речь» Шмелева концентрируют в себе диаметрально противоположные концепции Пушкина как национального поэта. Оба текста формируют модель посмертного, юбилейного образа Пушкина, задают координаты его восприятия. В цветаевском цикле культивируются образ Пушкина как абсолютно свободной личности; в то же время для поэтессы принципиально важна «мускулатура» пушкинского письма, ибо стихотворство для нее - результат тяжелейшего труда, а не вдохновения. У Шмелева же ни о какой беспредельной свободе речи не идет, напротив, пушкинская Муза «послушна» «велению Божию». Отсюда проистекает идея о боговдохновенной природе стихов Пушкина, его мистическом взаимодействии с высшими силами. В итоге доказывается, что каждый из анализируемых авторов обратился к разработке русского национального типа поэта, конституируемого на основе своих собственных поэтологических представлений. В то же время в статье показано, что эти авторские концепции Пушкина включены в неотрадиционалистскую (религиозно-мистическую) и модернистско-авангардистскую культурные парадигмы. Перспективы исследования связаны с дальнейшим изучением восприятия творчества Пушкина потомками - собратьями по перу, исследованием закономерностей формирования его посмертной репутации и мифологизации в зависимости от социокультурных установок и философских запросов времени.
Бесплатно

«Баллада о двадцати шести» C.А. Есенина: литературные и политические контексты
Статья научная
«Баллада о двадцати шести» – отклик С.А. Есенина на актуальное политическое событие – шестую годовщину расстрела руководителей Бакинской коммуны 1918 г. В дни, когда в Азербайджане вспоминали комиссаров, Есенин приехал в Баку по приглашению П.И. Чагина – второго секретаря ЦК КП Азербайджана, редактора газеты «Бакинский рабочий». Есенин соглашается написать стихотворение на злободневную тему и получает от Чагина большое количество материалов, характеризующих историю коммуны, содержащих биографические сведения о ее руководителях и воспоминания. Также в поле зрения Есенина – художественные произведения, посвященные деятелям коммуны, в том числе поэма В.В. Маяковского «Гулом восстаний, на эхо помноженным, об этом дадут настоящий стих, а я лишь то, что сегодня можно, скажу о деле 26-ти». Есенин работает очень быстро и результативно – в ночь с 20 на 21 сентября 1924 г. он пишет балладу, которая уже 22 сентября печатается в газете «Бакинский рабочий». Анализ публикаций 1922–1924 гг. позволил установить основные источники, которые Есенин использовал для получения информации о комиссарах и об обстоятельствах их гибели. Произведение посвящено «с любовью – прекрасному художнику Г. Якулову» – живописцу, графику и театральному художнику, одному из основателей имажинизма. В газете «Бакинский рабочий» был опубликован разработанный им эскиз памятника 26 комиссарам. Поэт упоминает только двух из них – С.Г. Шаумяна и П.А. Джапаридзе, основавших в 1906 г. газету «Бакинский рабочий» (их фамилии публиковались под шапкой издания). Для Есенина важно, что дело бакинских комиссаров, за защиту которого они заплатили своими жизнями, живо и увенчалось успехом. Герои баллады вступают в посмертный диалог, радуясь успехам советского Азербайджана.
Бесплатно

Статья научная
Дневники В.Н. Муромцевой Буниной можно рассматривать как своеобразную «летопись» русской эмиграции, отражающую различные нарративные приемы, в том числе смену точки зрения и показ событий с нескольких ракурсов. В дневниках крупные мировые события преподносятся через призму чужих слов и свидетельств: писем, бесед, слухов и т.д. Особенно ярко это выражено при описании начала Второй мировой войны, когда глобальный кризис представлен через мнения и рассказы других людей. Война становится словно реконструированной из их интерпретаций, а процесс обмена этими интерпретациями приобретает особое значение. Начало войны в дневниках оказывается спроецировано на личный кризис автора, связанный с переездом из Бельведера. В то время как переезд воспринимается непосредственно, война переживается опосредованно, через диалоги, слухи и переписку. Таким образом, события начала войны представлены в дневниках через несколько повествовательных приемов. Во первых, это документальное фиксирование фактов, с упором на детали. Во вторых, философские размышления, переданные в форме, напоминающей несобственно прямую речь. В третьих, это введение чужих свидетельств, которые создают многоголосую картину восприятия событий. Эти приемы отчетливо проявляются в записях сентября 1939 г., где первая и третья стратегии иногда конкурируют друг с другом. В результате начало войны представляется не только как реальное событие, но и как воображаемое, сформированное под влиянием чужих пересказов и домыслов. Такое коллективное осмысление войны приводит к значительным культурным изменениям, включая распад эмигрантских кругов в Париже.
Бесплатно

«Лествица» прп. Иоанна Синайского в духовных письмах мирянам прп. Амвросия Оптинского. Функция цитат
Статья научная
В статье рассматривается смысловая функция цитат из творения прп. Иоанна Синайского «Лествица» в духовных письмах прп. Амвросия Оптинского, адресованных мирянам. Специфика духовных писем как особого жанра эпистолярной литературы определяется целью и автора, и адресата, которая заключается в разрешении вопросов духовной жизни. Важна также принадлежность автора к институту старчества – особого типа святости. Старец в письмах опирается на свой аскетический опыт, который неотделим от опыта Церкви. Письма прп. Амвросия Оптинского содержат большое количество цитат из Священного Писания и святоотеческой литературы, к которой принадлежит и «Лествица» святого Иоанна Синайского. Прп. Амвросий принимал участие в работе над переводом «Лествицы», хорошо знал этот текст и цитировал его преимущественно по памяти, вследствие чего цитаты представлены основном в непрямой форме – парафраз, аллюзий, реминисценций. Адресатами в большинстве случаев являются частные лица – миряне разного социального положения и характера; ряд писем адресован ко «всем», предназначен для публикации и носит характер толкований или проповеди. В своих письмах прп. Амвросий, обращаясь к «Лествице», стремится передать мысль и дух этого творения. Основной смысловой функцией цитат является передача опыта аскетической практики, направленной на борьбу со страстями, а также уточнение или авторитетное подтверждение главной мысли старца, наставляющего своего адресата на путь спасения души. В целом в письмах прп. Амвросия просматривается идея Лествицы как постепенного восхождения человека по пути духовного совершенствования, что сопрягается с преодолением человеком страстей.
Бесплатно

«Литература факта» 1920-х гг.: исторический авангард или политизация искусства после революции
Статья научная
«Литература факта» 1920-х гг. обычно определяется как одно из авангардных течений, однако для более точного анализа в рамках теории литературы необходимо пересмотреть ее характеристику. Основная задача данной работы заключается в уточнении характеристик так называемого исторического авангарда, «литературы факта» и их взаимосвязи. В статье рассматриваются дискуссии о природе художественного авангарда, выявляется, что авангард, как правило, характеризуется отказом от автономии искусства и от понимания произведения как целого. В связи с этим, однако, остается открытым вопрос, можно ли свести все авангардные течения в Советской России исключительно к этим характеристикам. Методологические черты авангарда должны быть подвергнуты критическому пересмотру, поскольку исторический авангард, видевший свое назначение в вовлечении людей в революцию, то есть в возвращении искусства в реальную жизнь (прежде всего в политическую), отличается по своей задаче от советского авангарда после революции. Иными словами, после завершения политической революции радикальное искусство оказывается перед необходимостью переосмысления своих задач, утратив объект для отрицания. К этой новой тенденции принадлежит, в частности, «литература факта». Данное движение может быть охарактеризовано чертами, которые в традиционном представлении не являются «авангардными», а именно стремлением к интегрированности литературного целого. В связи с данной проблематикой рассматриваются работы В. Беньямина и Б. Гройса.
Бесплатно

«Надломленная роза»: архетипы фемининности в лирике Н. Львовой. Статья вторая
Статья научная
Поэтическое наследие Надежды Львовой невелико, но представляет значительный интерес в аспекте осмысления процесса становления женской авторской субъектности в литературе русского модернизма. Размышления Львовой над проблемой воплощения женственного в культуре прошлых эпох и современности реализуются в ряде архетипических общеевропейских образов стихотворений ее сборника «Старая сказка» и примыкающих к нему посмертно изданных произведений. Эти архетипы также можно назвать проекциями фемининности. Некоторые из них она примеряет на себя: сказочная невеста (царевна), мечтательница, Прекрасная Дама, незнакомка, Муза, Эвридика, Франческа, дева-воительница, вестница (предтеча). А некоторые роли возникают как объект культурно-философской рефлексии: Мадонна (святая), блудница (грешница), Вечная Женственность. В статье рассматривается эволюция поисков Львовой в области конструирования образа автора в тексте. От традиционных гендерных ролей вечно ждущей и покорной фемининности она движется к отрицанию этой модели и попыткам обрести самостоятельность, предстать в роли Поэта, а не Музы. В статье прослеживаются связи архетипов женственности в ее лирике с моделями, предложенными в мужской поэзии эпохи модернизма, прежде всего, в стихотворениях А. Блока и В. Брюсова, которые она переписывает с точки зрения женского субъекта. Для реконструкции взгляда поэтессы на вопрос женской самореализации к анализу привлекается также ее критическая статья «Холод утра», посвященная проблеме женского авторства.
Бесплатно

«Поэтическая дробь» как множащая смыслы графически активная форма стиха в творчестве Егора Летова
Статья научная
Статья посвящена специфической смыслопорождающей активной графической форме стиха, присутствующей в лирике Егора Летова, которая может быть названа «поэтической дробью». «Поэтическая дробь» представляет собой написание отдельных слов или их частей одно под другим. Данная форма достаточно активно использовалась Летовым на протяжении многих лет его творческой деятельности. Выявлено, что на разных этапах творчества написание через дробь могло выполнять у Летова различные функции. В раннем стихотворении «Гора» отдельные буквы в словах, написанные через дробь и создающие омофоны, помогают осуществлять своеобразную игру с читателем по принципу «казалось – оказалось». В этой игре визуально странный образ выводит реципиента из зоны комфорта, поддерживая ощущение зыбкости и неоднозначности мира. Позднее Летов в основном использует написание через дробь уже целых слов. Установлено, что в двух вариантах текста песни «Тоталитаризм» автор противопоставляет «поэтическую дробь» написанию одного из двух слов в скобках. Слово в скобках выступает лишь пояснением слова за скобками, тогда как дробь позволяет словам развить спектр значений: явление в «знаменателе» как причина явления, описываемого словом, стоящим в «числителе»; фиксация на бумаге двух одинаково значимых для рок-поэта понятий, в концертных исполнениях периодически заменяющих одно другое. Наконец, в зрелом творчестве Летова «дроби» превращаются в визуальные скрепы между стихами произведения, позволяющие сблизить отдельные образы. Кроме того, «дроби», включающие прилагательные, способствуют формированию ряда эпитетов, осуществляя тем самым «нанизывание» дополнительных смыслов.
Бесплатно

«Путешествие критики» С. К. Ферельцта: проблемы контекста, атрибуции и интерпретации
Статья научная
«Путешествие критики» С.К. Ферельцта - литературный памятник 1810-х гг., не имеющий устоявшейся традиции интерпретации. В статье рассмотрены некоторые аспекты, усложняющие пресуппозицию анализа этого произведения, обосновывается необходимость нового академического издания этого литературного памятника. При подготовке такого издания необходимо опираться на биографические разыскания последних десятилетий, позволяющие реконструировать портрет автора «Путешествия», а также на многочисленные контексты, в первую очередь связанные с просветительской прозой второй половины XVIII - начала XIX в. В частности, в статье обосновывается связь «Путешествия критики» с переводом французского нравоучительного сочинения «Критик, или, Чувственное путешествие около Пале Рояль, Королевских палат, в Париже» (Le censeur, ou Voyage sentimental autour du Palais Royal; ouvrage critique, historique et moral, dédié aux étrangers, chez Anne Geneviève Masson, 1802, перевод с фр.: 1807), а также «Сентиментальным путешествием» Л. Стерна. Другие источники влияния связаны с комедиографией Екатерининской эпохи и сатирическими журналами второй половины XVIII в. Опираясь на многочисленные фабулы и сюжетные ситуации своих предшественников, Ферельцт отказывается от сентиментального стиля, сводя свой сюжет к общеизвестной формуле Vanitas vanitatum et omnia vanitas. В завершении статьи отмечены недостатки существующих переизданий «Путешествия критики» (ложная атрибуция, некорректный комментарий, спорные интерпретации) и ошибки, появившиеся в электронных неофициальных версиях этого произведения. Анализ негативного материала подводит исследователя к мысли о необходимости нового академического издания, избавленного от всех названных ошибок.
Бесплатно

«С Пушкиным на дружеской ноге»: гений и ничтожество Ивана Александровича Хлестакова
Статья научная
В статье предлагается еще раз задаться вопросом об особой роли Хлестакова в комедии «Ревизор» в контексте давней полемики между писателем Сергеевым-Ценским и литературоведом Ю.В. Манном. С. Сергеев-Ценский увидел в Хлестакове не обыкновенного враля, а большого художника, гениально сыгравшего роль того, за кого его приняли. Это суждение писателя было оспорено. С точки зрения Ю.В. Манна, Хлестаков не выходит за пределы своего кругозора - его воображение дерзко, но убого и тривиально. Таким образом «гений» и «ничтожество» стали признаками одного и того же лица. Гоголь наделил Хлестакова характеристиками, которые связывались в сознании писателя и с ним самим, и с именем Пушкина. Одна из них - неуемное воображение и язвительный смех, а другая - завораживающий протеизм. Только при достижении их союза Гоголю удалось осуществить свой замысел - «собрать в одну кучу все дурное в России» и «за одним разом посмеяться над всем». Особое внимание в статье уделяется пушкинскому контексту. Сближение Хлестакова и Пушкина рассматривается в перспективе гоголевского текста о Пушкине, а точнее, того важного плана, где развивается идея пушкинской всеотзывности. Очевидно, что семантическая конфигурация образов Пушкина и Хлестакова у Гоголя одна и та же. Ее определяют отсутствие личностной определенности и обусловленная этим возможность трансформации. Хлестаков предстает перед «Городничим и Ко» в тех образах, которые рисует их воображение. Художническая гениальность Хлестакова как раз и состоит в том, что он заставляет поверить в создаваемые им фигуры воображения самого себя и других. При этом в статье отмечается неслучайное различие между Хлестаковым, уносящимся под «сень струй» в доме городничего, и Хлестаковым, выказывающим саркастическую меткость наблюдения в письме к Тряпичкину. Гоголевский Хлестаков дополняет пушкинского подобно тому, как Гоголь дополняет Пушкина в своих размышлениях о нем. Отдавая должное Пушкину, Гоголь тем не менее отказывал ему в значимости для современности. Желание к пушкинскому прибавить и гоголевское могло повлиять на логику авторского поведения в комедии «Ревизор».
Бесплатно

Статья научная
Статья посвящена восстановлению литературных и социально-политических контекстов повести Н.С. Тихонова «Анофелес». Показано, что произведение носит явно сатирический характер по отношению к представителям дореволюционной интеллигенции и отвечает одной из ключевых задач эпохи первой пятилетки (конец 1928-1932) - «реконструкции человека», «социалистической переделке человеческого материала» вследствие «реконструкции народного хозяйства». Повесть Тихонова стояла в начале литературно-художественной «одержимости» темой «второго рождения», но развивала она противоположные мотивы: трагический разлад человека с современностью, невозможность некоторых граждан «жить и большеветь» (Мандельштам), омоложаться вместе со всей страной. Писатель выводит карикатурный образ человека «старой» формации, сконструированный из нескольких литературных источников. В числе вероятных - легенда о крысолове из Гамельна, Данко из рассказа «Старуха Изергиль» и герой «Караморы» А.М. Горького. Персонажу соответствует выдуманная «доктрина» об анофелесах, в основе которой превратно понятая теория опрощения Л.Н. Толстого вкупе с максимами, характерными для маскулинного гендерного порядка рубежа веков. В своей теории герой воспроизводит иерархическую патриархатную логику, где женщина занимает стандартно низкое положение по отношению к мужчине. Его тезис - отражение доминировавшего веками гендерного эссенциализма, отождествлявшего биологическое (пол) и социальное (положение в обществе). Страх активной фемининности, имплицитно представленный в теоретических выкладках персонажа, отражает представления о подчиненном, пассивном положении женщины. Такая трактовка фемининности мешает герою переродиться в соответствии с запросами времени.
Бесплатно

Статья научная
Во второй статье анализируются и интерпретируются Ⅱ−Ⅴ строфоиды стихотворения, событийным содержанием которых является визионерская, в остраненном восприятии, встреча лирической героини Буниной с Державиным в его Званке как воплощение заявленной ею в прологе мечты. Основное внимание уделено авторской презентации поэта. Выявлены стихотворные источники изображенных реалий и обитателей усадьбы, означены мифологические и флористические образы, участвующие в создании облика поэта, характерные для классицизма и заимствованные из произведений Державина. Поэт представлен в трех ипостасях своей личности в соотнесенности с жанровыми формами их воплощения в своем творчестве: восторженная (ода), гневливая (сатира) и умильная (анакреонтика). Обозначены жанры, соответствующие трем ярусам поэтического мироустройства Державина (космосу – гимн, современной истории – ода и сатира, усадебной жизни – идиллия), и аксиологическая граница между «своими» и «чужими» персонажами его произведений. Определяется созерцательная и рефлексивная функции лирической героини Буниной, реализованная в композиционном чередовании визуальных описаний происходящего и комментариев к ним, ее сквозная, стилистически выраженная, модальность в отношении к Державину как к идеальному поэту. Проанализирована поэтика парафразирования державинских текстов, отмечена смысловая правка некоторых из них. В процессе интерпретации текста привлекается биографический контекст и историко-литературный материал конца ⅩⅤⅢ – начала ⅩⅨ в.
Бесплатно

Статья научная
Интерес к стихотворению А.П. Буниной «Сумерки. Гавриилу Романовичу Державину, в его деревню Званку» объясним, прежде всего, невниманием или преимущественно критическим отношением к тексту в сравнении с другими произведениями первой русской поэтессы. Особое неприятие у современников Буниной вызвал визионерский образ Державина. Основная проблема анализа и интерпретации стихотворения - выявить скрываемую за славословием адресата телеологию послания, в котором отсутствуют характерные для него как речевого жанра с диалогической установкой этикетные формулы и конкретная (предметная) цель обращения. Результаты исследования стихотворения представлены в трех статьях, соответствующих композиционному триединству стихотворения - прологу, основной части и эпилогу. В ходе прочтения пролога определены три субъектные ипостаси Анны Буниной (биографический автор, лирическая героиня, персонажный двойник), их функциональные роли (созерцательная, волеизъявительная и рефлексивная), назначение природных и мифологических образов, а также лейтмотив стихотворения, обозначенный словом «мечта» в двух семантических вариантах - любви и дружбы. В целом в прологе представлен ментальный портрет автора. В процессе структурно семантического анализа и интерпретации содержания и поэтики пролога используются контекстуальный (историко литературный, культурологический) и сравнительно сопоставительный метод с привлечением материала произведений Державина и других поэтов, а также опубликованных вариантов «Сумерек».
Бесплатно

