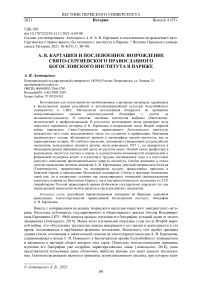А. В. Карташев и послевоенное возрождение Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже
Автор: Антощенко А.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Социальная история религиозности и институтов церкви
Статья в выпуске: 4 (55), 2021 года.
Бесплатный доступ
Источниками для статьи являются опубликованные и архивные материалы, хранящиеся в Бахметевском архиве российской и восточноевропейской культуры Колумбийского университета в США. Методология исследования базируется на принципах коммуникационного анализа интеллектуальной биографии с учетом ее поликонтекстуальности. В качестве значимых контекстов выбраны общественно-политический и профессиональный. В результате исследования автор раскрывает роль известного церковного историка А. В. Карташева в возрождении после Второй мировой войны парижского Свято-Сергиевского православного богословского института, показателем чего стало восстановление числа его студентов и профессоров. Изменение национального состава обучающихся привело к метаморфозе миссии института, как ее характеризовал историк. Из учебного заведения, готовившего священников для российских эмигрантов, вынужденных покинуть родину после революции 1917 г., он превратился в общеправославный образовательный центр на русском языке. Особый вклад профессора в возрождение института состоял в поиске и осуществлении возможностей материальной и финансовой поддержки коллег и студентов в трудные послевоенные годы и в подготовке молодого пополнения преподавательского корпуса института. Особое внимание в статье уделено прояснению мотивов неприятия А. В. Карташевым действий митрополита Евлогия (Георгиевского), направленных на возвращение русских православных приходов в Западной Европе в юрисдикцию Московской патриархии. Считая в принципе возможным такой шаг, он в конкретных условиях как международных отношений (распространение советского влияния на Восточную Европу), так и внутриполитического положения в СССР (порабощение Русской православной церкви безбожным государством) определял его как порождающий новые религиозные расколы в среде российских эмигрантов.
Российская пореволюционная эмиграция во франции, церковная юрисдикция, свято-сергиевский православный богословский институт, биография а. в. карташева
Короткий адрес: https://sciup.org/147245294
IDR: 147245294 | УДК: 930 | DOI: 10.17072/2219-3111-2021-4-89-98
Текст научной статьи А. В. Карташев и послевоенное возрождение Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже
модействие А. В. Карташева с окружающими рассматривается не просто как проявле-ние/выражение, но как формирование/трансформация его личности, т.е. как биография, главными в которой являются события, наполненные особым значением и смыслом, зависевшими от складывающейся и изменяющейся его личной системы ценностей. Такой подход вполне сочетается с теоретико-методологическими разработками в области интеллектуальной истории, активно ведущимися в последнее время [ Базанов, 2016; Попова, 2015; Репина , 2010]. При этом реализуется положение о поликонтекстуальности любой биографии. Контекстами при изучении биографии А. В. Карташева, которые учитываются в данном случае, стали общественнополитический (религиозно-церковная политика советского правительства внутри СССР и на международной арене; изменение состава и взаимоотношений в среде русской диаспоры во Франции в послевоенных условиях в связи с формированием «второй волны» пореволюционной эмиграции) и профессиональный (взаимоотношения историка с коллегами в условиях возрождения Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже). Учет сложного соотношения этих контекстов, имеющих собственную динамику внутреннего, не лишенного конфликтов развития, позволяет учесть те вызовы внешней среды, на которые давал ответ своими действиями А. В. Карташев в конкретной исторической ситуации.
После окончания Второй мировой войны Советский Союз стал одной из наиболее значимых держав в мировой политике. Для расширения своего международного влияния он активно использовал Русскую православную церковь, деятельность которой активизировалась в военные годы. Советская власть пошла на сотрудничество с церковными иерархами для укрепления своего внутриполитического положения и международного авторитета СССР. От отколовшихся в послереволюционные десятилетия зарубежных церковных образований требовалось возвращение в состав Московского патриархата. После воссоединения их иерархи и прихожане должны были выражать лояльность советскому правительству, его внешней и внутренней политике [ Васильева , 2001].
Это непосредственно затронуло Западноевропейский экзархат русских православных приходов, находившийся с 1931 г. в юрисдикции Константинопольского патриархата, но в 1945 г. на короткое время вернувшийся в юрисдикцию Московской патриархии [ Мазырин, Ко-стрюков, 2019]. Если в 1920–1930-е гг. А. В. Карташев имел возможность через газеты активно влиять на формирование общественного мнения о желательном характере взаимоотношений с Московской патриархией западноевропейских православных приходов, возглавляемых митрополитом Евлогием (Георгиевским), который прислушивался к его мнению, то в середине 1940-х гг. такой возможности у него уже не было. Поэтому он стремился использовать свой личный авторитет известного церковного деятеля, являвшегося членом епархиального собрания Западноевропейского экзархата, а также знакомил с собственным видением возникающих здесь проблем своих друзей, и прежде всего Г. И. Новицкого, известного среди русских православных эмигрантов в США.
В письмах к нему возврат в юрисдикцию Московской патриархии характеризовался историком как личная инициатива митрополита Евлогия, тосковавшего о возращении под омофор патриарха Московского и Всея Руси. В этой связи А. В. Карташев указывал прежде всего на психологический мотив действий митрополита. «Но митрополит Евлогий никогда не скрывал своей священнической, канонической тоски от произошедшего в 20 и 30-х годах разрыва его с Московской патриархией, – писал А. В. Карташев в подробном письме Г. И. Новицкому от 15 июля 1945 г. – Не по его вине произошло его отвержение Московской патриархией в лице местоблюстителя Сергия, и он долго ждал изменения политической обстановки и настроений митрополита Сергия, чтобы вновь примириться с ним. Особенно эта тоска по России появилась у митрополита Евлогия с наступлением его старческого периода. А началось это ровно с первых же дней этой страшной мучительной войны, т.е. с сентября 1939 г. Митрополита Евлогия начало этой войны потрясло. За две недели он стал неузнаваем. Погасли его молодые колоритные веселые глаза. Исчез почти совсем слух. Ослабли его ноги, поседели волосы, пропала его бодрость. Тоска о последнем покое в родной земле отдалила его психологически от большинства той русской эмиграции, в круге вождей которой он естественно состоял и состоит» («О новой церковной…», 2016, с. 239).
Попытки митрополита Евлогия наладить контакты с экзархом Сергием (Вознесенским) в Прибалтике после ее оккупации немцами, чтобы определить возможности воссоединения как порожденные, по определению Антона Владимировича, «наивными иллюзиями», не принесли результата. Возрождение этой мысли в период победоносного наступления Красной армии привело в 1944 г. к установлению контактов митрополита с советским послом в Париже А. Е. Богомоловым, который содействовал доставке его частного письма местоблюстителю патриаршего престола митрополиту Алексию (Симанскому). В результате между ними завязалась переписка об условиях возвращения русских православных приходов в Западной Европе, возглавляемых митрополитом Евлогием, в лоно матери Церкви («Мне так хочется сложить…», 2000, с. 103–106, 108–111, 112–113). Это стремление Евлогия нашло подпитку в «советском патриотизме» определенной части русской эмиграции в Западной Европе («О новой церковной…», 2016, с. 239).
Однако как участник двух пастырских совещаний в июле и августе 1945 г. А. В. Карташев знал, что эти действия митрополита не пользуются широкой поддержкой даже в его окружении. Сам он считал доводы в пользу немедленного возврата в юрисдикцию Московской патриархии «безграмотными» юридически, политически и канонически. Рассматривая вопрос с юридической и политической точек зрения, он вновь ссылался на то, что с 1921 г. эмигранты лишились советского гражданства и «перешли в ведение международных органов бывшей Лиги Наций и местных правительств разных стран» (Там же). Поэтому требование лояльности советской власти и молитв за нее, применимое лишь к советским подданным, оценивалось историком как требование измены «своему государству и молитв за власть чужого государства» (Там же). Для утверждения своей позиции канонически А. В. Карташев ссылался на обоснованное им еще до войны понимание соотношения национального и вселенского в восточной церкви: «Восточные церкви национальны и обыкновенно делятся по границам государств, но последнее не обязательно, ибо государства не имеют права лишать свои церкви присущей им природы их кафоличности, вселенскости» (Там же). Поэтому паства, проживающая за пределами страны и молящаяся за своего кириарха, не обязана молиться за власть той страны, где находится церковное управление. Этим рассуждением он подкреплял мнение епархиального совета и секретариата о нормальных условиях воссоединения, которыми должно было быть признание автономии западноевропейских православных приходов русских эмигрантов в виде экзархата.
А. В. Карташев считал приемлемым выполнение предписания митрополита Евлогия поминать на богослужениях после Вениамина, патриарха Константинопольского, и имени «Алексия, патриарха Московского и Всея Руси», вместо безличного «все епископство страждущия церкви российския». Считая, что эмигранты сознавали и сознают себя «законной частью церкви Русской», он утверждал: «Строго говоря, этим смиренным и любовным актом для настоящего исторически переходного момента и мог бы сейчас исчерпываться и ограничиваться вопрос о нашей реальной связи с Москвой. По мере ослабления и снятия террористической цепи, отделяющей нас от Москвы, сами собой становились бы совершенно нормальными (канонически и фактически) и наши взаимоотношения. Но снятие этой цепи зависит не от нас» (Там же, с. 239).
Таким образом, главным препятствием для возвращения в юрисдикцию Московской патриархии А. В. Карташев считал подчиненное, «подневольное» положение церкви в СССР и отсутствие в стране религиозной свободы. При этом для него важным было также то, что с таким положением смирились (или делают вид, что смирились) церковные иерархи в Советском Союзе (Там же, с. 242).
Последнее утверждение объясняет его озабоченность возможными осложнениями для преподавателей парижского богословского института в результате ускоренно проводившихся митрополитом Евлогием и некоторыми другими иерархами мер по возвращению в юрисдикцию Московской патриархии. Рассуждая в другом письме тому же Г. И. Новицкому о возможных последствиях этого шага, он с тревогой указывал на опасность «политических обязательств», которые могут быть возложены на профессуру. Но даже в случае благоприятного исхода и отсутствия навязываемых обязательств политического характера А. В. Карташев, памятуя об осуждении в 1935 г. митрополитом Сергием (Страгородским) своего коллеги и друга о. С. Булгакова за софиологию [Аржаковский, 1999; Преподобный Сергий в Париже, 2010, с. 170–172], опасался преследований себя и коллег «под благовидным предлогом ревности о чистоте православия, по праву церковной цензуры» («О новой церковной…», 2016, с. 242). Такое преследование казалось ему вполне возможным, потому что от нынешней русской иерархии, образовательный уровень которой понизился в условиях разрушения религиозного образования в СССР, веяло «антинаучным консерватизмом». Характеристика того, как были осуждены взгляды о. С. Булгакова («без живых и личных соприкосновений, т.е. без капли соборности»), указывала на еще один важный принцип, нарушение которого церковными иерархами при решении вопроса о юрисдикции осуждалось им. Именно эти соображения – о необходимости соборного решения этого важного вопроса, учета сложного характера взаимоотношений православной церкви и государств, а также отказа от всякой политической направленности «в акте соединения» – стали центральными в выступлении А. В. Карташева на пастырском собрании 29 августа 1945 г. «Нельзя принимать митинговые решения на случайном собрании, мы не делегированы для решения, – заявил он. – Можно поручить особой комиссии сформулировать точные предложения статута экзархата; мы не слыхали и голоса наших епископов. Должно быть выполнено церковное требование: благообразно и по чину. То, что предрешено, будет, несомненно, реципировано, и пути из этого просты. Не должно быть: “без меня меня женили”, нельзя искажать лик соборности православной церкви перед католиками, и раскол в этом сведет к минимуму достигнутое. Надо дать прокатиться волне соборности» (BAR–1, p. 22–23). Резкий ответ митрополита Евлогия, что церковь не только «соборная», но и «апостольская», привел историка к выводу: «Епископы уже сговорились» («О новой церковной…», 2016, с. 246).
В воскресенье, 2 сентября 1945 г., прошло торжественное «примирительное сослужение» литургии в Александро-Невском соборе на улице Дарю «всех пяти архиереев», на котором было объявлено об их взаимном соглашении об объединении «под Москвой», как отметил А. В. Карташев. Прийти на торжественный прием по этому поводу, состоявшийся на следующий день в советском полпредстве, он дипломатично отказался, так как видел в этом «политически безобразный акт», свидетельствующий об использовании церкви в интересах реализации внешней политики советского государства (Там же, с. 243).
Поскольку объединения «просто, родственно», с взаимным забвением «обид и огорчений», «в акте чисто моральном, церковном, без канонической казуистики» (Там же, с. 244), на что надеялся А. В. Карташев, не произошло, его видение перспектив церковной жизни русских православных эмигрантов было пессимистичным. Он справедливо отмечал, что под «пеплом» теплится «психология раскола». Этому способствовали, с одной стороны, меры советского правительства, подогревавшего «советский патриотизм» обещанием выдать советские паспорта желающим этого русским эмигрантам, жившим во Франции, с другой – нетактичные распоряжения Московской патриархии, назначившей епископа-викария на «петельский» приход «для давления» на митрополита Евлогия, а также не сумевшей канонически корректно разрешить вопрос с Константинопольским патриархатом, в ведении которого формально все еще оставались приходы, перешедшие в его юрисдикцию в 1931 г. Выражением последнего было поминание на службах сначала митрополита Вселенского, а потом – Московского. «Апокалиптических настроений» прибавляло нарастание социальных противоречий во Франции, где усиливалось влияние коммунистов, а также ощущение приближающейся новой войны, теперь уже с применением ядерного оружия.
А. В. Карташев отчетливо понимал, что существенных изменений в жизни экзархата не произойдет, пока жив митрополит Евлогий, который, по его словам, все больше сожалел о содеянном. Но, думается, что он никак не ожидал того, что произошло после его кончины. По аналогии с государственным переворотом историк назвал произошедшее «coup d’Église» («После годов голода…», 2016, с. 186). Привезенный представителями Московской патриархии указ о назначении экзархом митрополита Серафима (Лукьянова), не пользовавшегося популярностью среди не только прихожан-эмигрантов, но и иерархов, был воспринят как «беззаконие», которого, по словам А. В. Карташева, «наш смиренный и правдолюбивый архиепископ Владимир не нашел возможным признать, и против его честности и правдолюбия никто не может ничего возразить» (Там же). В такой характеристике «святого знаменосца» отчетливо проявилось глубокое уважение историка к решительному поступку иерарха, о жизни которого он затем дважды будет писать весьма позитивно (Карташев, 1947, 1957), хотя в частных письмах с годами в отношении его действий А. В. Карташев будет все более критичен. Однако такое внимание к «роли личности» отнюдь не означало, что он был согласен с объяснением причины отказа от подчинения Московской патриархии ошибочным шагом последней, назначившей экзархом вместо архиепископа Владимира митрополита Серафима. Главной причиной он считал нарушение принципа соборности, выразившееся в признании Московской патриархией незаконными приходских советов, выборов и епархиальных съездов, т.е. «плодов Собора 1917– 18 г.», которые, по его словам, «похерены росчерком пера, и введено всеобщее назначение сверху» («После годов голода…», 2016, с. 187). Этой позиции и практике Московской патриархии им противопоставлялось мнение приехавшего в Париж из Лондона экзарха Константинопольского патриарха Германа, митрополита Фиатирского, заявившего, что русские приходы «должны спокойно самоуправляться». К этому Антоном Владимировичем добавлялось и специальное указание в письме Г. И. Новицкому от 27 августа 1946 г. на то, что действия архиепископа Владимира были поддержаны пастырским собранием, состоявшимся накануне (Там же, с. 186), т.е. соответствовали принципу соборности.
Описанные выше события временного воссоединения западноевропейских приходов русских православных эмигрантов с Московской патриархией волновали А. В. Карташева в непосредственной связи с финансовым положением богословского института. Внимательно наблюдая за реакцией на расширение влияния Московской патриархии и возвращением в ее юрисдикцию эмигрантских приходов, он опасался сокращения денежной поддержки института представителями инославных церквей под тем предлогом, что теперь и вопросы материального обеспечения духовного образования за границей должны перейти «в ведение Москвы». Поэтому он не только отмечал все свидетельства такого рода как в прессе, так и на уровне слухов, но и стремился всячески внушить своим зарубежным корреспондентам ложность такого подхода. Этим определялось в значительной степени его сосредоточением на вопросах возобновления в полном объеме финансирования деятельности института, что нашло свое отражение даже в его частной корреспонденции. Письма А. В. Карташева послевоенного периода к Г. И. Новицкому полны постоянными упоминаниями о тех или иных возможностях улучшить финансовое и материальное положение преподавателей и студентов.
После войны основные финансовые поступления в бюджет института в виде отчислений от «великопятничного сбора» в епископальных церквах США по-прежнему шли через Женеву. Хотя во второй половине 1945 г. размер жалования профессоров был сокращен на 10 %, в конце года казалось, что удастся добиться устойчивого ежемесячного поступления средств, поэтому А. В. Карташев принял участие в разработке сметы института на новый год, которая предусматривала не только восстановление «урезанных» процентов содержания, но даже увеличение его. Правда, огромные темпы инфляции грозили поглотить эту прибавку, оставляя зарплату преподавателей и профессоров на уровне, не превышающем заработка «барышни-машинистки». Тем не менее он настаивал на включении в бюджет средств «для специальных назначений»: именных стипендий для студентов, денег на закупку книг и ремонт библиотеки, издание лекций и научных трудов (очередной – пятый – номер академического издания предполагалось издать на английском языке) («О новой церковной…», 2016, с. 250, 255). Реализовать эти планы удалось не в полном объеме и не сразу. После двухлетнего относительно устойчивого поступления средств в 1946 и 1947 гг. грянул финансовый кризис 1948 г., когда женевский центр заявил о том, что в состоянии только на ¼ выполнить свои обязательства по переводу средств институту («После годов голода…», 2016, с. 191). Так что за стипендиями для русских студентов из числа «перемещенных лиц» пришлось обращаться в Толстовский фонд (Там же, с. 192), а обучающихся в институте сирийцев и сербов, по выражению Антона Владимировича, «сбросили со стипендий». Сократились число преподавателей и выплаты им жалования («На нас лежит подвиг…», 2018, с. 300). Ремонт библиотеки пришлось отложить до 1950 г., но с 1947 г. все же удалось наладить более систематический выпуск сборников «Православной мысли», которые по-прежнему выходили на русском языке, а также работ профессоров и преподавателей института ( Спасский , 1949, с. 155).
Неблагоприятные последствия сбоев в финансировании института отчасти смягчались благодаря тесному взаимодействию А. В. Карташева с Г. И. Новицким, который мобилизовал усилия членов Общества друзей Свято-Сергиевского богословского института в США. Особенно значимой оказалась помощь общества сразу же после войны, когда им была организована отправка продовольственных посылок сотрудникам и студентам института и их родственникам («О новой церковной…», 2016, с. 238) по длинным спискам самого необходимого, составленным А. В. Карташевым («После годов голода…», 2016, с. 184). Причем для семейных преподавателей и студентов удалось использовать возможность доставки без каких-либо таможенных сборов так называемых «детских» и «даровых пищевых посылок». «Пищевые посылки, полученные нами от вас, составляют предмет больших утешений. Вкусить настоящий кофе, настоящий чай с настоящим молоком после пятилетнего поста – это пасхальное разговение! Физическая вещь, переходящая в духовный праздник…», – восторженно благодарил Антон Владимирович Г. И. Новицкого в письме от 6 августа 1945 г. («О новой церковной…», 2016, с. 243). Наряду с дороговизной и недостатком продуктов не менее остро чувствовался дефицит самых простых обиходных вещей. «Острее всего: нельзя нигде купить брюк. Нет носков. Нет белья. Рубашка, стоившая 20 fr., теперь – 500 fr.», – сетовал он в следующем письме тому же адресату (Там же, с. 244)у. Невозможно было купить материю для пошива ряс и подрясников или обувь. Поэтому вслед за присылкой «пищевых» посылок была налажена отправка «вещевых».
Несоответствие курса франка по отношению к доллару, а также относительная дешевизна товаров в США по сравнению с Францией натолкнули А. В. Карташева на мысль о возможности использовать эти неблагоприятные условия во благо бюджета института и его сотрудников и студентов. Закупленные по низким ценам на американском рынке товары, которые во Франции были «недоступны (introuvables)», затем реализовывались им по ценам значительно ниже, чем те, что складывались на французском рынке (преимущественно «черном» по характеру расчетов). Сумма полученных таким образом франков, которые, по меткому замечанию А. В. Карташева, «пахли керенками», превышала ту, что давал простой обмен по завышенному курсу французской валюты. Она зачислялась в бюджет института, что было выгоднее, если бы перечисленные доллары были обменяны на франки по официальному курсу («После годов голода…», 2016, с. 183).
Впрочем, и денежные переводы от Общества друзей Свято-Сергиевского института были не менее значимы в те моменты, когда он оказывался близким к финансовому банкротству из-за задержек или сокращения поступлений из Женевы. И хотя в эти же годы в связи с преобразованием Свято-Владимирской православной семинарии в Нью-Йорке в академию возможности финансирования «Парижской православной академии» сократились, все равно Г. И. Новицкий искал и находил их, организуя благотворительные лекции, тесно взаимодействуя с Б. А. Бахметевым, Гуманитарный фонд которого ежегодно выделял средства в пользу «парижан», а в 1950 г. субсидировал их суммой в 8500 долларов с тем, чтобы они смогли «закрыть бреши» до конца года, а в следующем году вернуть деньги (BAR–2).
Если А. В. Карташев имел хоть какие-то возможности влиять на решение вопросов финансирования института, то в отношении набора студентов ему оставалось лишь констатировать положение дел. Однако это не значит, что его размышления о поступающих и оценки тенденций набора новых студентов не заслуживают внимания. Напротив, они важны для понимания видения им изменения миссии того учебного заведения, которому он отдал большую часть своей жизни.
В первый послевоенный учебный год число студентов составило всего лишь 15 человек, но образовательный процесс продолжался. «Работа учебная идет полным ходом, – сообщал Антон Владимирович в письме Г. И. Новицкому от 4 декабря 1945 г. – Ежедневно студенты уже с 7–8 ½ в церкви. Затем с 9 – 1 ч на лекциях. Это – подвиг потяжелее афонского. Мала кучка, но без казенного энтузиазма воистину подвижничает» («О новой церковной…», 2016, с. 254). Однако его беспокоила невозможность для всех желающих приехать во Францию учиться в православном богословском институте из-за ограничения в выдаче виз. Особенно несправедливым он считал такое отношение к русским «Ди-Пеям», т.е. «перемещенным лицам», оказавшимся за пределами Советского Союза в ходе Второй мировой войны. Возлагая особые надежды на эту группу потенциальных обучающихся Свято-Сергиевского института, он не был склонен идеализировать их, отмечая, что они не только «элемент паспортно нелегальный», но «наполовину и темный, авантюрный» (Там же, с. 254). Он также отчетливо понимал, что, несмотря на возвращение в юрисдикцию Московской патриархии, нет никаких даже намеков на приезд учащихся из СССР, где в то время существовал лишь один богословский институт в Москве.
Надежды на сохранение пусть и неофициального, но признанного статуса богословского образовательного центра для русской эмиграции, как это было до войны, оставались у Антона Владимировича и в последующие годы, хотя он вынужден был отмечать изменение состава абитуриентов. «В новом учебном году у нас сверх 10 своих новопоступающих, еще 8 сербов и 2 араба. Целых два десятка на I курс! Начинаем оживать после военного худосочия» («После годов голода…», 2016, с. 188), – писал он в сентябре 1946 г. А через год вынужден был вновь сетовать на невозможность для желающих вырваться «из-за этих проволочных зон, как из проклятой Совдепии», хотя и отмечал поступление в институт пяти православных сербов (антити-товцев), а также желание приехать четырех православных арабов из антиохийского патриархата (Там же, с. 189; ср.: Спасский , 1949, с. 154).
В 1947–1948 академическом году численность обучающихся достигла довоенного уровня, так что дальнейшее увеличение числа студентов, как и в довоенное время, стало сдерживаться ограниченным числом мест в общежитии. А удельный вес русских учащихся так и не повысился, оставаясь менее половины («Мы живем как обреченные», 2018, с. 301; Спасский , 1949, с. 151; Спасский , 1953, с. 165). Поэтому Антон Владимирович с энтузиазмом откликнулся на предложение Е. И. Новицкого попытаться привлечь из Америки группу обучающихся из числа детей русских эмигрантов. Однако эта попытка не увенчалась успехом (BAR–3). В конечном итоге А. В. Карташеву, уже в конце 1940-х гг. охарактеризовавшему обучающихся как «православный интернационал» («После годов голода…», 2016, с. 191), пришлось в начале 1950-х гг. окончательно признать: «Мы “усыхаем” как русская школа русских священников для русских приходов». Однако, оптимист по характеру, он видел в этом и позитивные следствия: превращение института в общеправославный образовательный центр «на русском языке», что признавалось и патриархом Константинопольским (Там же, с. 191; Карташев , 1949).
Возрождение нормальной деятельности института было невозможно без восстановления состава его преподавателей. В послевоенный период начали свою преподавательскую деятельность А. П. Князев и А. Д. Шмеман, прошедшие подготовку в качестве лицензиатов под руководством А. В. Карташева [ Езова , 2002, с. 225]. Возвращение в конце 1945 г. и в начале 1946 г. Г. В. Флоровского, Н. Н. Афанасьева и архимандрита Кассиана позволило не только возобновить чтение лекций по нравственному богословию и Новому Завету ( Спасский , 1947, с. 151), но и обернулось новыми финансовыми проблемами, так как необходимо было найти им средства для оплаты жалованья («О новой церковной…», 2016, с. 255).
Другим осложняющим фактором стало преобразование Свято-Владимирской духовной семинарии в Нью-Йорке в академию, которое с самого начала предполагалось осуществить с привлечением преподавательских сил из Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже (Там же, с. 248). Для себя А. В. Карташев сразу же решил, что он не покинет институт (Там же, с. 249). Однако это не значило, что он возражал против переезда своих коллег, понимая, что в институте из-за препятствий в пополнении его студентами из «Ди-Пи» «сейчас мало поле деятельности» (Там же, с. 254). Возможно, что сказалось и то, что первым из решивших поехать «за океан» оказался Г. В. Флоровский, к которому А. В. Карташев относился без особых симпатий (Там же). Как бы то ни было, даже когда вслед за отказавшимся вернуться во Францию («после “сытости” на “голод”», как заметил А. В. Карташев («Мы живем как обреченные», 2018, с. 298)) Г. В. Флоровским в Америку направились ученики Антона Владимировича, он по-прежнему смотрел на это «со спокойной, царской щедростью» («Позвольте быть…», 2018, с. 290).
Известие о том, что Свято-Владимирская академия получила финансовую поддержку от фонда Рокфеллеров, натолкнуло «парижан» на мысль попытаться воспользоваться их опытом. А. В. Карташев активно включился в работу по составлению заявки и был сильно обижен прохладным отношением к этому делу и возражениями против его кандидатуры со стороны Д. И. Лаури, который стал курировать Свято-Сергиевский институт после П. Ф. Андерсона. Объясняя свою заинтересованность в стипендии в письме к Г. И. Новицкому от 21 марта
1950 г., Антон Владимирович, по сути, определял программу своих занятий на ближайшие и последние годы своей жизни (Там же, с. 284).
По неизвестным причинам проект поддержки исследовательской деятельности профессоров Свято-Сергиевского института, который был детально разработан при участии А. В. Карташева (Там же, с. 285, 286, 288, 289–291, 293), не был поддержан фондом Рокфеллеров. Но на помощь историку пришли его друзья из США, которые по инициативе Г. И. Новицкого собрали к юбилею Антона Владимировича сумму, которую он рассчитывал как достаточную для покрытия расходов на поездку в Рим для работы в библиотеке Ватикана (Там же, с. 286–287). Начинался новый период в жизни историка, ставший периодом подведения итогов, выразившихся в создании обобщающих работ по истории Русской православной церкви и Вселенских соборов.
Таким образом, во второй половине 1940-х гг. произошли возрождение Свято-Сергиевского православного богословского института, восстановление численности его преподавателей, среди которых появились его выпускники, и студентов, в составе которых сократилась доля российских эмигрантов, что сделало институт общеправославным русскоязычным образовательным центром, внесшим свой вклад в преобразование Свято-Владимирской духовной семинарии в Нью-Йорке в академию. Вполне определенную роль в этом возрождении сыграл А. В. Карташев, усилия которого, наряду с обучением, направлялись на поиск и реализацию материальной и финансовой поддержки преподавателям и студентам со стороны Общества американских друзей института из числа российских православных эмигрантов в США. Как последовательный сторонник принципа непримиримости с большевиками, он оказался в числе тех, кто выступил против возвращения западноевропейских русских православных приходов в юрисдикцию Московской патриархии, которая, по его мнению, была порабощена безбожным государством. Однако у него было немного возможностей по сравнению с предвоенным периодом выразить свое мнение публично, хотя немногочисленные публицистического статьи этого времени несомненно заслуживают изучения, как и его итоговые работы, появившиеся в последние годы жизни и после смерти историка.
Список литературы А. В. Карташев и послевоенное возрождение Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже
- Антощенко А.В. Историографический обзор исследований жизни и творчества А.В. Карташева // Ученые записки Петрозавод. гос. ун-та. 2019. № 4. С. 28-33. EDN: LAUUYP
- Антощенко А.В. Методологические подходы к изучению интеллектуальной биографии А.В. Карташева // Реальность. Человек. Культура: мыслитель в современном мире: Х Ореховские чтения: материалы всерос. науч. конф., Омск, 16 ноября 2018 г. Омск, 2018. С. 6-9. EDN: MOUZQQ
- Аржаковский А. Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже // Богослов, философ, мыслитель. Юбилейные чтения, посвященные 125-летию со дня рождения о. Сергия Булгакова. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 1999. С. 109-128.
- Базанов М.А. Интеллектуальная биография: контуры нового жанра в российской и украинской историографии // Диалог со временем. 2016. Вып. 55. С. 221-233. EDN: WBCBQR
- Васильева О.Ю. Русская православная церковь в политике советского государства в 1943-1948 гг. М.: ИРИ РАН, 2001. 214 c. EDN: WGWDAL
- Езова Л.Д. Свято-Сергиевское Подворье в Париже // Россия и современный мир. 2002. № 4. С. 217-226.
- Мазырин А., Кострюков А.А. Из истории взаимоотношений Русской и Константинопольской церквей в ХХ веке. 2-е изд-е, испр. и доп. М.: Изд-во ПСТГУ, 2019. С. 313-323.
- Попова Т.Н. Биоисториописание в контексте научных традиций: концепты и модели // Диалог со временем. 2015. Вып. 53. С. 30-53. EDN: VOFMZH
- Преподобный Сергий в Париже: история Парижского Свято-Сергиевского православного Богословского института / отв. ред. протопресвитер Б. Бобринский. СПб.: Росток, 2010. 709 с.
- Репина Л.П. От исторической биографии к биографической истории // В тени великих: образы и судьбы. СПб.: Алетейя, 2010. С. 5-18.