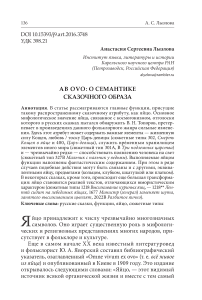Ab ovo: о семантике сказочного образа
Автор: Лызлова Анастасия Сергеевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.4, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются главные функции, присущие такому распространенному сказочному атрибуту, как яйцо. Основное мифологическое значение яйца, связанное с космогонизмом, отголоски которого в русских сказках пытался обнаружить В. Н. Топоров, претерпевает в произведениях данного фольклорного жанра сильные изменения. Здесь этот атрибут может содержать важные элементы - жизненную силу Кощея, любовь / тоску Царь-девицы (сюжетные типы 3021 Смерть Кощея в яйце и 4002 Царь-девица ), служить врéменным хранилищем элементов иного мира (сюжетный тип 301А, В Три подземных царства ) и - чрезвычайно редко - способствовать появлению человека на свет (сюжетный тип 327В Мальчик с пальчик у ведьмы ). Выполняемые яйцом функции наполнены фантастическим содержанием. При этом в ряде случаев подобные действия могут быть связаны и с другими, эквивалентными яйцу, предметами (кольцом, клубком, шкатулкой или платком). В некоторых сказках, кроме того, происходит еще большая трансформация: яйцо становится реалией текстов, отличающихся юмористическим характером (сюжетные типы 1218 Высиживание куриных яиц, - 1218** Лентяй сидит на лебединых яйцах, 1677 Министр ( генерал ) заменяет шута, занятого высиживанием цыплят, 2022В Разбитое яичко ).
Русские сказки, функции, яйцо, сюжетные типы
Короткий адрес: https://sciup.org/14748987
IDR: 14748987 | УДК: 398.2 | DOI: 10.15393/j9.art.2016.3748
Текст научной статьи Ab ovo: о семантике сказочного образа
Я йцо принадлежит к числу чрезвычайно многозначных символов. Оно играет существенную роль в мифологических и религиозных представлениях многих народов, присутствует в фольклоре и культуре.
Еще в самом начале ХХ века известный литературовед и фольклорист Ю. А. Яворский составил библиографический указатель, озаглавленный «Omne vivum ex ovo» (т. е. всё живое из яйца) и опубликованный в Киеве в 1909 году. Это издание открывалось следующими словами: «Яйцо, — этот видимый источник всякой органической жизни и вместе с тем самый распространенный и излюбленный продукт питания, не могло не привлекать к себе, во все времена и повсеместно, пытливого человеческого внимания, не могло не возбуждать, так или иначе, суеверной народной мысли и фантазии. И действительно, на всем протяжении исторической жизни земли, во всех ее полосах и уголках, насколько это, конечно, для научного исследования вообще открыто и доступно, мы замечаем, в большей или меньшей степени, что яйцо являлось всегда и является и ныне еще предметом самых разнообразных проявлений и видов народного суеверия, творчества и даже культа» [11, 7]. В данном библиографическом указателе весь материал разделен на 9 рубрик, учитывающих основные значения яйца в вышедших к тому времени отечественных и зарубежных исследованиях, а также фольклорных произведениях:
-
I. Статьи и заметки общего характера.
-
II. Творец мира, Бог — из яйца.
-
III. Мир, солнце, земля — из яйца.
-
IV. Источники и реки — из яйца.
-
V. Люди — из яйца.
-
VI. Царства, дом, скот и т. п. — из яйца.
-
VII. Черти, домовики, драконы, василиски и т. п. — из яйца. VIII. Жизнь или душа человека или чудовища — в яйце.
-
IX. Судьба дома — в яйце.
Среди ссылок на издания встречаются и названия первых сборников русских народных сказок, появившихся в конце XIX — начале ХХ веков, составленных А. Н. Афанасьевым 1 , И. А. Худяковым 2 , Д. Н. Садовниковым 3 , Н. Е. Ончуковым 4 .
Действительно, образ яйца чрезвычайно распространен в текстах данного фольклорного жанра и представлен в нескольких сюжетных типах, что мы попытаемся продемонстрировать.
В «Словаре предметных реалий русской волшебной сказки», составленном В. Е. Добровольской, отмечается, что выбранный для исследования атрибут выполняет три основные функции: 1) содержит внутри себя судьбоносные факторы (смерть Кощея, любовь Царь-девицы): СУС 3021 , СУС 4002 ; 2) является снабжающей предметной реалией (содержит внутри дворец / царство): СУС 301 ; 3) способствует появлению ребенка: СУС 327В [1, 31]. Остановимся на каждой из этих функций.
Мотив чудесного рождения персонажа посредством высиживания яйца чрезвычайно редко встречается в сказках сюжетного типа, зафиксированного в СУС под номером 327В Мальчик с пальчик у ведьмы . Один из подобных текстов представлен в сборнике А. Н. Афанасьева:
<…> вот он (старик. — А. Л .) обошел все дворы, собрал с каждого по яичку и посадил клушку5 на сорок одно яйцо. Прошло две недели, смотрит старик, смотрит и старуха, — а из тех яичек народились мальчики; сорок крепких, здоровеньких, а один не удался — хил да слаб! 6
Еще один встретился в собрании, включающем русские сказки Урала:
Старик, значит, забрал яйца в корзину, принёс домой. Посадил старуху парить на яйца. Яиц было сорок штук. Через несколько дней яйца полопались, вылупилась, значит, не птица, а похожи на людей. Эти люди росли не по дням, а по часам7.
Между тем, например, Ю. А. Яворский ссылается на «народную прибаутку, записанную П. И. Мельниковым-Печерским: “хохлов не баба породила, а индюшка высидела, из каждого яйца по семи хохлов”» [11, 17]. Кроме того, по одной из версий мифа, из лебединого яйца появились Елена Троянская и диоскуры (Кастор и Полидевк) 8 . В трансформированном виде способ, касающийся высиживания человеком цыплят из яиц, упоминается в нескольких сюжетах, относящихся к сказкам-анекдотам. К примеру, содержание сюжетного типа СУС 1218 , который так и называется Высиживание куриных яиц , сводится к следующему: «барин (пан, барыня) дает мужику корзину яиц, чтобы он высидел курочек; мужик получает зерно и разные продукты якобы для цыплят; сообщает, что вывелись петушки (съев яйца, сжигает корзину, сарай)» 9 . Похожим образом разворачиваются события в сюжетном типе СУС 1677 Министр ( генерал ) заменяет шута, занятого высиживанием цыплят 10 . О высиживании гусей идет речь в сказке «Как мужик гусей парил», опубликованной впервые в «Олонецких губернских ведомостях» (1898, № 16) и переизданной в сборнике «Русские сказки в Карелии (старые записи)», подготовленном М. К. Азадовским:
Пошел мужик за вичьем в лес, нашел гусиных яиц гнездо и воротился домой.
Говорит жены: «Я теперь пахать не буду».
А жена спрашивает: «Что же ты пахать не будешь?»
А мужик жены: «Я буду гусей парить».
— А кто будет пахать?
— А ты паши! Ты мне наладь большой бурак11 в сени, я буду гусей парить.
Жена наладила бурак. Мужик сел парить, а жена поехала пахать. День пахала, другой пахала, и третий уж пашет и плачет. Наступил вечер, баба приехала домой, отворила ворота, муж в бураку сидит и по-гусиному просит: «Га-га-га-га»12.
Жена вынуждена пахать и дальше. Однажды проезжающий мимо барин застает ее за этим занятием. Он советует ей переодеться в барина (надеть его шляпу и мундир), сесть на лошадь, взять плеть и, приехав домой в таком виде, налупить мужа со словами:
Не парь гусей, не парь гусей, а иди пахать, не жены дело пахать, — а твое 13.
Этот текст условно причислен составителями СУС к сюжетному типу 1319 Кобылье яйцо , в котором «глупец (поп) садится на тыкву, чтобы высидеть жеребенка (щенка), принимает за жеребенка убегающего зайца» (282). Нам представляется возможным отнести его к сюжетному типу СУС — 1218** Лентяй сидит на лебединых яйцах , «чтобы разбогатеть не работая; солдат проучил его» (275).
В сказках, таким образом, мотив появления человека из яйца практически не представлен, но юмористическим содержанием наполнена обратная ситуация: высиживание цыплят из яйца человеком.
Наибольшее распространение в произведениях рассматриваемого фольклорного жанра получил образ яйца как средоточия «судьбоносных факторов» (по терминологии В. Е. Добровольской), т. е. жизненной силы Кощея и любви (или — добавим — тоски) Царь-девицы. Сюжетный тип СУС 3021 Смерть Кощея в яйце представлен многочисленными записями сказок, произведенными в разное время на всей территории России. Он достаточно подробно рассмотрен Н. В. Новиковым в монографии «Образы восточнославянской волшебной сказки» [7, 193–210]. Помимо названного персонажа обладателем заветного яйца в сказках оказывается функционально близкий ему Карачун, а также Змей или дьявол. Местоположение яйца описывается «формулой, достаточно устойчивой по содержанию, композиции и стилю» [7, 207]. В самом общем виде она звучит следующим образом:
На море, на окиане есть остров, на том острове дуб стоит, под дубом сундук зарыт, в сундуке — заяц, в зайце — утка, в утке — яйцо, а в яйце — моя (Кощея. — А. Л .) смерть! 14
Отметим, что впервые подобная формула используется в «Сказке о весьма чудных и прекрасных гуслях-самогудах», помещенной в сборнике «Дедушкины прогулки, или продолжение настоящих русских сказок», опубликованном в 1786 году:
Тогда-то уже Кощей Бессмертный сказал ей всю правду. Он ей говорил: «Смерть моя далеко отсюда и трудно кому ее достать. Она есть на море, на океане, и на том море есть остров Буян, и на том Буяне острове есть зеленый дуб, и под тем дубом зарыт сундук железный, и в том сундуке есть коробка, и в той коробке есть заяц, и в том зайце есть утка, а в утке яйцо, и кто то яйцо достанет и раздавит, то и я в ту ж самую минуту умру»15.
Подобным же образом описывается месторасположение любви / тоски Царь-девицы в соответствующем сюжетном типе СУС 400 2 :
На той стороне океана-моря стоит дуб, на дубу сундук, в сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо, а в яйце любовь царь-девицы!16
-
<…> у ей тоска обрана, в утечье яйцо закрыта и в шкатульку замкнута, и ключик брошенной в озеро, а шкатулька — там стоит дуб высокий, и в этом дубу шкатулька, а ключик в море 17.
Попутно отметим, что мотив хранения тоски девушки в яйце встречается и в карельских сказках. Так, в тексте «Сын Ийван-старика» герой, отправившись на поиски уехавшей невесты, приходит к старушке, которая сообщает ему:
— Иди на берег моря, там есть ивовый куст, под кустом шкатулка, в шкатулке зайчик, внутри зайчика утка, в утке яйцо, в яйце тоска моей крестницы18.
Частично эти же слова используются во многих заговорах. В рассматриваемых сказках элементы данной формулы могут варьироваться, а также утрачиваться. Это вполне объяснимо:
ведь редукция, как показал В. Я. Пропп в статье «Трансформации волшебных сказок», является одной из характерных особенностей бытования сказки [9, 162]. Смерть Кощея и любовь (тоска) Царь-девицы, таким образом, пребывают в нескольких вложенных друг в друга одушевленных и неодушевленных предметах. Такое хранение можно объяснить тем, что, как отмечает С. Ю. Неклюдов, «ступенчатое суживание угла зрения и постепенное уменьшение каждого последующего предмета должно в пределе дать полное “размывание” объёмности» [6, 67]. Указанные условия обеспечивают надежную сохранность воплощенной в яйце сущности. При этом в одном случае добывание героем необходимого атрибута и его уничтожение приводит к гибели Кощея или заменяющего его персонажа. Как отмечает В. Е. Добровольская, «заключение смерти Кощея в яйцо связано с представлениями о парциальной магии» [1, 135]. Яйцо — это не сама смерть, а то, что способствует наступлению смерти при разрушении, в нем спрятана жизнь, или, точнее, душа противника. Гибель Кощея в сказках происходит в результате разбивания яйца или удара им об его голову.
Весьма ценные наблюдения о функции яйца применительно к Кощею высказывал в свое время и Е. М. Неёлов: «само яйцо в фольклорном сознании может быть соотнесено как со смертью, так и с жизнью <…>; яйцо — это точка зрения „народной этимологии” — уже не совсем смерть, но еще и не совсем жизнь. <…> В сказочном эпизоде <…> яйцо — символ начала жизни. <…> Рождается новая жизнь — и в этот момент Кощей-смерть погибает» [3, 163], [5, 53–54].
В случае с Царь-девицей добытое яйцо нужно съесть в виде какого-либо блюда, посредством чего она начинает испытывать любовь по отношению к герою или вспоминает о нем (если речь идет о тоске).
Наконец, использование яйца в качестве предмета, содержащего внутри дворец или царство, чрезвычайно распространено в текстах о трех царствах (медном, серебряном и золотом), объединенных сюжетным типом СУС 301А, В :
Вернулся (Иван. — А. Л.) в золотое царство, скатал его в яйцó, положил в кормáн, взял девушку и пошел назад. Так же и серебряно царство скатал в яйцó, положил в корман, взял девушку. Так же сделал и в медном19.
Отошли немного. Арикад-царевич и говорит: «Ах, говорит, какое прекрасное строенье! Жаль бросать!» — «А вам, говорит, Арикад-царевич хотелось бы это строенье взять с собой?» — «Как бы не хотелось!» — «Пойдите, говорит, зайдите в ворота, катайте по стенке рукой, — все и скатается в яичко». Вот он катал, все яичко и скатал, скатал золотое яичко, положил в карман и пошел. Вот они опять пошли; приходят к серебряному дворцу. Взял с собой Арикад-царевич девицу из серебряного дворца, и серебряное яичко таким образом. Потом и девицу из медного дворца и медный дворец так же взял20.
Отметим, что впервые мотив сворачивания царств / дворцов в яйцо встречается в сказках лубочного характера, опубликованных в XVIII веке. Так, в «Сказке о золотой горе, или Чудных приключениях Идана, восточного царевича», изданной в 1782 году, сообщается:
Царевна, видя храбрость сего младого царевича и чрезмерно его полюбя, благодарила его за ее избавление, предлагая ему, что она охотно желает быть ему супругой, и в залог своей к нему верности отдала ему медное яйцо, которое развернув, показала ему скрытое в нем медное государство, коим она обладает21.
В «Сказке о Василие-королевиче», помещенной в сборнике «Старая погудка на новый лад», выходившем несколькими выпусками в 1794–1795 годах, и представляющей собой переработанный вариант «Сказки о золотой горе», ситуация описывается похожим образом:
Королевна, видя неустрашимость такого героя, благодарила его за оказанную услугу и подарила ему яйцо, сокрывающее в себе серебряное королевство22.
С одной стороны, эти примеры могут служить косвенным доказательством архаичности мотива использования яйца в качестве «снабжающей предметной реалии». Ведь лубочные сказки в большинстве своем имеют фольклорную основу; по словам К. Е. Кореповой, авторы таких произведений не создавали новых сюжетов, а по-новому обрабатывали уже имеющиеся в устном народном творчестве [2, 24]. С другой стороны, использование яйца в качестве атрибута, служащего для сокрытия царства / дворца могло возникнуть именно благодаря фантазии автора.
В. Н. Топоров считает, что сказки о трех царствах являются удачным источником для реконструкции мифа о мировом (космическом) яйце в славянской традиции, в которой не отмечены другие подтверждения того, что «мир в целом или отдельные его части (небо, земля и т. д.) возникли из мирового (космического) яйца» [10, 81]. Ю. А. Яворский также отмечает, что «космогоническая роль яйца <…> должна быть признана первоначальной и основной ячейкой всяких других представлений и поверий о нем, из которой все они, тем или иным путем, произошли и образовались непосредственно и прямо » [11, 10]. Согласно аналитическому каталогу «Тематическая классификация и распределение фольклорномифологических мотивов по ареалам», составленному Ю. Е. Березкиным, представление о яйце, которое располагается в мировом океане или в мировой бездне и из которого появляются земля, небо, светила, боги-создатели, известно многим народам мира:
В79. Космическое яйцо.
.11.–.14.17.20.–.27.29.–.32.34.38.
Бантуязычная Африка. Фанг.
Западная Африка. Манде, догоны.
Восточная Африка — Судан. Фали.
Северная Африка. Древний Египет.
Передняя Азия. Финикийцы.
Микронезия. Полинезия. Гилберта, Таити, о-ва Общества (Раиатеа), Туамоту, Гавайи, маори.
Тибет, Северо-Восток Индии. Тибетцы, хруссо, мири, качин.
Бирма, Юго-Восточная Азия. Кхамти.
Южная Азия. Махабхарата, Шатападха-брахмана, Ригведа, сора, хариа.
Индонезия. Даяки, Ява, Суматра.
Филиппины. Самал.
Китай. Древний Китай.
Балканы. Древняя Греция.
Кавказ — Малая Азия. Карачаевцы.
Иран — Средняя Азия. Авеста (Бундахишн), зороастризм.
Балтоскандия. Саамы, эстонцы, финны, карелы, ингерман-ландцы, водь, вепсы.
Волга — Пермь. Коми-зыряне, мордва, чуваши.
Южная Сибирь — Монголия. Сибирские татары, тофалары. Япония. Японцы23.
Как видно, славянских народов в этом перечне нет. Между тем, опираясь на русские сказки, относящиеся к сюжетным типам СУС 301А, В Три подземных царства и 3021 Смерть Кощея в яйце , В. Н. Топоров предлагает реконструкцию нескольких блоков мифа о мировом яйце: 1. Связь яйца с первозданным хаотическим началом как местом его пребывания (т. е. с водой); 2. Роль яйца в создании вселенной (трех царств); 3. Яйцо, первый культурный герой, борьба со Змеем; 4. Яйцо, жизнь, плодородие, богатство [10, 92–99].
В то же время следует учесть, что в отдельных случаях в роли предмета, способного содержать в себе дворец или царство, выступает яблоко:
Она (царевна. — А. Л. ) стукнула золотой дворец палочкой — и он превратился в золотое яблоко. Пошли они назад, дошли до серебряного дворца, средняя сестра стукнула по дворцу палочкой — и он превратился в серебряное яблоко. Взяли они его и пошли дальше. Пришли к медному дворцу, старша сестра стукнула по дворцу палочкой — и он превратился в медное яблоко24.
Та царица (из золотого царства. — А. Л. ) собрала свой дворец в яблочко 25.
Отметим, что в последнем тексте еще две царицы собирают свои дворцы «в куриную скорлупу» (медный) и «в грецкий орех» (серебряный).
Можно согласиться с высказыванием В. Е. Добровольской о том, что «генетические истоки таких сказочных образов, как яйцо и яблоко, чрезвычайно глубоки (яблоко связано с богатством, плодородием, вечной жизнью; яйцо связано с представлениями о сотворении мира), однако мифологическая природа этих образов не позволяет объяснить природу их функционирования в сказке» [1, 107]. При этом, как отмечает исследовательница, «сравнение яйца с царством или дворцом могло сформироваться в сказке и под влиянием загадок, где яйцо описывается как некий пространственный объект» [1, 107]:
Крепь-город, Да Бел-город, А в Бел-городе Воску брат26
Крик-крик-город
В Крик-городе Бел-город
В Бел-городе — желтый воск27.
Добавим к этому: «В доме еда, а дверь заперта» 28 .
В приведенных в качестве примеров загадках яйцо представлено в виде города или дома.
В некоторых сказках яйцо / яблоко заменено клубком или кольцом:
Та сняла с руки кольцо, бросила на крышу, и домик овёрнул-ся в кольцо29.
А Иван-царевич пришел в жемчужное царство, взял свою матушку и пошел в обратный путь; смотрит — жемчужное царство клубочком свернулося да вслед за ним покатилося. Пришел в золотое царство, потом в серебряное, а потом и в медное, взял повел с собою трех прекрасных царевен, а те царства свернулись клубочками да за ними ж покатилися 30.
В одном из проанализированных текстов рассматриваемого сюжетного типа дворцы заключаются в шарики:
Девица проговоривши ему неизвестные слова, и превратилось все в золотой шарик. <…> Так же дошли до другой девицы <…>. И эта девица обратила всё в шарик. Так же и третья 31.
Таким образом, не только яйцо, но и иные, эквивалентные ему предметы, используются в сказках. Все они отличаются небольшим размером, а также тем, что имеют округлую форму и могут катиться.
В то же время в отдельных сказках функция сокрытия дворца или царства возлагается на платок:
Она (царская дочь. — А. Л. ) взяла платок из кармана вынула, избушка вся, знаешь, в платок, дом хороший. Ну, платок в карман <…>32
Махнула платком, и никакого дому не стало. Дала ему (Ивану-царевичу. — А. Л. ) платок33.
В другом тексте дворцы превращаются в шкатулки:
Вышли они из дворчя, царевна дверь замнула, сдилалась из дворчя одна шкатулочка. Шли-шли, дошли до второй сестры, она серебряный дворечь замнула — стала шкатулочка. Пришли к первой сестре, она дворечь ключом замнула, стала одна шка-тулочка34.
Все названные предметы (яйцо, яблоко, кольцо, клубок, шарик, платок, шкатулка) выполняют одинаковую функцию: служат для врéменного хранения и последующего извлечения дворцов или царств. По сути, эти атрибуты заключают в себе чужой мир, который впоследствии становится частью своего мира:
Вот оне токо приежжают на чарьской двор, а она и говорит: «— Ну-ко, вытащи это еицько и розбей ёго на широкой площади против дворця и увидаш, што будет». И вот он вытащил еицько из кормана, розбил ёго на широкой площади против чарьского дворця, то образовалсе серебреной дворець35.
Пришли четверо в царство, покатили около царева дома яичко и явились спротив царя три дома: медной, серебряной и золотой36.
В отдельных случаях яйцо, кроме того, помогает герою справиться с предсвадебными испытаниями, которые заключаются в том, чтобы добыть особую одежду, обувь и иные атрибуты, находящиеся в царствах или дворцах:
Иван сходил в полё, роскинул царство, вынял обувь и платье, а царство закатал, положил в карман37.
Иван ударил по яблоку золотой палочкой, яблоко превратилось в дворец, он вошел в него и достал золоты кольца38.
По классификации В. Е. Добровольской, эти предметные реалии относятся к числу тех, которые информируют о произошедших событиях, они «играют роль свидетельства, доказывающего пребывание героя в “ином” мире» [1, 70].
Можно добавить, что образ яйца представлен и в сюжетном типе СУС 2022В Разбитое яичко , относящемся к разновидности кумулятивных (цепных) сказок. Подобные тексты известны в расширенном и сокращенном вариантах. Последнего вида сказки рассчитаны на детскую аудиторию:
Жили-были дед и баба. Была у них курочка-ряба. Снесла курочка яичко, не простое, а золотое. Дед бил-бил, не разбил, баба била-била, не разбила. Мышка маленькая бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Плачет дед, плачет баба, а курочка кудахчет:
— Не плачь, дед, не плачь, баба, снесу я вам яичко, не золотое, а простое 39.
В расширенной версии представлено большее количество действующих лиц и происходящих событий:
Жил-был старик со старушкою, у них была курочка-татаруш-ка, снесла яичко в куте под окошком: пестро, востро, костяно, мудрено! Положила на полочку; мышка шла, хвостиком тряхнула, полочка упала, яичко разбилось. Старик плачет, старуха возрыдает, в печи пылает, верх на избе шатается, девочка-внучка с горя удавилась. Идет просвирня, спрашивает: что они так плачут? Старики начали пересказывать: “Как нам не плакать? Есть у нас курочка-татарушка, снесла яичко в куте под окошком: пестро, востро, костяно, мудрено! Положила на полочку; мышка шла, хвостиком тряхнула, полочка упала, яичко разбилось. Я, старик, плачу, старуха возрыдает, в печи пылает, верх на избе шатается, девочка-внучка с горя удавилась”. Просвирня как услыхала — все просвиры изломала и побросала. Подходит дьячок и спрашивает у просвирни: зачем она просвиры побросала?
Она пересказала ему все горе; дьячок побежал на колокольню и перебил все колокола. Идет поп, спрашивает у дьячка: зачем колокола перебил? Дьячок пересказал все горе попу, а поп побежал, все книги изорвал40.
По мнению В. Н. Топорова, сказки о курочке, снесшей яйцо, и мышке, разбившей его, можно рассматривать как «крайне вырожденный вариант» упоминаемых ранее космогонических представлений [10, 95]. Между тем, например, В. Я. Пропп, относит такие тексты к области комического: «самое событие ничтожно, и ничтожность этого события иногда находится в комическом контрасте с чудовищным нарастанием вытекающих из него последствий и конечной катастрофой (разбилось яичко — сгорела вся деревня)» [8, 293]. Впрочем, для сказочной традиции в целом характерен переход текстов из одной жанровой разновидности в другую (волшебные сказки превращаются в новеллистические и анекдоты).
В заключение следует попутно отметить, что немаловажная роль отводится яйцу и в литературе: оно, например, занимает ведущее положение в «Роковых яйцах» М. А. Булгакова.
Анализируя эту повесть в одной из своих статей, Е. М. Неёлов подчеркнул следующее: «центральный фольклорно-мифологический образ-мотив яйца, проходящий через все произведение, также способствует ощущению сказочности булгаковской повести. Подобный анализ архаической семантики этого образа-мотива, творчески переосмысленный Булгаковым, потребовал бы объема чуть ли не монографии, поэтому просто отметим, что то размытое световое пятно, в котором Персиков обнаружил свой “красный луч”, тоже весьма напоминает яйцо» [4, 126]. Сам луч сравнивается у Булгакова с иголкой, что, по словам Е. М. Неёлова, «сразу же вызывает в памяти волшебно-сказочное яйцо, внутри которого находится иголка, в котором спрятана смерть Кощея. И это привносит в социально-сатирическую символику “красного луча” новые, более глубокие, “вечные” смыслы» [4, 126].
Итак, образ яйца встречается в нескольких сюжетных типах русских народных сказок. Как подчеркивает В. Е. Добровольская, «мифологическое сознание сравнивало яйцо, с одной стороны, с вселенной, макрокосмом, с другой стороны, яйцо осмыслялось как микрокосм» [1, 63]. При этом можно согласиться с исследовательницей, что «никаких прямых космогонических и иных мифологических реминисценций в связи с яйцом в сказке не отмечается» [1, 63]. В текстах, относящихся к данному жанру, функции рассматриваемого атрибута отличаются либо фантастическим, либо юмористическим наполнением.
Список литературы Ab ovo: о семантике сказочного образа
- Добровольская В. Е. Предметные реалии русской волшебной сказки. -М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2009. -224 с.
- Корепова К. Е. Русская лубочная сказка. -Нижний Новгород: КиТиздат, 1999. -243 с.
- Неёлов Е. М. Волшебно-сказочные корни научной фантастики. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. -1990 с.
- Неёлов Е. М. Фольклорная волшебная сказка и научная фантастика (анализ художеств. текста): Учеб. пособие. -Петрозаводск: ПГУ, 1986. -103 с.
- Неёлов Е. М. Сказка и литература: судьба Царевны-лягушки. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2011. -130 с.
- Неклюдов С. Ю. Особенности изобразительной системы в долитературном повествовательном искусстве//Ранние формы искусства: сб. статей. -М.: Искусство, 1972. -С. 191-219.
- Новиков Н. В. Образы восточнославянской волшебной сказки. -Л.: Наука, 1974. -255 с.
- Пропп В. Я. Трансформации волшебных сказок//Пропп В. Я. Фольклор и действительность: избр. статьи. -М.: Наука, 1976. -С. 153-173.
- Пропп В. Я. Русская сказка. -Л.: Наука, 1984. -335 с.
- Топоров В. Н. К реконструкции мифа о мировом яйце (на материале русских сказок)//Труды по знаковым системам: учен. записки. -Тарту: Изд-во Тартуского ун-та, 1967. -Вып. III. -С. 81-98.
- Яворский Ю. А. Omne vivum ex ovo. К истории сказаний и поверий о яйце. -Киев: тип. т-ва И. Н. Кушнерев и Ко, 1909. -22 с.