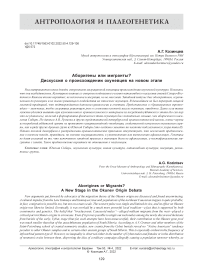Аборигены или мигранты? Дискуссия о происхождении окуневцев на новом этапе
Автор: Козинцев А.Г.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Антропология и палеогенетика
Статья в выпуске: 4 т.50, 2022 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются новые доводы сторонников миграционной концепции происхождения окуневской культуры. Показано, что они неубедительны. Культурное влияние со стороны позднеямного и ямно-катакомбного населения степей Северо-Восточного Кавказа вполне вероятно; не исключена и миграция, но не массовая. Западный импульс был однократным, ограниченным по размерам и не оказал решающего воздействия на этногенез окуневцев. В дальнейшем он был перекрыт мощной местной традицией, что подтверждается данными краниологии и генетики. Представление о «брахикранных европеоидах» - мужчинах, якобы сыгравших решающую роль в сложении основной массы окуневцев, ошибочно. Даже если таких мужчин удастся выявить при изучении нового краниологического материала из погребений уйбатского этапа (до сих пор это не удавалось), их вклад в формирование физического типа окуневцев был значительно меньше, чем аборигенного населения Сибири. По данным А.В. Громова и других представителей петербургской краниоскопической школы, новые черепа из погребений уйбатской группы не проявляют «американоидной» тенденции, свойственной остальным окуневским сериям, как и ряду других древних групп из Южной Сибири (это особенно заметно по частоте подглазничного узора типа II). Однако половой диморфизм в распределении краниоскопических признаков отсутствует, что исключает предположение о военном походе, приведшем, по мнению миграционистов, к уничтожению или вытеснению афанасьевцев. Генетика не дает указаний на то, что источником западной примеси у окуневцев были не афанасьевцы, а постафанасьевские мигранты с запада. Такое предположение вероятнее по отношению к чаахольцам.
Южная сибирь, окуневская культура, ямная культура, катакомбная культура, миграции, реликтовые группы
Короткий адрес: https://sciup.org/145146741
IDR: 145146741 | УДК: 572 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.4.129-136
Текст научной статьи Аборигены или мигранты? Дискуссия о происхождении окуневцев на новом этапе
Споры вокруг окуневской культуры не утихают. Недавно я попытался продемонстрировать, что оку-невцы были аборигенами Сибири, реликтовой группой, на много тысячелетий задержавшейся в местах, откуда часть ее далеких предков ушла в Новый Свет [Козинцев, 2020]. Данная теория (полагаю, речь сегодня идет именно о теории, а не просто о гипотезе) первоначально основывалась на краниологических данных [Козинцев, Громов, Моисеев, 1995, 2003; Kozintsev, Gromov, Moiseyev, 1999; Козинцев, 2004; Васильев и др., 2015, с. 323–325]. Она не вызвала никакого резонанса в России, но затем, через 20 лет, была подтверждена генетиками Дании [Allentoft et al., 2015; Zacho, 2016], Франции [Hollard et al., 2018] и США [Kim et al., 2018] и сочувственно воспринята также российскими генетиками [Балановский, 2015, с. 312]. Казалось, вопрос окончательно решен и можно двигаться дальше, а потому в последней статье я не стал заниматься дополнительным обоснованием, сосредоточившись на исследовании связей окуневцев с другими группами и вернувшись к этому в следующей публикации, посвященной основным тенденциям популяционной динамики в Северной Евразии [Козинцев, 2021]. Выяснилось, однако, что некоторых российских коллег мои доводы не убедили. Вопрос, очевидно, требует дополнительного рассмотрения.
Мигранты с запада – новые аргументы?
В последние годы в противовес традиционной точке зрения археологов [Максименков, 1975, с. 36–37; Ва-децкая, Леонтьев, Максименков, 1980, с. 26; Соколова, 2009] и антропологов [Чикишева, 2012, с. 88, 123, 180; Козинцев, 1976, 2004; Козинцев, Громов, Моисеев, 2003] о местных корнях окуневцев была выдвинута гипотеза о том, что окуневская культура возникла в результате миграции некой воинственной группы позднеямного и ямно-катакомбного населения – «бра-хикранных европеоидов» – из Северо-Западного При-каспия в Южную Сибирь. Вследствие этой миграции афанасьевцы были за короткий срок истреблены или выте снены [Лазаретов и др., 2012; Поляков, 2017; 2022, с. 83, 132, 154; и др.].
Огромная роль ямно-катакомбных племен в сложении афанасьевской культуры демонстрировалась не раз (см., напр.: [Козинцев, 2009]). Теоретически, конечно, нельзя исключить, что какое-то из этих племен, отличавшееся брахикранией, отправилось по следам своих долихокранных сородичей в Сибирь, где их настигло и с ними разделалось [Поляков, 2022, с. 128]. Но такой сценарий немного напоминает романтические повествования антропологов XIX в. о борьбе брахикранов с долихокранами. В современной этнической антропологии черепному указателю отводится второстепенная роль ввиду его способности быстро меняться под влиянием разных факторов, причем без участия миграций.
Споря со мной, А.В. Поляков не всегда последователен. Он утверждает, что «основное обсуждение ведется на археологических материалах. Данные антропологии, и особенно палеогенетики, были привлечены значительно позднее, когда стало ясно, что они не противоречат миграционной концепции (а если бы противоречили? – А.К. ). Поэтому они играют исключительно дополнительную, а никак не ключевую роль, четко демонстрируя полную смену населения Минусинских котловин на переходе между афанасьевской и окуневской культурами» [Там же, с. 132–133]. Но если роль антропологических материалов столь скромна, то почему так часты в его работах упоминания о «брахикранных европеоидах» – якобы мигрантах с запада? «Совершенно особый брахикранный европеоидный тип, представленный в мужских сериях уйбатского этапа, разительно отличается от всех известных местных серий» [Там же, с. 83]; далее: «В самом начале окуневской культуры появляются брахи-кранные европеоиды, которых никакими усилиями невозможно вывести из местного неолита» [Там же, с. 132]; и снова: «Наиболее ранний, уйбатский этап хорошо отражает начальный процесс формирования и постепенной консолидации культурных признаков. Для него характерен определенный половой диморфизм – разделение на брахикранных европеоидных мужчин и весьма разнообразную по признакам группу женщин, часть из которых имеет ярко выраженную монголоидность» [Там же, с. 315].
Прежде всего странно читать, что данные антропологии были привлечены лишь в качестве дополнительного материала, когда они понадобились для подтверждения миграционной концепции. Обратившись к истории вопроса, мы видим прямо противоположную картину: задолго до того, как окуневская культура была признана самостоятельной и отделена от афанасьевской, своеобразие физического типа окуневцев бросилось в глаза [Липский, 1952]. Именно к раннему, уйбатскому этапу и относится че- реп из Аскиза, впервые давший нам представление о внешности окуневцев [Там же, рис. 28; Поляков, 2022, с. 114, рис. 63, 21]. Он мужской и действительно брахикранный, но никоим образом не европеоидный. По словам М.М. Герасимова, реконструировавшего облик данного индивида, это «грубый, массивный тип брахикранного протомонголоида» [1955, с. 537–538, рис. 222]. Уплощенность его лица не уступает таковой у представителей байкальского и центральноазиатского типов, и лишь сильное выступание носа свидетельствует о возможной метис-ности [Алексеев, 1961, с. 139]. А.Н. Липский был совершенно прав, когда не только отметил сходство подобных индивидов с неолитическими обитателями долины Енисея, но и указал на некоторый архаизм их облика, подтверждающий представление об автохтонности [1952, с. 74, 75, 77].
Вопреки А.В. Полякову, не требуется ни малейших усилий, чтобы вывести происхождение таких индивидов (и даже не столь монголоидных!) из местного неолита. Видеть в них «брахикранных европеоидов», подтверждающих миграционную концепцию, могут лишь те, кто в увлечении собственной гипотезой не замечают очевидных фактов. Вообще, пользоваться подобными типологическими определениями в эпоху компьютеров и многомерной статистики нет никакого смысла. Здесь, как и в подавляющем большинстве случаев, расовая типология оказывается гораздо менее эффективным инструментом анализа, чем популяционная концепция и статистика (см., напр.: [Козинцев, 2017]). А.В. Громов [1997, 2002] не смог выделить предполагаемых «брахикранных европеоидов» из общей массы окуневских мужчин ни на уровне индивидуальной типологии, ни с помощью статистики, тогда как монголоидные женщины, действительно выделяющиеся своим обликом, единичны. Это вполне соответствует выводу о генетической однородности окуневской выборки [Zacho, 2016, p. 38]. Возможно, ситуация изменится после появления краниометрических данных о черепах уйбат-ского этапа – как раз сейчас их изучает А.В. Громов со своими учениками.
Близкое сходство окуневских черепов с неолитической краниологической серией из красноярско-канской лесостепи по всей совокупности признаков [Громов, 1997; 2002, с. 72, 74; Козинцев, 2009, 2020, 2021] А.В. Поляков не считает весомым аргументом в пользу их родства на том основании, что эта серия мала и недостаточно хорошо датирована. В частности, к ней ошибочно был отнесен окуневский череп из Ба-теней. По крайней мере к моим работам это не относится: я пользовался только мужскими черепами, тогда как череп из Батеней со времени публикации В.П. Алексеева [1961, с. 115] считается женским. К тому же он уже давно исключен из неолитической серии [Тур, Солодовников, 2005]*. Один из мужских черепов, из Базаихи, согласно результатам радиоуглеродного анализа, имеет возраст 4 700 лет, т.е. он, хотя и относится не к неолиту, а к эпохе ранней бронзы, но все-таки древнее окуневских, генетически же сближается с ними [Yu et al., 2020]. Геном данного индивида может быть моделирован как смесь двух компонентов – ботайского и прибайкальского позднего неолита и раннего бронзового века [Ibid.].
Кроме того, представители красноярско-канского неолита сегодня уже не могут считаться единственными или даже лучшими претендентами на роль предков окуневцев. Недавно оказалось, что с равным правом претендовать на это могут люди, жившие в неолите и энеолите гораздо западнее – на среднем Иртыше [Солодовников и др., 2019; Козинцев, 2021, с. 126– 127, рис. 1]. Приписать совпадению два таких случая уже сложнее. Иртышская группа еще ближе к окуневской, чем красноярско-канская, причем окуневцы, захороненные в могилах тасхазинского типа и погребениях Уйбата**, где «брахикранные европеоиды» должны были бы преобладать, в действительности ближе к ней, чем к любой из 45 ямных и катакомбных групп Восточной Европы и Северного Кавказа. Правда, и иртышская серия очень мала, но ее малочисленность в известной мере компенсируется представительным набором информативных признаков. Если и допустить миграцию с Иртыша в Минусинскую котловину, то это совсем не та миграция с запада, которую имеют в виду И.П. Лазаретов и А.В. Поляков.
Однако есть серьезные основания думать, что речь идет не о миграции, а о консервации на территории Южной Сибири древнего антропологического пласта. Т.А. Чикишева назвала его южной евразийской антропологической формацией [2012, с. 57, 153, 169]. На мощность этого пласта указывают не только краниометрические [Там же; Козинцев, 2021], но и кра-ниоскопические данные. «Наиболее ярким признаком, характеризующим окуневское население, – пишут А.В. Громов с соавторами [2021, с. 152–153], – является низкая частота ПГУ II*** (около 30 %). Эта особенность позволила в свое время предположить общность происхождения предков окуневцев и американских индейцев [Козинцев и др., 2003]. Однако ввод в научный оборот новых материалов эпохи бронзы позволил констатировать существование сибирского очага низкой частоты ПГУ II, охватывавшего значительную территорию, как минимум от Барабинской лесостепи до Минусинской котловины [Громов, 1997, 2002]». Верно здесь все, кроме слова «однако», ведь широкое распространение южной евразийской антропологической формации в Южной Сибири не противоречит предположению о «боковом» родстве не только окуневцев, но и ряда других ее представителей с аборигенами Нового Света.
Очень интересные результаты дает исследование новых материалов из погребений уйбатского этапа. Оно только начато, причем доступны пока лишь кра-ниоскопические данные. В первой публикации авторы, упомянув о низкой частоте ПГУ II как характерной особенности большинства исследованных прежде окуневцев, отметили: «Тем удивительнее было обнаружить в суммарной серии погребений уйбатского хронологического горизонта частоту ПГУ II – 70,4 %, причем этот тип подглазничного узора одинаково часто встречается в сериях обоих памятников, составивших эту группу. Если отнести эту особенность на счет западных мигрантов, то идея о военном походе* не выдерживает критики, т.к. половой диспропорции в данной серии не наблюдается ни по количеству индивидов, ни по частотам ПГУ II» [Громов и др., 2021, с. 153]. Во второй публикации, вышедшей после изучения дополнительных материалов, сказано следующее: «Таким образом, по данным краниоскопии индивиды из погребений уйбатского хронологического горизонта отличаются от остальных окуневцев. Прежде всего речь идет об очень высокой частоте ПГУ II. Но и по результатам анализа главных компонент наиболее ранние окуневцы предстают скорее европейской группой, чем сибирской. Возможно, изучение данных краниометрии поможет более точно ответить на вопрос о происхождении этой своеобразной краниологической серии» [Громов, Казарницкий, Лаза-ретова, 2022, с. 259]. Существенно, что различие между мужчинами и женщинами по краниоскопическим признакам по-прежнему отсутствует (личное сообщение А.В. Громова, за которое я благодарен автору).
Как бы то ни было, даже если идея военного похода и не подтверждается антропологическими материалами, полностью отрицать роль западного импульса в генезисе окуневцев нельзя хотя бы по причине ощутимой ямно-афанасьевской примеси (см. ниже). Вывод о том, что окуневцы – европеизированные «аме- риканоиды», обоснован уже давно [Kozintsev, Gromov, Moiseyev, 1999]. В недавней публикации [Козинцев, 2020] я отметил, что из всех восточноевропейских и северокавказских серий ямного и катакомбного времени наибольшее приближение к окуневским обнаруживают катакомбные Ставрополья [Романова, 1991]. Возникает оно, как ни странно, за счет не только «западного» сдвига окуневцев, но и легкого «восточного» сдвига ставропольских катакомбников. Данная группа занимает по отношению к сибирским особое место: она оказывается самой близкой из европейских и северокавказских групп для андроновцев Верхнего Приобья и карасукцев. Правда, у всех окуневских серий сходство с нею все-таки менее отчетливо, чем с красноярско-канской неолитической, но игнорировать его нельзя. Мужские черепа ставропольских катакомбников, в отличие от женских, не брахикранные, а мезокранные (78,0 против 81,5 у окуневцев, по данным А.В. Громова), что усиливает сомнения в том, что окуневская бра-хикрания имеет западное происхождение. На возможный катакомбный компонент в антропологическом составе афанасьевцев я уже указывал [Козинцев, 2009].
Миграция в казахстанские степи и Южную Сибирь европеоидов с несколько повышенным черепным указателем, которые ведут происхождение от ям-но-катакомбных племен, обитавших на территории Калмыкии, отнюдь не фантазия. Она действительно имела место, но позже, и были это предки не окунев-цев, а андроновцев, что я тоже продемонстрировал уже давно [Там же]. Связь в данном случае (в отличие от случая с окуневцами) устанавливается с полной отчетливостью.
Интересен вопрос о характерной окуневской деформации головы, приводящей к т.н. обелионному уплощению. Я обратил внимание на ее идентичность той, которая отмечена у индейцев пуэбло [Nelson, Madimenos, 2010]. А.В. Громов и А.А. Казарницкий считают данную параллель неосновательной, поскольку для ее принятия нужно предположить существование этого типа деформации у общих предков окуневцев и американских индейцев и сохранение его на протяжении нескольких тысяч лет [2022]. В принципе такая устойчивость традиции возможна, как показывают, например, американские аналогии окуневскому искусству (см. ниже). Но дело в том, что характерная окуневская деформация оказалась типична лишь для поздних этапов данной культуры, а это, действительно, уменьшает значимость названной параллели. Деформация же на черепах уйбатского этапа сходна с таковой в ям-но-катакомбных сериях Калмыкии, но относится она к обычному затылочному типу, лишенному какой-либо специфики [Там же]. Частота затылочной деформации достигает 20 % и выше в 14 из 65 изученных мною довольно разнообразных серий со всего мира, т.е. в среднем не менее чем в каждой пятой [Козинцев,
1988, с. 17]. Так что и в пользу миграционной теории данный факт не может быть использован.
Генетические данные носителей окуневской культуры уже рассматривались мною [Козинцев, 2020]. Они указывают на глубокие (возможно, верхнепалеолитические) корни окуневцев и на их «боковое» родство с аборигенами Нового Света. Я подробно остановился на работе К. Сачо [Zacho, 2016], ученика М. Аллентофта, потому лишь, что это единственное на сегодняшний день монографическое исследование, целиком посвященное окуневским геномам. Его результаты не вошли в сводку А.В. Полякова [2019], и истинную причину мы теперь знаем – ведь привлечь их в качестве «исключительно дополнительной» иллюстрации миграционной гипотезы невозможно. В книге А.В. Поляков оправдывает данное упущение тем, что автор был в то время слишком юн и неопытен [Там же, с. 134]. Этот аргумент ad hominem несостоятелен. Да, работа К. Сачо – всего лишь магистерская диссертация, но старшие коллеги едва ли допустили бы ее к защите, если бы в ней содержались какие-то ошибки. В коллективной статье, опубликованной копенгагенскими генетиками под руководством Э. Вил-лерслева уже после защиты, ссылки на работу К. Сачо действительно нет, да в этом и не было необходимости, ведь сам он значится в списке соавторов, как, кстати, и А.В. Поляков [Damgaard et al., 2018]. Я рад, что А.В. Поляков считает выводы данной статьи «на порядок более взвешенными и фундированными» [2022, c. 134]. Они таковы. Три выборки эпохи энеолита и ранней бронзы, а именно носители ботайской культуры, окуневцы и человек, захороненный в кургане ямного типа Шолпан-4 в Восточном Казахстане (середина III тыс. до н.э.), генетически близки и с наибольшей вероятностью моделируются как смесь двух аутосомных компонентов. Один из них – ANE, который был предположительно унаследован от верхнепалеолитического населения Южной Сибири, представленного мальчиком из Мальты; другой – восточный, обнаруженный в ранненеолитической группе из Шаманки в Южном Прибайкалье*. У общего предка этих трех групп, жившего 10–13 тыс. л.н., оба сибирских компонента присутствовали примерно в равной доле. У оку-невцев, кроме того, зафиксирована западная примесь (10–20 %), источником которой были степные популяции Восточной Европы и Северного Кавказа или их сибирские потомки**. Она была передана по мужской ли- нии ок. 4 600 л.н. [Damgaard et al., 2018; Allentoft et al., 2022], что совпадает с нижней датой окуневской культуры [Поляков, 2022, с. 184]. По мнению генетиков, примесь была получена от афанасьевцев [Damgaard et al., 2018; Allentoft et al., 2022]. Это наиболее естественное объяснение, ведь контакты с ними окуневцев не нуждаются в доказательствах. Никаких указаний на то, что источником примеси были гипотетические постафанасьевские мигранты с запада, нет*. Подобное предположение гораздо вероятнее по отношению к ча-ахольцам Тувы [Козинцев, Селезнева, 2015].
Вопрос о родстве предков окуневцев и индейцев в указанной работе копенгагенских генетиков [Damgaard et al., 2018] не обсуждался – это уже было сделано в предыдущей их публикации. Напомню: «Интригует тот факт, что носители окуневской культуры эпохи бронзы Алтае-Саянского региона родственны современным американским аборигенам, что подтверждает более ранние результаты краниометрических исследований [Kozintsev, Gromov, Moiseyev, 1999]. Этот факт свидетельствует о том, что окунев-цы, видимо, были реликтовой группой, родственной популяции верхнепалеолитических охотников и собирателей, жившей в Мальте к западу от Байкала и передавшей свои генетические особенности аборигенам Америки» [Allentoft et al., 2015, p. 169]. Поэтому, когда А.В. Поляков пишет, что местные корни оку-невцев не прослеживаются, а «попытки использовать для этого генетический профиль мальчика из памятника Мальта, отстоящего от них почти на 20 000 лет, выглядят несколько странно» [2022, с. 134], причем ссылается на гаплогруппы Y-хромосомы, его сомнения следует переадресовать генетикам.
Археология, антропология, генетика: возможен ли компромисс?
Не будучи археологом, я не собираюсь оспаривать значение археологических фактов, на которых строится миграционная теория; более того, они кажутся мне убедительными. Хочу лишь отметить два обстоятельства. Во-первых, расхождение между данными археологии и антропологии не редкость. Я уже упомянул два таких случая: ботайская культура имеет мало общего с окуневской, несмотря на генетическое сходство их носителей, а представитель ямников из Шол-пана – явный абориген Центральной Азии. Еще один пример – родственная окуневской чемурчекская культура. Ее западное (даже западноевропейское) происхождение было солидно аргументировано в многочисленных работах А.А. Ковалева (см., напр.: [2011]).
*К тому же выводу приводит изучение мтДНК [Пилипенко и др., 2022].
При этом физический тип чемурчекцев, насколько можно судить по двум черепам, монголоидный, близкий к характерному для населения Прибайкалья эпох неолита и бронзы [Солодовников, Тумен, Эрдэнэ, 2019; Козинцев, 2021]. Генетически чемурчекцы представляют собой смесь различных компонентов, главный из которых (ANE) мог быть унаследован от носителей ботайской культуры, что подтверждает родство чемурчекцев с окуневцами [Jeong et al., 2020; Wang et al., 2021]. Это нисколько не умаляет значение западноевропейских параллелей, собранных А.А. Ковалевым. Просто нельзя забывать общеизвестную истину: элементы культуры, в отличие от генов, могут заимствоваться. Обе категории данных имеют самостоятельное значение, и ни одна из них не является «дополнительной» по отношению к другой. Привлекать антропологические факты лишь для иллюстрации правильности археологических теорий – порочный принцип, что и видно на примере «брахикранных европеоидов».
Во-вторых, ведь и археологические данные далеко не однозначны. Как, например, уложить в миграционную концепцию окуневский художественный стиль, не имеющий никаких аналогий в Европе [Поляков, 2022, с. 122–127]? Как можно было обойти молчанием мнение одного из лучших знатоков древнего искусства Ю.Е. Берёзкина, по словам которого, окуневские личины «можно без колебания отнести к кругу образов, характерных для доиньских культур Китая» [Васильев и др., 2015, с. 469]*? К этому надо добавить сходство окуневских петроглифов с наскальными рисунками на Ангаре, а окуневской керамики с неолитической ангарской и даже с позднеплейстоценовой амурской [Соколова, 2007]. Как отмечает Ю.Е. Берёзкин, из Восточной Азии художественный канон, родственный окуневскому и древнекитайскому, проник к аборигенам северо-западного побережья Северной Америки, в частности к эскимосам и тлинкитам, а далее к индейцам Мезоамерики и Анд [Васильев и др., 2015, с. 489–538]. Для Западной Евразии он совершенно не характерен.
В заключение я спрошу своих оппонентов: стоит ли так упорствовать? Что касается меня, я нисколько не держусь за идею исключительно местного генезиса окуневцев. Напротив, с нетерпением жду результатов работы А.В. Громова и его учеников, занимающихся анализом происхождения людей уйбатского этапа. И если последние действительно окажутся пришельцами с запада, что вовсе не исключено, буду только рад, ведь это обогатит наши представления, а меня с моими оппонентами приблизит к достижению компромисса, который, возможно, лишь кажется недостижимым.
Вместо заключения
Подводить итоги пока рано – надо дождаться появления новых краниологических данных о людях уй-батского этапа. Если они действительно имели западное происхождение, то нужно будет согласиться с А.В. Громовым, а отчасти и с А.В. Поляковым – их приход был разовым и ограниченным по масштабу событием, после которого пришельцы почти полностью растворились в численно превосходившем их местном населении. А это значит, что миграционизм и авто-хтонизм в вопросе о происхождении окуневцев не исключают, а дополняют друг друга.
Список литературы Аборигены или мигранты? Дискуссия о происхождении окуневцев на новом этапе
- Алексеев В.П. Палеоантропология Алтае-Саянского нагорья эпохи неолита и бронзы // Антропологический сборник III. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – С. 108–206. – (ТИЭ. Нов. сер.; т. 71).
- Балановский О.П. Генофонд Европы. – М.: Товарищество науч. изд. КМК, 2015. – 354 с.
- Боковенко Н.А. Новые петроглифы личин окуневского типа в Центральной Азии // Проблемы изучения окуневской культуры: тез. докл. конф. – СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 1995. – С. 32–37.
- Вадецкая Э.Б., Леонтьев Н.В., Максименков Г.А. Памятники окуневской культуры. – Л.: Наука, 1980. – 148 с.
- Васильев С.А., Берёзкин Ю.Е., Козинцев А.Г., Пейрос И.И., Слободин С.Б., Табарев А.В. Заселение человеком Нового Света: Опыт комплексного исследования. – СПб.: Нестор-История, 2015. – 692 с.
- Герасимов М.М. Восстановление лица по черепу. – М.: Изд-во АН СССР, 1955. – 585 c. – (ТИЭ. Нов. сер.; т. 28).
- Громов А.В. Происхождение и связи населения окуневской культуры // Окуневский сборник. – СПб.: Петро-РИФ, 1997. – С. 301–358.
- Громов А.В. Антропология населения окуневской культуры Южной Сибири: Эпоха бронзы: дис. … канд. ист. наук. – СПб., 2002. – 198 с.
- Громов А.В., Казарницкий А.А. Искусственная деформация головы у ранних окуневцев // Археол. вести. – 2022. – № 34. – С. 266–268.
- Громов А.В., Казарницкий А.А., Лазаретова Н.И. Краниоскопия населения окуневской культуры и вопросы его происхождения // Археол. вести. – 2022. – № 34. – С. 257–259.
- Громов А.В., Казарницкий А.А., Лазаретова Н.И., Хохлов А.А. Население Минусинской котловины эпохи бронзы по данным краниоскопии (к вопросу о происхождении окуневской культуры) // Археологические памятники
- Южной Сибири от появления первых скотоводов до эпохи сложения государственных образований: мат-лы Междунар. науч. конф., посвящ. 85-летию д-ра ист. наук Э.Б. Вадецкой (1936–2018) и 90-летию д-ра ист. наук Г.А. Максименкова (1930–1986). 19–21 апр. 2021 г., Санкт-Петербург. – СПб.: ИИМК РАН, 2021. – С. 151–153.
- Ковалев А.А. Великая чемурчекская миграция из Франции на Алтай в начале третьего тысячелетия до н.э. // Рос. археол. ежегодник. – 2011. – № 1. – С. 183–244.
- Козинцев А.Г. Население Минусинского края эпохи бронзы и его роль в формировании антропологического состава народов Западной Сибири // Вопр. антропологии. – 1976. – № 54. – С. 180–189.
- Козинцев А.Г. Этническая краниоскопия: Расовая изменчивость швов черепа современного человека. – Л.: Наука, 1988. – 167 с.
- Козинцев А.Г. Кеты, уральцы, «американоиды»: Интеграция краниометрических и краниоскопических данных // Палеоантропология, этническая антропология, этногенез: К 75-летию И.И. Гохмана. – СПб.: МАЭ РАН, 2004. – С. 172–185.
- Козинцев А.Г. О ранних миграциях европеоидов в Сибирь и Центральную Азию (в связи с индоевропейской проблемой) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2009. – № 4. – С. 125–136.
- Козинцев А.Г. Происхождение западных алакульцев по данным краниометрии (об одной затянувшейся дискуссии) // Радловский сборник: Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2016 г. – СПб.: МАЭ РАН, 2017. – С. 277–287.
- Козинцев А.Г. Происхождение окуневского населения Южной Сибири по данным физической антропологии и генетики // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2020. – Т. 48, № 4. – С. 135–145.
- Козинцев А.Г. Основные направления популяционной динамики в Северной Евразии от мезолита до эпохи ранней бронзы (по данным краниологии и генетики) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2021. – Т. 49, № 4. – С. 121–132.
- Козинцев А.Г., Громов А.В., Моисеев В.Г. Американоиды на Енисее? (антропологические параллели одной гипотезе) // Проблемы изучения окуневской культуры: тез. докл. конф. – СПб.: [б.и.], 1995. – С. 74–77.
- Козинцев А.Г., Громов А.В., Моисеев В.Г. Новые данные о сибирских «американоидах» // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2003. – № 3. – С. 149–154.
- Козинцев А.Г., Селезнева В.И. Вторая волна миграции европеоидов в Южную Сибирь и Центральную Азию (к вопросу об индоиранском компоненте в окуневской культуре) // Радловский сборник: Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2014 г. – СПб.: МАЭ РАН, 2015. – С. 51–62.
- Лазаретов И.П., Поляков А.В., Есин Ю.Н., Лазаретова Н.И. Новые данные по формированию окуневского культурного феномена // Историко-культурное наследие и духовные ценности России. – М.: РОССПЭН, 2012. – С. 130–136.
- Липский А.Н. Афанасьевские погребения в Хакасии // КСИИМК. – 1952. – № 47. – С. 67–77.
- Максименков Г.А. Окуневская культура: автореф. дис. … д-ра ист. наук. – Новосибирск, 1975. – 39 с.
- Пилипенко И.В., Пристяжнюк М.С., Трапезов Р.О., Черданцев С.В., Молодин В.И., Пилипенко А.С. Разнообразие вариантов митохондриальной ДНК у носителей окуневской культуры из могильника Сыда V // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2022. – Т. 21, № 7. – С. 53–71.
- Поляков А.В. Современная хронология памятников энеолита и эпохи бронзы Минусинских котловин // Петроглифы Центральной Азии и Северного Китая. – Улаанбаатар: Адмон принт, 2017. – С. 187–211.
- Поляков А.В. Обзор результатов начального этапа палеогенетических исследований населения эпохи бронзы Минусинских котловин // Теория и практика археол. исследований. – 2019. – № 2. – С. 91–108.
- Поляков А.В. Хронология и культурогенез памятников эпохи палеометалла Минусинских котловин. – СПб.: ИИМК РАН, 2022. – 364 с.
- Романова Г.П. Палеоантропологические материалы из степных районов Ставрополья эпохи ранней и средней бронзы // СА. – 1991. – № 2. – С. 160–170.
- Соколова Л.А. Окуневская культурная традиция в стратиграфическом аспекте // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2007. – № 2. – С. 41–51.
- Соколова Л.А. Формирование окуневского культурного комплекса: автореф. дис. … канд. ист. наук. – СПб., 2009. – 28 с.
- Солодовников К.Н., Багашёв А.Н., Тур С.С., Громов А.В., Нечвалода А.И., Кравченко Г.Г. Источники по палеоантропологии неолита – энеолита Среднего Прииртышья // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2019. – № 3. – С. 116–136.
- Солодовников К.Н., Тумен Д., Эрдэнэ М. Краниология чемурчекской культуры Западной Монголии // Древности Восточной Европы и Южной Сибири в контексте связей и взаимодействий в евразийском культурном пространстве (новые данные и концепции): мат-лы Междунар. конф., 18–22 нояб. 2019 г., Санкт-Петербург. – СПб.: ИИМК РАН, 2019. – Т. 2. – С. 79–81.
- Тур С.С., Солодовников К.Н. Новые краниологические материалы из погребений каракольской культуры эпохи бронзы Горного Алтая // Изучение историко-культурного наследия народов Южной Сибири. – Горно-Алтайск: Агентство по культ.-ист. наследию Респ. Алтай, 2005. – Вып. 1. – С. 35–47.
- Чикишева Т.А. Динамика антропологической дифференциации населения юга Западной Сибири в эпохи неолита – раннего железа. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – 467 с.
- Allentoft M.E., Sikora M., Refoyo-Martinez A., Irving- Pease E.K., Fischer A., Barrie W., Ingason A., Stenderup J., Sjogren K.-G., Pearson A., Mota D., Schulz Paulsson B., Halgren A., Macleod R., Schjellerup Jorkov M.L., Demeter F., Novosolov M., Sorensen L., Nielsen P.O., Henriksen R.H., Vimala T., McColl H., Margaryan A., Ilardo M., Vaughn A., Fischer Mortensen M., Nielsen A.B., Ulfeldt Hede M., Rasmussen P., Vinner L., Renaud G., Stern A., Jensen T.Z., Johannsen N.N., Scorrano G., Schroeder H., Lysdahl P., Ramsoe A.D., Skorobogatov A., Schork A.J., Rosengren A., Ruter A., Outram A., Timoshenko A.A., Buzhilova A., Coppa A., Zubova A., Silva A.M., Hansen A.J., Gromov A., Logvin A., Gotfredsen A.B., Nielsen B.H., Gonzalez-Rabanal B., Lalueza- Fox C., McKenzie C.J., Gaunitz C., Blasco C., Liesau C., Martinez-Labarga C., Pozdnyakov D.V., Cuenca-Solana D., Lordkipanidze D.O., En’shin D., Salazar-Garcia D.C., Price T.D., Borić D., Kostyleva E., Veselovskaya E.V., Usmanova E.R., Cappellini E., Petersen E.B., Kannegaard E., Radina F., Yediay F.E., Duday H., Gutierrez-Zugasti I., Potekhina I., Shevnina I., Altinkaya I., Guilaine J., Hansen J., Aura Tortosa J.E., Zilhao J., Vega J., Pedersen K.B., Tunia K., Zhao L., Mylnikova L.N., Larsson L., Metz L., Yepiskoposyan L., Pedersen L., Sarti L., Orlando L., Slimak L., Klassen L., Blank M., Gonzalez-Morales M., Silvestrini M., Vretemark M., Nesterova M.S., Rykun M., Rolfo M.F., Szmyt M., Przybyła M., Calattini M., Sablin M., Dobisikova M., Meldgaard M., Johansen M., Berezina N., Card N., Saveliev N.A., Poshekhonova O., Rickards O., Lozovskaya O.V., Uldum O.C., Aurino P., Kosintsev P., Courtaud P., Rios P., Mortensen P., Lotz P., Persson P.A., Bangsgaard P., de Barros Damgaard P., Petersen P.V., Martinez P.P., Włodarczak P., Smolyaninov R.V., Maring R., Menduina R., Badalyan R., Iversen R., Turin R., Vasilyiev S., Wahlin S., Borutskaya S., Skochina S., Sorensen S.A., Andersen S.H., Jorgensen T., Serikov Y.B., Molodin V.I., Smrcka V., Merz V., Appadurai V., Moiseyev V., Magnusson Y., Kjar K.H., Lynnerup N., Lawson D.J., Sudmant P.H., Rasmussen S., Korneliussen T., Durbin R., Nielsen R., Delaneau O., Werge T., Racimo F., Kristiansen K., Willerslev E. Population genomics of Stone Age Eurasia // BioRxiv. – 2022. – URL: https://doi.org/10.1101/2022.05.04.490594
- Allentoft M.E., Sikora M., Sjögren K.-G., Rasmussen M., Stenderup J., Damgaard P.B., Schroeder H., Ahlström T., Vinner L., Malaspinas A.-S., Margaryan A., Higham T., Chivall D., Lynnerup N., Harvig L., Baron J., Della Casa P., Dąbrowski P., Duffy P.R., Ebel A.V., Epimakhov A., Frei K., Furmanek M., Gralak T., Gromov A., Gronkiewicz S., Grupe G., Hajdu T., Jarycz R., Khartanovich V., Khokhlov A., Kiss V., Kolář J., Kriiska A., Lasak I., Longhi C., McGlynn G., Merkevicius A., Merkyte I., Metspalu M., Mkrtchyan R., Moiseyev V., Paja L., Pálfi G., Pokutta D., Pospieszny L., Price T.D., Saag L., Sablin M., Shishlina N., Smrčka V., Soenov V., Szeverényi V., Tóth G., Trifanova S.V., Varul L., Vicze M., Yepiskoposyan L., Zhitenev V., Orlando L., Sicheritz-Pontén T., Brunak S., Nielsen R., Kristiansen K., Willerslev E. Population genomics of Bronze Age Eurasia // Nature. – 2015. – Vol. 522, N 7555. – P. 167–172.
- Damgaard P., Martiniano R., Kamm J., Moreno- Mayar J.V., Kroonen G., Peyrot M., Barjamovic G., Rasmussen S., Zacho C., Baimukhanov N., Zaibert V., Merz V., Biddanda A., Merz I., Loman V., Evdokimov V., Usmanova E., Hemphill B., Seguin-Orlando A., Eylem Yediay F., Ullah I., Sjögren K.-G., Højholt Iversen K., Choin J., de la Fuente C., Ilardo M., Schroeder H., Moiseyev V., Gromov A., Polyakov A., Omura S., Yücel Senyurt S., Ahmad H., McKenzie C., Margaryan A., Hameed A., Samad A., Gul N., Hassan Khokhar M., Goriunova O., Bazaliiskii V., Novembre J., Weber A.W., Orlando L., Allentoft M.E., Nielsen R., Kristiansen K., Sikora M., Outram A.K., Durbin R., Willerslev E. The fi rst horse herders and the impact of early Bronze Age steppe expansions into Asia // Science. – 2018. – Vol. 360, N 6396. – URL: https://science.sciencemag.org/content/360/6396/eaar7711
- Hollard C., Zvénigorodsky V., Kovalev A., Kiryushin Y., Tishkin A., Lazaretov I., Crubézy E., Ludes B., Keyser C. New genetic evidence of affi nities and discontinuities between Bronze Age Siberian populations // Am. J. Phys. Anthropol. – 2018. – Vol. 167, iss. 1. – P. 97–107.
- Jeong C., Wang K., Wilkin S., Treal Taylor W., Miller B., Bemmann J., Stahl R., Chiovelli C., Knolle F., Ulziibayar S., Khatanbaatar D., Erdenebaatar D., Erdenebat U., Ochir A., Ankhsanaa G. Vanchigdash C., Ochir B., Munkhbayar C., Tumen D., Kovalev A., Kradin N., Bazarov B., Miyagashev D., Konovalov P., Zhambaltarova E., Ventresca Miller A. Haak W., Schiffels S., Krause J., Boivin N., Erdene M., Hendy J., Warinner C. A dynamic 6,000-year genetic history of Eurasia’s Eastern steppe // Cell. – 2020. – Vol. 183, iss. 4. – P. 890–904.
- Kim A.M., Kozintsev A.G., Moiseyev V.G., Rohland N., Mallick S., Reich D.E. Native American relatives in Bronze Age southern Siberia? Okunev Culture and the new dialogue of genome-wide ancient DNA and physical anthropology // Am. J. Phys. Anthropol. – 2018. – Vol. 165, suppl. 66. – P. 139.
- Kozintsev A.G., Gromov A.V., Moiseyev V.G. Collateral relatives of American Indians among the Bronze Age populations of Siberia? // Am. J. Phys. Anthropol. – 1999. – Vol. 108, iss. 2. – P. 193–204.
- Nelson G.C., Madimenos F.C. Obelionic cranial deformation in the Puebloan Southwest // Am. J. Phys. Anthropol. – 2010. – Vol. 143, iss. 3. – P. 465–472.
- Wang C., Reinhold S., Kalmykov A., Wissgott A., Brandt G., Jeong C., Cheronet O., Ferry M., Harney E., Keating D., Mallick S., Rohland N., Stewardson K., Kantorovich A., Maslov V., Petrenko V., Erlikh V., Atabiev B., Magomedov R., Kohl P., Alt K., Pichler S., Gerling C., Meller H., Vardanyan B., Yeganyan L., Rezepkin A., Mariaschk D., Berezina N., Gresky J., Fuchs K., Knipper C., Schiffels S., Balanovska E., Balanovsky O., Mathieson I., Higham T., Berezin Y., Buzhilova A., Trifonov V., Pinhasi R., Belinskij A., Reich D., Hansen S., Krause J., Haak W. Ancient human genome-wide data from a 3000-year interval in the Caucasus corresponds with eco-geographic regions // Nature Communications. – 2019. – N 10. – Art. n. 590. – URL: https://doi.org/10.1038/s41467-018-08220-8
- Wang C., Yeh H., Popov A., Zhang H., Matsumura H., Sirak K., Cheronet O., Kovalev A., Rohland N., Kim A., Mallick S., Bernardos R., Tumen D., Zhao J., Liu Y., Liu J., Mah M., Wang K., Zhang Z., Adamski N., Broomandkhoshbacht N., Callan K., Candilio F., Duffett Carlson K., Culleton B., Eccles L., Freilich S., Keating D., Lawson A., Mandl K., Michel M., Oppenheimer J., Özdoğan T., Stewardson K., Wen S., Yan S., Zalzala F., Chuang R., Huang C., Looh H., Shiung C., Nikitin Y., Tabarev A., Tishkin A., Lin S., Sun Z., Wu X., Yang T., Hu X., Chen L., Du H., Bayarsaikhan J., Mijiddorj E., Erdenebaatar D., Iderkhangai T., Myagmar E., Kanzawa-Kiriyama H., Nishino M., Shinoda K., Shubina O., Guo J., Cai W., Deng Q., Kang L., Li D., Li D., Lin R., Nini L., Shrestha R., Wang L., Wie L., Xie G., Yao H., Zhang M., He G., Yang X., Hu R., Robbeets M., Schiffels S., Kennett D., Jin L., Li H., Krause J., Pinhasi R., Reich R. Genomic insights into the formation of human populations in East Asia // Nature. – 2021. – Vol. 591. – P. 413–419. – URL: https://doi.org/10.1038/s41586-021-03336-2
- Yu H., Spyrou M., Karapetian M., Shnaider S., Radzevičiūte R., Nägele K., Neumann G., Penske S., Zech J., Lucas M., Le Roux P., Roberts P., Pavlenok G., Buzhilova A., Posth C., Jeong C., Krause J. Paleolithic to Bronze Age Siberians reveal connections with fi rst Americans and across Eurasia // Cell. – 2020. – Vol. 181, iss. 6. – P. 1232–1245.
- Zacho C.G. Population Genomics of the Bronze Age Okunevo Culture: Master Thesis. – Copenhagen: University of Copenhagen, 2016. – 64 p.