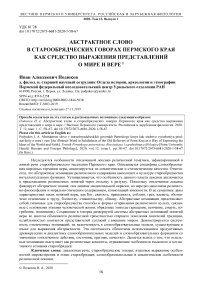Абстрактное слово в старообрядческих говорах Пермского края как средство выражения представлений о мире и вере
Автор: Подюков Иван Алексеевич
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 1 т.12, 2020 года.
Бесплатный доступ
Исследуются особенности отвлеченной лексики религиозной тематики, зафиксированной в живой речи старообрядческого населения Пермского края. Описывается специфика словообразования народных терминов веры, анализируются их семантические и стилистические качества. Отмечается, что абстрактные номинации религиозного содержания выполняют в культуре старообрядчества интеллектуальную функцию. Устанавливается, что особенность данного пласта лексики заключается в представлении религиозных понятий через отсылку к ритуалу. Поскольку отвлеченная лексика фиксирует абстрактное знание, она лишена эмоциональной окраски, но нередко наполнена религиозно-философским и морально-этическим содержанием, коннотацией книжности. В ее семантике даны характеристики таких понятий веры, как Бог, святость, праведность, соблазн, грех, клевета, обозначено отношение к труду, богатству, стяжательству, обману. Абстрактные номинации представляют собой типичные для старообрядчества способы и формы отправления религиозного культа, связанные с основными этапами человеческой жизни, обрядовые эпизоды (крещение, венчание, смерть, погребение, поминание). Сохранение в говорах развернутой системы абстрактных номинаций понятий веры во многом объясняется религиозной грамотностью старшего поколения носителей традиции, ослабленностью контактов представителей согласий с внешним миром. Демонстрируется системность отвлеченных номинаций, их включенность в словообразовательные модели, существующие в языке для выражения абстрактности. Эта системность обеспечена использованием продуктивных древнерусских и диалектных словообразовательных моделей и словообразовательных формантов со значением «отвлеченное действие, состояние, признак, качество». Делается вывод о том, что отдельные номинации выступают как религиозные концепты, отражающие особенности языкового и когнитивного сознания старообрядцев.
Диалектная речь, старообрядческие говоры, языковое выражение особенностей мировоззрения и этики старообрядцев, словообразовательные и семантические особенности религиозной лексики
Короткий адрес: https://sciup.org/147229680
IDR: 147229680 | УДК: 81’28 | DOI: 10.17072/2073-6681-2020-1-58-67
Текст научной статьи Абстрактное слово в старообрядческих говорах Пермского края как средство выражения представлений о мире и вере
Лексика, связанная с такой специфической формой культуры, как религия, отражает понятия веры. В силу консервативности религиозного сознания, выраженного в типовых догматичных формах, лексике веры свойственна относительная устойчивость (сохранность во времени, архаичность), включенность в выражение религиозных концепций, которые в основном опираются не на объективное знание, а на религиозный опыт, мистику и откровения. Эта часть словаря языка фиксирует результаты познавательной деятельности человека: содержит прояснение религиозных догматов, выражает целостное понимание мира и места в нем человека. Религиозное знание, объективированное в лексике, фразеологии и вербальных текстах, структурировано в религиозной картине мира, мифологически объясняет происхождение, строение и будущее состояние мира.
Религиозная лексика в условиях изменения жесткой антирелигиозной политики все чаще становится предметом внимания лингвистов. Терминологические пласты христианской лексики исследуются Е. Р. Добрушиной [Добрушина 2012], лексико-семантические группы лексики веры описаны И. А. Королевой [Королева 2003], Н. Б. Мечковской [Мечковская 1998], С. В. Феликсовым [Феликсов 2018]. Разработан ряд словарей русской православной лексики (напр.: [Скляревская 2008; Андреева, Баско 2012]). Особое внимание исследователей обращено на христианскую лексику, функционирующую в русской диалектной среде и демонстрирующую адаптацию лексики христианства к условиям народного православия. С. Ю. Дубровина, отметив, что в народных говорах может быть выделено своеобразное «христианское койне», выражающее наивно-религиозную картину мира [Дубровина 2006: 12], исследовала народные названия событий православного календаря, персонажей народной христианской веры, единицы, относящиеся к лексике христианской морали. Ею же показаны разнообразные способы трансформации церковнославянизмов в условиях живой диалектной речи.
В целом же язык религии, особенно применяемый в живой народной речи, остается недостаточно исследованным. Не раскрыто своеобразие многих тематических групп христианской лексики в народных говорах (обозначения конфессий, народные названия богословских книг, церковных праздников, имен святых, средств религиозного этикета), не описана диалектная фразеология религиозного происхождения. Единичны работы, раскрывающие особенности одного из ярких проявлений языка христианства – старооб- рядческой лексики народных говоров. Функционирующая в устной народной среде, эта лексика имеет немало общего и с лексикой православия, и с местными диалектами; одновременно ее отличает книжное начало, связанное с обращением старообрядцев к памятникам древнерусской книжности.
К настоящему времени создан ряд словарей старообрядческих говоров. Это «Словарь говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья», в котором представлены обрядовая лексика, слова религиозно-культурной сферы, названия предметов домашнего обихода, строительная терминология, лексика охотничьего и кедрового промыслов старообрядцев Забайкалья [Юмсунова 1999]. Издание «Диалектный словарь староверов Латгалии» Е. Е. Королёвой, где описана речь староверов-беспоповцев поморского согласия, живущих в юго-восточной части Латвии, раскрывает особенности их духовной культуры [Королева 2017]. О. Н. Паликова и О. Г. Ровнова в «Словаре говора староверов Эстонии» представили употребительные в речи староверов, живших в течение трех столетий в эстонском окружении, диалектные названия старообрядческой одежды, молений, книг [Паликова, Ровнова 2008].
Исследователи отмечают, что в старообрядческой среде постоянно и напряженно (в том числе и в повседневной жизни) обдумываются вопросы смерти, греха и покаяния, искушения, заступничества святых [Смилянская 1998: 53]; конкретика повседневности подчинена обращению к высоким абстракциям и мировоззренческим категориям. Поэтому старообрядческую речь отличает высокая частотность лексики, называющей отвлеченные понятия, свойства, качества, действия и состояния. Многие из этих названий по сути являются терминами: обозначая воспринимаемые мысленно нематериальные понятия, они отражают специальное познание мира, сугубо мировоззренческое знание. Эту особенность старообрядческой культуры хорошо иллюстрирует абстрактная лексика пермского старообрядчества. Пермский край изобиловал местами компактного расселения старообрядцев самых разных течений – старообрядцев белокриницкого, поморского и часовенного согласий, бегунов. Замкнутость их жизни, вызванная религиозными представлениями, религиозная грамотность старшего поколения жителей села, ослабленность контактов с «мирским» населением позволили сохраниться языковой архаике и в том числе религиозной терминологии.
Диалектная лексика с отвлеченной религиозной семантикой образуется разнообразными способами. Это может быть, во-первых, пересеман- тизация общерусского слова. Слово труд как работа, дело, требующее физических усилий, связывается носителями веры и с напряжением сил душевных: Много трудов дают за грехи – молиться. Усть-Уролка, Чердынский район). Моления как труд представляли собой исполнение христианского долга перед Богом и людьми, имели душеспасительный характер. Напряжение, связанное с физическим трудом (своеобразным аналогом молитвы), тоже осмысляется верующими как способ приближения к Создателю, как своеобразный залог спасения человека.
Во-вторых, в говорах отмечены религиозные слова-заимствования. Нравственно-исправительная мера, добровольно исполняемая раскаявшимся в своих поступках верующим, называется эпитимья – от греческого epitimion ‘наказание’ (Эпитимьи назначает наставник или кто может сам налагать. Лысьва). Способом такого наказания может быть длительная молитва, раздача милостыни нищим, пост, паломничество, даже воздержание на некоторое время от выполнения супружеского долга. В говорах содержательная сторона данной духовной кары может варьироваться; причина наложения эпитимьи может быть связана не только с нарушением собственно религиозного канона, но и, например, с родами. Словом эпитимья соответственно могли назвать, в частности, очистительные обряды для родивших, которые также проходили только с участием наставника (ср.: Родишь, тебе только через сорок душа приходит. Молитва читается. Пятенью даст ей или лестовку промолиться или 12 поклонов Богу. Молитву прочитат, ну и всё, очищается, уже чистая будет. До этого дома отдельно ела, воду нельзя было приносить, готовить нельзя, пока ребёнка не окрестят. Когда ребёнка окрестят, груди моешь. Свекровь не брала ребёнка на руки и не целовала, свекор тоже не целовал. Лысьва). Типично для диалектной речи при этом варьирование формы обозначения молитвенного наказания: усвоение иноязычного слова сопровождается отсечением начальной гласной (петенья, петемья), расподоблением гласных и передвижением ударения епитемья: (Грех молиться нам с никонианами. Если я помолилась, надо сказать настоятелю, и он епите-мью наложит. Ну скажет, отмолись двенадцать поклонов или там двадцать «Богородица Дева радуйся. Лысьва). Вероятно, сближением с исконно русскими словами петь, опеть для псевдоэтимологического прояснения термина мотивировано появление формы опетенье (Лестовки, это надо каждый день молиться. Там опетеньё дается. Три лестовки или чё каждый день молиться. Каждый день надо молиться, что заслужил человек за день накопил. Или вот много абортов сделал, вот надо вот за это отвечать. Осинцево, Кишертский район).
Основной состав номинаций абстрактных религиозных понятий представлен производными словами. В словообразовательном плане абстрактная лексика старообрядческой речи демонстрирует активность тех же формантов и словообразовательных моделей, что и диалектная речь в целом (для выражения отвлеченности в говорах обычно используются суффиксы -сть, -ство, -ствие, -ние, -ение [Попова 2006: 160]).
Одна из наиболее частотных моделей образования абстрактных номинаций значимых для старообрядческого мировосприятия понятий представлена словами на -ние (- ение ) со значением «отвлеченное значение действия и состояния». Использование в диалектных лексемах суффикса - ние чрезвычайно активно (по подсчетам В. В. Шаповала, такие слова как самые частотные отмечены среди абстрактных и в древнерусской житийной литературе: около 74 % [Шаповал 1996: 7]). С помощью этого суффикса создано название жалобы, сожаления – воздыхание ( Ни плача, ни печали, ни воздыхания там, на том свете . Лысьва), которое обычно используется как книжное, устаревшее; слово радованье , которым в религиозных контекстах обозначается чувство удовольствия ( У никоньян торопятся поют, поп кадилом тынь-тынь-дынь. Это великий грех. Это не моленье – это бесу ра́дованье . Лысьва). Концептуально значимо для верующего слово спасеньё (встречается и в форме спáсенье ), которое обозначает избавление от гибели, опасности, беды максимально безгрешной жизнью: Тут одна старуха была, она вообще пенсию не получала – шла на спасеньё. Душу спасала, чтобы грехов не было никаких (Осинцево, Кишерт-ский район). Слово выражает идею спасения души через удаление от соблазнов здешнего мира. Прозрачная мотивированность делает его носителем концептуального смысла, средством комментирования мировоззренчески значимого понятия.
Еще одно слово с мировоззренческой семантикой – осуждение, которое означает один из грехов. По мнению верующих, осуждение есть форма ненависти, происходит от недостатка любви к ближним (Осуждать – великий грех. Я не к осуждению, а к рассуждению. Быстро читать нельзя, надо каждое слово выговаривать, каждую букву, чтобы истинно произвести написанное святыми. Лысьва). В выражении не к осуждению, а к рассуждению содержится религиозный призыв помочь человеку избавиться от греха, осуждать не человека, а грех. Модель до- статочно продуктивна, по ней созданы обозначения состояний человека и природы: боление болезнь, дожжание дождь, надвещание предзнаменование (Иду я по борку, волки так и запевают. Потом вроде бы женщина плакала и телега скрипела. Это уж мне было надвещание вперед, в тот год умерло у меня четвёро из родни. Пось-кино, Соликамский район).
Продуктивен тип образования отвлеченных существительных с помощью суффикса -ость : премудрость ( Премудрость Божия – чудеса; не боялся дедушка голой рукой раскаленный уголь взять . Кын, Лысьвенский район), жадость ( Жа-дость нынче людей обуяла . Лысьва), завидость ( Завидость будет большая; отец будет завидовать сыну, сын отцу . Ефремы, Соликамский район), пакость ( Пакость деют, грех творят. Одинцово, Кишертский район). Эти образования связаны с речью старообрядцев в силу того, что в них доминирует морально-этическая характеристика: пакость это не только то, то вызывает отвращение, но еще и злонамеренные дела, жа-дость не только жадность, стремление к наживе, но и неуемное желание вообще, осуждаемое в старообрядчестве как аскетической вере (исторически от жадать ‘ждать, жаждать’; сохраняется в говорах как обозначение сильного, «неуемного» желания). Изначально один из самых продуктивных при образовании отвлеченной лексики суффикс -ость был свойствен только книжным стилям, в современной речи он продуктивен при образовании слов, обозначающих свойства человеческого характера, состояния, социальные характеристики, свойства и качества предметов [Попова 2006: 261–262]. Его активность в диалектной речи показывают образования: глубость ‘глубина’ (Перемское, Добрянский район), дурность ‘безрассудство’ (Харю-шина, Соликамский район), зарность ‘зависть’ (В. Мошево, Соликамский район), знатость ‘весть, известие’ (Малютино, Соликамский район), лёгость ‘легкость’ (Б. Долды, Чердынский район), радийность ‘старание’ ( Можно было учиться, да радийности не было – не выучилась. Тюлькино, Соликамский район).
Еще одна продуктивная словообразовательная модель представлена существительными на -ств(о) . Формируемое ею значение – отвлеченный признак, свойство: позорство ‘оскорбление’ ( Соседка у нас плохая, меня увидит, обзывает всяко. На старости лет и мне позорство такое . Покровское, Нытвенский район), безбожниче-ство ‘неверие в Бога’ ( Безбожничество стало, лоб никто не перекрестит . Фоки, Чайковский район). Способ образования отвлеченных слов с суффиксом -ств(о) также продуктивен в говорах:
бедноство ‘бедность’ (Осокино, Соликамский район), весельство ‘веселье’ (Жуланово, Соликамский район), згальство ‘причинение обиды, издевательство’ ( Девка на згальство наклала мне в котомку-то камни . Толстик, Соликамский район), рабство ‘способность действовать’ ( У меня теперь, девки, совсем уж рабства не осталось, ниче не могу. Ст. Посад, Карагайский район), дурство ‘блажь, сумасбродство’ (Детля-та, Карагайский район), прохвостство ‘способность к обману, подлым поступкам’ (Таман, Усольский район). Процессное значение доминирует в слове мытарство : Когда умрет, если человек не достал царство Божье, и он по мытарствам ходит. Я два раз видела во сне. Где-тось я возле церкви, подхожу, там дядечка сидит, черный. Я говорю: «Скажите пожалуйста, где здесь церковь». Он: «А на что Вам»? Я говорю: «Дак я возле церкви там живу, дак мне охота туда попасть, а не могу. Куда ни пойду, там то сидят, то лежат, все в черном. Куда ни зайду, там комнаты. Это мытарствование. И да, в огне горят мученики, коль заслуживают. А которые только сидят (Сива). С мытарством прежде всего связываются скитания души умершего до сорока дней, в процессе чего происходит очищение от грехов: Лестница будёт. Говорили, сорок ступенек, сорок мытарств. Самое страшное? Да какой-то грех сотворила, то и будет для тебя самое страшное (Пильва, Чер-дынский район); в апокрифической литературе, напр., в «Видении Григорьевом», обычно упоминается двадцать мытарств – лжи, чревоугодия, лености, скупости, блуда и пр.
Среди других способов образования номинаций отметим использование суффикса -от(а), обозначающего отвлеченный признак. Он использован в обозначении святости, высшего божественного совершенства – святота (Тут такая святота была, святой водой брызгали. Всё иконы. Меча, Кишертский район), в представлении ощущения человеком внутренней свободы, приподнятости и духовного подъема – легота (Хорошо телу при постовании, легота. Лысьва; контекст указывает, что речь идет не о физической, а о духовной легкости, ср.: Нынче легота людям-то; всё машины делают: жнут, косят, а раньше всё руками делали. В. Мошево, Соликамский район). Используется у старообрядцев слово кончина в значении ‘конец света’: Кончину-ту, когда вся жизнь покончится, никому нельзя знать, а кто знает, дак тот должен молчать (Тис, Суксунский район); в общем русском языке это значение считается устаревшим и слово обычно используется как высокое, риторическое обозначение смерти кого-л. Слово частотно, по- скольку тема конца света – ведущая в старообрядческих сочинениях; смысл идеи конца света, грядущего апокалипсиса – в очищении земли от грехов человеческих; на этой идее основаны многие бытовые и этические нормы старообрядцев.
Нулевая суффиксация – еще один способ создания лексики, представляющей старообрядческие воззрения на мир. Фиксируемое в говорах слово извол ‘воля, позволение, желание’ обычно связывается с высшими силами, с Богом: Дева Мария, она девушка была, родила Божьим изво-лом. К ней прилетели ангелы Господни и сказали: «Найдет на тебя Святой дух и осенит тебя». Она говорит: «Ну, ладно, по изволу – ладно, пусть так будет (Меча, Кишертский район). Устаревшее обозначение желания имеет книжное происхождение.
По семантике абстрактная старообрядческая лексика представлена несколькими группами. Наиболее разработанными являются обозначения религиозных обрядов, деяний, воспринимаемых как греховные, а также названия специальных обрядовых способов преодоления грехов и наказаний за них.
Названия религиозных обрядов, во-первых, обозначают способ и форму их отправления. Основной способ общения человека с Богом, принесение молитвы, обозначен словом моление (Вот если я с моления приехала на машине домой, знаю, что я напроказничала. Лысьва). Завершение молитвы, содержащее краткое благословение, называется отпýст (После начала отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, Силою Честнаго и Животворящего Креста, и святаго Ангела моего хранителя, и всех ради святых, помилуй и спаси мя грешнаго). Крайне значим в старообрядческой практике обряд благословление, заключающийся в совершении крестного знамения, произнесении слов молитвы и просьбы к Богу оказать покровительство. Необходимость получить благословение (или благословиться самому) сопровождает всю повседневную деятельность: Благословишься на день, как встаешь с постели, Верещагино; Утром-то молишься: «Прости меня грешную Прасковью, рабыню, благослови на весь день господний путешествовать». А вечером – «Благослови на всю ночь спать, душу на спасение, тело на спокой» (Сива); По воду идти – у тяти благословения попросишь, то же хлеб пекчи (Кын, Лысьвенский район). Наиболее торжественно проходит благословение при заключении брака: Иконой благословляли если – уже не разводятся. Всё, закон: «Буде Божеское благословение на рабе Божьей Анне и моё родительское благословение. Отныне и до веку. Отныне и присно и во веки веков. Аминь». Потом икону три раза крестом, и поцелуеm (Лысьва). Человека, который получил благословение наставника исполнять те или иные обряды, называют благословлённый (У староверов на третий день имя дают, поясок одевают. Купают в воде с головой, а чтоб не задохнулся, закрывают ладонью лицо. Крестят – есть старшие люди, старушка у нас крестит, благословленная считается. Меча, Кишертский район; Омывает умершего только благословлённый, мужчину – мужчина, женщину – женщина. Лысьва).
Последовательность молитв, которыми старообрядцы начинают и заканчивают богослужение, называется начáл : Начал бывает большой, бывает малый. После начала ты святым помолишься, потом ты молись, что желаешь. Сегодня, допустим, четверг, Святителю Николе можно молиться. Молись канун Святителю Николе. Потом можно сразу, можно потом епитимью, которая тебе наложена. Если ты сегодня не помолился, ты завтра в удвоенном размере будешь молиться. Обязательно утром нача́л. Без начала за порог не выходи (Лысьва). Словом начал в расширительном смысле может быть назван также переход верующего к активному участию в соборной жизни ( Годам к пятидесяти кто богобоязненный вступает в собор, кладет начал . Сепыч, Верещагинский район). Связанное со словом начало, это название моления наполнено философским смыслом, обозначает обращение к тому, что для верующего существует изначально, лежит в основании бытия мира, «определяет основные принципы существования всего сущего» [Андреева 2016: 66]. Термин в связи с этим получает концептуальный, разъяснительный смысл.
При крещении в старую веру используется установленный порядок (чин) отречения от ересей, от сатаны – отрицание ( Муж у меня был никоньянин, ему отрицание прочитали и потом нас сбра́чили. Чтобы в веру-то нашу его привести . Лысьва); переходящий в новую веру проклинает бывшие ереси ( Перекрещивать надо было до брачиванья. Такая купель была, в ней. Над водой полили три раза с молитвой. «Во имя Отца, Сына и Святого Духа» – и всё, и ты в вере уже . Боровчата, Кишертский район).
Обряд погружение используется у старообрядцев как способ крещения: Погружением крестили, бабушка погружает в святой воде, как батюшко крестит. Церквы не было у нас, дак погружала кака-нибудь знаюшша старушка. А потом этого ребенка, говорят, уж боле не крестят. Он погруженный (Бым, Кунгурский район). Обычно используется крещение трое- кратным погружением, оно осмыслено (в отличие от поливательного крещения у православных) как символическая смерть Христова и Его тридневное воскресение.
Обряд браченье (также брачиванье ) использовался как освящение брака и соответствовал венчанию в церкви у мирских. Сначала в доме невесты, а потом в доме жениха молодых благословляли родители (жениха «Распятьем», невесту иконой «Богородица»; нередко также крестили караваем хлеба); руководил всем наставник. На специфику свадебного обряда у старообрядцев указывает термин отдáнье : Отданьё свадьбе было, на третий день всё это было – невеста к матерé ехала (Андреево, Кишертский район). «Слово отдание (отдача, возвращение) используется и в православном, и старообрядческом обрядовом обиходе, обозначая последний день празднования многодневного религиозного праздника: Отдание Пасхи, Отдание Рождества Христова и пр. В основном в Прикамье у старообрядцев эпизоды свадьбы соответствовали традиционному обряду, исполняемому и православными: сговор, смотрины, рукобитье, пропой, дары, благословение . В то же время разные этапы свадьбы старообрядцев сопровождали моленья; до минимума был сведен банный ритуал (проходил без причетов), на свадебных посиделках принято было пение духовных стихов. Венчание заменял в ряде случаев обряд расплетания косы невесты (нередко проводились свадьбы «убегом», также не предполагающие церковного венчания). Термин отдание , вводя тему богослужения, подчеркивает близость свадебного обряда к священнодействию.
Термины, обозначающие эпизоды похоронного обряда, касаются молений, соборования с помазанием тела освященным елеем, с чтением семикратной, т. е. повторявшейся семь раз, молитвы на оставление тех грехов, о которых человек забыл сказать на исповеди, обмывания умершего перед обряжением и положением в гроб ( Обмыванье начинашь, миску перекрестишь, в воду крест кладешь, молитву читашь. «Восподи прости меня грешную, восподи, святая ты Богородица, святой ты Никола, спаси и сохрани», раза три так повторишь . Калинино, Кунгурский район). Термином погрéбение называется чин погребения умершего, а также главная для обряда поминальная молитва ( Погрéбение тут другая книга, кто исповедовался. А мою сестру не погребением, молебным только молилися. Сива).
Поминание умершего проводится в третины, девятины, полусорочины, сорочины, полугодины, годины. Основным смыслом моления по умершему является прощание с ним в этом мире, приветствие души умершего ангелами и предками (таково назначение Литии, богослужения в поминальные дни с особо «усердной» молитвой), забота о пребывании души в ином мире. Устраиваемый в поминки обед воспринимается как совместная трапеза живых, умерших и принимающих их души ангелов. Знаменующий прощание с умершим обряд поминанье (реже поминье) проводится нередко перед отправлением на кладбище (Поминанье – обед, потом уже вынос, у нас при покойнике обедают». Пильва, Чердын-ский район), хотя чаще приглашают отобедать после захоронения. В пермских говорах зафиксирован любопытный термин, обозначающий локальный вариант поминания у старообрядцев. Сочетание птичкино поминанье используется для обозначения «угощения» птиц на кладбище: На кладбище только птичкино поминанье. Старообрядцы на кладбище ничего не носят, кроме крупы, крупой посыпают могилу, говорят: «Помяните, птички. Усть-Уролка, Чердынский район. Устраиваемые на могилах обеды в поминальные дни старообрядцы обычно считают язычеством, но принимают древнее обрядовое кормление птиц, связанное с отождествлением их с умершими (см.: [Алексеевский 2008]). Стоит также отметить, что в обряде задействовано зерно, традиционный символ обрядов переходности (как знак воскресения души, встречается во многих христианских текстах, в том числе в Библии: Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. Евангелие от Иоанна).
Жизнь в грехе, греховные деяния человека обозначаются абстрактными номинациями типа злопомнение ( Есть у кого злопомнение , кто на человека зло имат, у него огнь изо рта выходит . Лысьва); слово находится в общем ряду с другими церковнославянскими обозначениями «концентрации» зла типа злопоминание, зломышле-ние, злорадение, злоразумие, злоречие . Таково и обозначение праздности нечеделие ( От нечеде-лия хожу в клуб, грешно . Обвинск, Карагайский район), непристойной речи срамословие (в общем употреблении оценивается как книжное, устаревшее), жизни в пустой суете кулемесие (Одинцово, Кишертский район – от диалектного кулемесить ‘беспорядочно делать что-л.’, ср. устаревшее кулемесия, кулемесица о суматохе, суетне; в поговорке Пошла кулемеса – не от добра, а от беса ).
Название клеветы извет (Наложили на нее извет, а она вовсе невиноватая. Григорьевское, Нытвенский район) представляет наговор и клевету как грех; название обольщения словом пре- лесть (Жадость нынче людей обуяла. Деньги – это же всё прелесть. Лысьва) обозначает греховный соблазн, то, что прельщает, раздражает чувства и страсти. Специфичное обозначение совершенных человеком грехов железная сковка (от сковать) мотивировано переносным значением глагола сковать ‘лишить свободы действий’: В поминки с умершего снимают железную сковку молитвами. На третий, девятый, сороковой день молитвы пели (Юм, Юрлинский район). Чтение поминальных молитв призвано поддержать душу усопшего, высказать Святой Троице мольбу о помиловании и прощении грехов. В религиозных текстах тема кования, которой символически обозначена не только неподвижность и бесчувственность, но и греховность, встречается достаточно часто: Грех сковал человеческие сердца, привел лютую зиму в души людей; Грех сковал мне очи… (Луценко С., христианская песня «Каюсь»), Грех сковал язык и тело (Бондаренко Л., стих «Бог верен»). Усугубляет аналогию кования и греха народное восприятие кузнецов: в традиции они часто считались колдунами, связанными с дьяволом, с темными силами (отсюда, вероятно, и название вредного замысла ков, родство названия тайных злых умыслов козни и слова кузнец).
Один из грехов у старообрядцев – общение с мирскими, не старообрядцами, которые носителями старой веры оценивались как отступившие от Христа. Грехом считался брак с православным, совместная с ним трапеза, участие в православных обрядах (Это называлось миршение – что вот де живу с мирским. Это я обмиршила-ся, дескать, согрешила, что вышла в другую веру. Осинцево, Кишертский район). Сходный смысл выражает слово помешка, обозначая результат контакта с иноверцем (От помешки посуду с молитвой надо вымыть. Торговище, Суксунский район; Считай, я в помешке, измиршил-ся, если с никонианином поел. Кын, Лысьвенский район). Греховный соблазн и связанное с ним заблуждение человека представляет слово смущение (На всех на вас смущение давно уже нашло. Лысьва); в древнерусском языке значение ‘соблазн’ было периферийным [Срезневский 1893: 754]. В староверческих говорах фиксируется деформация слова: в значении ‘вводить человека в заблуждение’ используется выражение наводить на сомус (Ты давай меня на сомус-то не наводи, Средний Урал; не без влияния общедиалектного сомустить ‘смутить’). Как название нравственной нечистоты, порока используется в говорах слово скверна (Мы брак в скверну не вменяем. Моховляне, Лысьвенский район). Об укорененности слова в системе говора говорит образованное от него прилагательное скверую-щий, которое характеризует человека, общающегося с нечистой силой: «Сейчас и молодые портят, колдуют, молодой народ очень скверую-щий» (Пянтег, Чердынский район).
Обозначены в терминах обряды исправления греха. Добровольное признание в совершенном проступке, в ошибке – один из обязательных для каждого дня обрядов – покаяние ( Каяться необходимо каждый день и именно чистосердечно. Вот Господь-то зачем и народился. Чтоб мы каялись каждый день: «Господи, прости меня грешную, велико согрешила я . Култаево, Пермский район). Важным в традиции старообрядчества является понятие исправления, исправы (реже справы ) – очищения молитвой, исповедью, исполнением ритуала: Исправился перед смертью, у настоятеля покаялся (Верещагино); Духовник идет прощать, исправу читать, кто заболеет (Сива); Когда исправу прочиташь, испо-ведашься, потом ведь из особой посудины есть надо. Попы-те не исправляют, махают по лицу руками. На лице своем. И тому маханию беси радуются (Сепыч, Верещагинский район). Отношение к «исправленному» и «неисправленному» различалось при предании его земле: А для тех, кто успел справиться, сорок дней каждый день молимся, как сорок дней пройдет – каждую субботу (Сепыч, Верещагинский район). Широко распространено очищение святой водой и молитвой от скорбей и недугов больных, от бедствий, для очищения оскверненной мирянином посуды. Обычно использовалась спасовая вода, вода малого освящения, взятая на водоосвящении в Первый Спас.
Как название процедуры изгнания из человека бесовской силы фиксируется в говорах слово извод (из глагола изводить ‘истреблять’; в живой повседневной речи используется в значении ‘траты, расходование’): Ещё до войны, когда церкви не были разрушены, священники молились над Фотиньей, выводили икотку. Это извод. А бес тогда кричал: «В пятках осталось место, в пятках!» Не вывели (Верещагино). Избавление от лукавого беса (в православии отчитка ) совершается чтением молитв (описание изгнания « от человек бесы » силой Божией приводит протопоп Аввакум в своем «Житии»).
Абстрактные номинации религиозного содержания выполняют в культуре старообрядчества интеллектуальную функцию. Многие понятия представлены в них опосредованно, через ритуал, через отсылку к обрядовому действию. В их семантике оказываются совмещены культурно-обрядовая (внешняя, материальная) и собственно духовная стороны христианского веро- исповедания. Будучи фиксацией абстрактного знания, они лишены эмоциональной окраски, но нередко наполнены религиозно-философским и морально-этическим содержанием и коннотацией книжности. Отдельные номинации этого круга выступают как религиозные концепты, отражающие особенности языкового и когнитивного сознания старообрядцев.
Системность отвлеченных номинаций веры проявляется в существовании ряда тематических группировок а также в их моделируемости. Являясь в основном производными, абстрактные термины в говорах выступают не как стихийно сложившаяся совокупность специальных единиц, а как порождение ряда словообразовательных моделей, существующих в языке для выражения абстрактности.
SPIN-code: 8516-2258
ResearcherID: T-5603-2019
Submitted 27.11.2019
Список литературы Абстрактное слово в старообрядческих говорах Пермского края как средство выражения представлений о мире и вере
- Алексеевский М. Д. Покойник как символический участник крестьянской поминальной трапезы // Проблемы изучения фольклора и русской духовной культуры: материалы межвуз. науч. конф. 31 мая - 2 июня 2007 г. Орел, 2008. С.28-34.
- Андреева И. В., Баско Н. В. Словарь православной лексики в русской литературе XIX-XX вв. М.: АСТ-ПРЕСС, 2012. 266 с.
- Андреева О.С. Этимологический анализ категории «начало» // Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история: сб. ст. по материалам LXII-LXIII междунар. науч.-практ. конф. № 6-7(57). Ч. I. Новосибирск: СибАК, 2016. С. 61-68.
- Архимандрит Палладий. Обозрение пермского раскола так называемого старообрядства, составленное А. П. 116. СПб., 1863. 215 с.
- Добрушина Е. Р. Словарь христианской лексики: состав словника // Вестник ПСТГУ III: Филология. 2012. Вып. 3(29). С. 105-113.
- Дубровина С. Ю. Христианская лексика в диалектах русского языка. АДД. Тамбов: Тамбовский гос. университет им. Г. Р. Державина, 2006. 48 с.
- Королёва Е. Е. Диалектный словарь староверов Латгалии. Т. 1 (А-В). Рига: Институт Старо-верия Латвии, 2017. 560 с.
- Королева И. А. Православная сакрально-богослужебная лексика в современном русском языке и в художественном тексте: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2003. 28 с.
- Мечковская Н. Б. Язык и религия. М.: Изд. дом Агентство «Фаир», 1998. 352 с.
- Паликова О. Н., Ровнова О. Г. Словарь говора староверов Эстонии. Тарту: Общество культуры и развития староверов Эстонии, 2008. 160 с.
- Попова Т. Н. Словообразовательная семантика имен на -ость в русском диалектном словопроизводстве // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2006. № 1. C.260-267.
- Скляревская Г. Н. Словарь православной церковной культуры. М.: АСТ: Астрель, 2008. 480 с.
- Словарь говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья / ред. Т. Б. Юмсунова. Новосибирск: СО РАН, 1999. 540 с.
- Смилянская Е. Б. Микрокосмос верхокамско-го старообрядца на исходе XX века // Старообрядческая культура Русского Севера: тез. докл. и сообщ. Каргопольской науч. конф. / науч. ред. и сост. Н. И. Решетников. М.; Каргополь, 1998. С.53-56.
- Срезневский И. И. Материалы для Словаря древнерусского языка. СПб., 1893. Т. 3. 994 с.
- Феликсов С. В. Семантический аспект лингвистического описания лексики православного вероучения в церковнославянском языке // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2018. Т. 9. № 2. С. 335-350.
- Шаповал В. В. Семантика и функционирование суффиксальных отвлеченных существительных в произведениях русской житийной литературы XII-XV вв.: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М.: МПГУ им. В. И. Ленина, 1996. 16 с.