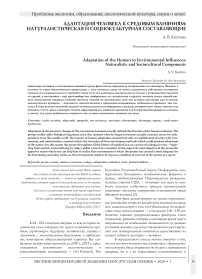Адаптация человека к средовым влияниям: натуралистическая и социокультурная составляющие
Автор: Костина А.В.
Журнал: Вестник Международной академии наук (Русская секция) @vestnik-rsias
Рубрика: Проблемы экологии, образования, экологической культуры, науки о земле
Статья в выпуске: 1, 2020 года.
Бесплатный доступ
Адаптация человека к изменениям внешней среды фактически определила направление его эволюции. Человек, в отличие от иных биологических организмов, с того момента, когда он начал становиться собственно человеком, стремился к независимости от внешнего мира. Суть его адаптации заключалась не только в установлении единства со средой, а постоянное с ней противоборство, изобретение тех механизмов и орудий, которые могли способствовать подчинению природы. Именно поэтому человек на протяжении всей его истории выступает как источник экологических кризисов - начиная от неолитического и продолжая сегодняшним глобальным кризисом эко - системы. В этом аспекте основной задачей человека видится его обращение к разуму, который один может помочь ему осознать, что та среда, в которой человек сформировался, наиболее адекватна для его функционирования и сегодня, а значит, эту среду необходимо сохранить как условие выживания человека как вида.
Человек, общество, природа, эко - система, экология, адаптация, эволюция, кризис, глобальные проблемы
Короткий адрес: https://sciup.org/143171889
IDR: 143171889
Текст научной статьи Адаптация человека к средовым влияниям: натуралистическая и социокультурная составляющие
В XX–XXI столетиях впервые за всю историю человечества стало очевидно, что одна из главнейших проблем, угрожающих будущему человечества, связана с экологией, с экологическими бедствиями и проблемами, имеющими общепланетарный характер. Все глобальные независимые прогнозы до 2050 г., 2035 г., представленных различными аналитическими и консалтинговыми компаниями — Citi Research, The
Economist, PricewaterhouseCoopers, Оксфордским университетом, Всемирным экономическим форумом в Давосе, опубликованным Национальным разведывательным советом США, — отмечают как один из наиболее опасных глобальных трендов стремительное ухудшение экологии, разрушение естественной среды обитания человека [2] .
Этот факт демонстрирует не только стремительное увеличение скорости воздействия человека на среду, но и свидетельствует о том, что губительным это воздействие стало совсем недавно — в последние 100–150 лет. Конечно, главным разрушительным фактором стали технологии, развитие которых в настоящее время идет в направлении их наибольшей автономности от целевых установок человека, где искусственный интеллект выступает как потенциальный заменитель единственного на сегодня субъекта культуры — человека.
В определенном смысле можно говорить о том, что вся история человечества, начавшаяся с формирования культуры, была сопряжена не только с завоеванием природы, но и с ее агрессивным использованием и уничтожением. Ведь адаптация человека к окружающему миру осуществлялась в самых разных вариантах — пассивном (исключительно приспособительном) и активном (преобразующим, создающим, уничтожающим). Это позволяет выделить в человеческой истории несколько периодов, когда доминировал совершенно определенный тип адаптации.
Понятие адаптации было впервые использовано в 1865 г. Г. Аубертом. Термин применялся в рамках физиологии и биологии и определял трансформации, связанные с приспособлением биологических систем к внешним воздействиям. В ситуации интегративности наук и междисциплинарности данное понятие стало общенаучным, а сам термин «адаптация» стал в большей степени востребованным не в биологии, а в гуманитарных науках, где был выделен особый вид адаптации — социальной, определяющей процесс приспособления как универсальный, в его отличие от специфического приспособления, характерного для биосистем. Именно этот фактор, как отмечают исследователи, позволяет отнести человеческое общество к особому классу «универсальных адаптивно-адаптирующих систем».
Человек как часть природы.
Достижение интегрированности в природную среду как содержание адаптации
Именно в этом понимании адаптация была присуща человеку периода раннего культурогенеза — ситуации, когда можно говорить только лишь о протокультуре. В этот период отдельные, не систематические прорывы от животных форм поведения первых гоминид к культурным, никак не фиксировались в их сознании и осознанно не воспроизводились. При этом «трансформация витальной энергии предков человека в энергию культурных практик едва только намечалась», а сами гоминиды в большей степени напоминали не людей, а «животных с испорченными инстинктами» [15]. Принципиально важной особенностью данной стадии развития человека было доминирование правополушарных когнитивных техник, что определило все духовное развитие человека и общества на данном этапе, где мифоритуальные комплексы были направлены на гармонизацию не только отношений человека и природы, но и на процесс гармонизации правополушарных и левополушарных каналов (при доминировании первых), направленных на реализацию когнитивных техник.
Содержание адаптации в данный период человеческой истории, начавшийся примерно 5–6 млн лет назад и продолжавшийся 2,5–3,5 млн лет, составляет ее направленность не просто на приспособление к природным условиям, а на достижение состояния интегрированности с ними.
На следующем этапе развития, когда ранние гоминиды и архантропы уступают место ранним палеоантропам, в системе биологической и культурной эво- люции начинают отчетливо проявляться признаки рассогласования при доминировании все же природного влияния. Тем не менее, именно в это время зарождается то, что станет основой культуры на протяжении огромного периода ее развития — сначала единственной основой, а на сегодняшний день — одной из существенных. Это качество было связано с формированием примерно 2,5 млн лет назад способности воспроизводства образца — сначала технологического (идеальный пример — ашельские рубила), а затем — духовного (мифологические представления и обрядовая деятельность), что означало установление каналов не внутриприрод-ной коммуникации, а надприродной — социальной.
Это умение намеренно воспроизводить образцы стало основой традиционности — того каркаса культуры, который выступает в качестве ее основы вплоть до сегодняшнего времени. Сохранение и трансляция коллективного опыта становится на этом этапе, а особенно явно — в рамках поздней палеокультуры в сообществах палеоантропов (неандертальцев) и ранних сапиенсов — основой функцией адаптации, становящейся инструментом саморазвития, самосохранения общественной жизни.
Традиционность стала на тысячелетия той опорой, которая никогда не подводила человека — преце-дентность, опыт, психологический комфорт — все это было связано с традицией. Более того, общество выработало целый арсенал средств, которые препятствовали введению инноваций, начиная от запретов и табу и завершая предписаниями и прескрипциями. Наиболее жесткие из них были связаны с базовыми сферами жизни человека — продолжением рода, удовлетворением голода, защитой от природных воздействий в виде стихий и хищных животных и от агрессивных соседних племен. Эти предписания выполняли роль границы между дозволенным и не дозволенным, между усвоенным и не усвоенным, между природой и культурой. Эта идея З. Фрейда, осмысленная им в работе «Тотем и табу», фактически выступает как идея зарождения культуры.
Умение намеренно воспроизводить образцы орудий и действий превратили 1,6 млн лет назад представителя рода Homo — Homo habilis (человека умелого) — в Homo erectus (человека прямоходящего), а 400–100 тыс. лет назад — в Homo sapiens (человека разумного, который уже мог пользоваться огнем и хоронил умерших). Для человека этого периода была характерна активная символическая деятельность, что определялось стремительным развитием левополушарной когнитивности [12], приводящей к болезненным дисфункциям мозга, о чем «свидетельствуют прецеденты ритуальной трепанации черепов» [15].
При этом человек не только выделился из природы, он создал те инструменты противодействия опасности, которыми окружающие его хищники, занимающие (нужно отметить — временно) верхние уровни пищевой цепи, были наделены самой природой. Он создал орудия, уравнивающие его с естественными про- тивниками. И с этого момента фактически начинается новый этап соотношения природы и культуры, где культура начинает отвоевывать у природы все более и более существенные функциональные комплексы. Активное взаимодействие с природой в виде охоты постепенно превращается не просто в интенсивное на нее воздействие, но в хищническое использование. К концу палеолита человеком были истреблены многие крупные животные и даже мамонты, черепа и бивни которых служили каркасами жилищ древних охотников1. Причем, охота на мамонтов была весьма распространенным занятием древних людей, о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки, в числе которых такой экспонат Кунсткамеры, как ребро мамонта со стоянки Костенки 1 с наконечником из кремня, застрявшим в нем [23].
Содержанием адаптации в период, завершившийся формированием человека разумного, было такое взаимодействие с природой, с которой человек ощущал, с одной стороны, родственную связь, что отразилось и в его мифологических представлениях и религиозных верованиях — тотемизме, демонизме, анимизме, с другой стороны, осознавал свое право пользоваться ее благами. Это свое право человек «обеспечивал» не только физически, но и символически — множеством обрядов и ритуалов, снимающих запреты, табу, раздвигающих границы между природой и обществом. Главным вектором адаптации, направленной на взаимодействие человека и общества, остается ее нацеленность на воспроизводство прецедентов и традицию.
Однако заданные традицией границы культура стремится все время расширить или — в пределе — разрушить. Ориентация на простое воспроизводство губит культуру — она превращается в застывшую форму без содержания, способствующую не адаптации человека к окружающему миру, а дезадаптации, вплоть до прекращения существования системы.
Выделение человека из природы: неолитическая революция.
Формирование парадоксального поведения как механизм адаптации
Такая ситуация, потребовавшая отказа от прецедентного поведения, сложилась именно в рамках системы «человек — природа». Активное воздействие человека на природную среду привело к голоду и резкому сокращению численности человечества — от нескольких миллионов до нескольких сотен тысяч. Этот экологический кризис был, пожалуй, первым в истории человечества. И он включил новые адаптационные механизмы человека, заставив его перейти к иному способу взаимодействия с природой — от охоты — к земледелию и животноводству, что стало основой неолитичес- кой или аграрной революции. Этот шаг носит поистине революционный характер. Он потребовал от древнего человека: во-первых, нарушить привычный образ жизни, то есть традицию, что само по себе было фактором стрессогенным, увеличивающим возможность возникновение ситуаций непредсказуемых; во-вторых сознательно пойти на ухудшение условий жизни, связанных с тяжелым трудом, скученностью, новыми способами устройства поселений, изменением обмена веществ в результате перехода от белковой пищи к углеводной, появлением инфекций в результате мутации вирусов животных, перешедших к человеку, наконец, значительном сокращении продолжительности жизни.
Однако этот шаг — очевидно, не очень эффективный с точки зрения природы, был шагом человека в полной мере культурного, то есть, живущего по законам не только природы (в том числе, его собственной), но и культуры. Наиболее ярким проявлением этой культурности было формирование у человека парадоксального поведения, то есть, поведения, обладающего противоречивостью. Одной из загадок неолитической революции стал вопрос о том, как человек смог понять, что нужно закапывать зерно, чтобы получить урожай — ведь в рамках короткой временной дистанции этот шаг равносилен его истреблению. Решение засевать землю и было фактически парадоксальным решением, решением человека не природы, а культуры.
Конечно, многие ученые [13] предполагают, что опыт получения урожая уже имелся в арсенале средств человека, но он был не востребован в повседневной жизни, как носящий сакральный характер. Предполагается, что зерно закапывали в землю в качестве жертвоприношения. Божественный «ответ» на дар человека в виде щедрых всходов никогда ранее не воспринимался в утилитарном плане — божество умирает, чтобы воскреснуть — так было у всех народов [20] — и сохранилось в достаточно поздний период в образах Осириса, Адониса, Диониса, Персефоны, Таммуза, и, конечно, в рамках Христианства в образе Христа.
Таким образом, адаптация в период формирования производящего хозяйства начинает носить характер поиска тех чисто культурных механизмов, которые могут помочь его выживанию в условиях кризиса. И поиск этих механизмов осуществляется самыми разными способами — 1) отбором действий, имеющихся в опыте, но наделение их при этом новыми функциями — как в ситуации в земледелием; 2) формированием — причем, не имеющим целевой причины, форм избыточного разнообразия, рожденных культурой и существующих до их востребования на периферии ареала культуры; 3) методом проб и ошибок, не очень эффективным с точки зрения скорости его нахождения, но зато достаточно последовательным и надежным в плане реализации.
Этот постепенный и медленный способ перебора, проб и ошибок многие ученые считают основанием эволюции человека в результате его постепенного приспособления к изменяющимся условиям, результатом которой выступает комбинация тех качеств, которые благоприятствуют лучшей или даже оптимальной адаптации системы к условиям среды — биологической или социальной [4]. Социальные же системы сохраняют эту информацию при помощи «коллективной памяти» [7].
Дискуссия об эффективности, либо не эффективности адаптации как случайном отборе наиболее перспективных с точки зрения развития человечества систем, была развернута еще в 1960-е годы — и это не случайно, именно тогда вызревали первые открытия в рамках синергетической теории. По мнению специалиста по кибернетике и исследованию сложных систем У.Р. Эшби, в методе проб и ошибок «можно видеть просто попытку достижения цели; когда цель не достигается, эффективность его мы оцениваем цифрой 0. С такой точки зрения это лишь «второсортный» способ достижения цели». Однако ученый показывает, что такой способ является чрезвычайно эффективным, так как «он может играть неоценимую роль в получении информации, абсолютно необходимой для успешной адаптации. Именно поэтому процесс проб и ошибок обязательно должен быть использован (организмом) при адаптации» [25].
Одним из примеров формирования у человека механизма, который мог бы выступить в качестве его конкурентного преимущества, стала около 100 тыс. лет назад мутация седьмого гена, связанного с центрами речевой активности (поле Брока). Коррекция голосового аппарата, гортани, основания черепа явились основанием для формирования языка, который, однако, выполнял достаточно продолжительное время по-прежнему природносигнальные функции, в то время как его семантическая функция оказывалась не востребованной. Она была востребована лишь тогда, когда была ослаблена природная сигнальная суггестивность, инкорпорированная языком и ставшая составляющей формируемых архаическим сознанием семантических уровней. По аналогии можно сказать, что развитие речи у ребенка на начальных стадиях его развития не становится его конкурентным преимуществом в биологическом плане, и лишь позже превращается в орудие постижения действительности.
Эти примеры доказывают, что общественное развитие — процесс отнюдь не линейный, а развитие культуры не всегда возможно предсказать или рационально объяснить. Культура как саморазвивающаяся система все время порождает новые формы — в виде социальных, технических, художественных, религиозных открытий, — которые принимаются только в том случае, если оказываются соответствующими потребностям именно данного периода ее развития. Такая культурная избыточность выступает как механизм адаптации, где новые формы, однажды найденные, в снятом варианте продолжают присутствовать в культуре, находя приме- нение только в более поздние периоды развития. Такими оказались многочисленные технические открытия в Древней Греции, изобретения Леонардо да Винчи, точно так же — религиозные реформы — к примеру, Аменхотепа IV, обратившегося от политеизма фактически к монотеизму. Таким же было изобретение в XI в. печатного станка в Китае, не ставшего основой революционных социальных и технологических преобразований, хотя его более поздний аналог со сменными литерами выступил в качестве «революции Гуттенберга».
Все это свидетельствует об отсутствии всеобщности стратегий адаптации у всех человеческих сообществ в тот или иной период — ведь не все они пережили неолитическую революцию, не все перешли в неолит. Конечно, укрупнение сообществ было необходимо при переходе к неолиту, но простое суммирование племен и их сакральных центров не давало нового качества. Оно было рождено в соответствии с принципиально новой формой объединения племен вокруг раннего храмового комплекса, ставшего смысловой осью протогородских поселений, что породило иерархизированную социальную структуру, где принципом упорядочивания и профанного и сакрального пространства стало подчинение храмовому центру.
Принципиально важным для эпохи неолита стал отказ от того, что было неотъемлемой составляющей архаической культуры и было табуировано ей — от расширения «культурного ресурса — демографического, продовольственного, технологического, информационного,... мифосемантического» [15]. Одним из ярких примеров подобного самоограничения эпохи архаики является обряд потлача, впервые описанный в исследованиях о североамериканских индейцах Франца Боасса и ярко представленный в книге Марселя Мосса «Опыт о дарении», вышедшей в свет в начале 1920-х гг. и осуществившей своеобразную революцию в социологии, политэкономии и философии. Потлатч — праздник, структурирующийся вокруг состязания в богатстве и расточительстве посредством траты имущества — дарения подарков, демонстративного истребления вещей и принесения в жертву рабов. Смысл праздника — принуждение оппонента — рода или его представителя — к ответным тратам, более расточительным, при которых вещи либо уничтожаются, либо обращаются, прихотливым образом меняя владельцев.
Традиция и ее преодоление в рамках социокультурной адаптации: от ранних цивилизаций — к Средневековью
Исторический момент, связанный с формированием первых цивилизаций, ставит принципиально важный вопрос относительно: а) универсальности эволюции, б) верности и универсальности понятия модернизации, в) причин существования во все эпохи разных народов, пошедших в свое время разными эво- люционными путями, стремясь сохранить в своей истории то, что они считали наиболее ценным.
Именно избирательность эволюции в отношении народов, часть из которых перешагнула порог неолитической революции, другая — нет, позволяет ставить вопрос и о причинах, приведших человечество к неолитической революции. Как показывает история, форма цивилизации не стала единственной в истории человечества на постнеолитической стадии его развития. Возможно, здесь содержанием адаптации становились не материальные основания, а духовные.
В качестве такой причины, скорее всего, выступают новые ориентиры культуры — на творческую личность, изменяющую традицию и способную создавать прецеденты. Ориентация на прецедент в качестве адаптивной стратегии обладает большими преимуществами, однако она препятствует развитию. Воспроизводство многократно апробированных форм культура как адаптационная система преодолевает посредством формирования механизма ориентации (А. Тойнби обозначает его как «мимесис» — имитацию, воспроизводство) на творческих личностей, способных преодолеть границу традиционности. Британский философ убежден, что только изменение «мимесиса», а не технологические или социальные революции, приводят в прогрессу — они становятся лишь теми формами, которые избирает цивилизация для смены вектора своего развития.
В ранних цивилизациях формируется то качество социокультурных систем, которое связано со специализацией и активизацией субъектно-личностного начала. Конечно, говорить о личности применительно к этому периоду развития человечества в полном смысле этого слова мы не можем — человечество должно пройти еще немалый путь до эпохи позднего Средневековья, когда этот феномен будет проявлен в полной мере и в полном наборе своих качеств. Однако социальное расслоение и появление первых выдающихся людей — полководцев, архитекторов, и прежде всего, царствующих особ, — позволяет говорить о наличии у них безусловных качеств субъектности, почему они и вошли в историю.
Усиление субъектного начала в культуре и приводит к переходу человечества от эколого-генетического периода его развития к цивилизационному, к ориентации не только на репродукцию, воспроизводство, но и на производство — то есть, на инновацию. Управление такими сложными социальными системами, как цивилизация, потребовало не только специализации знаний и выделения из синкретичной культуры, но и особых способов трансляции информации, связанных с возможностью отчуждения информации в знаковую форму, ее накоплению, осмыслению и умножению, то есть, возникновения письменности. Этот процесс был в значительной степени обусловлен интенсивным разви- тием левополушарной когнитивности и уменьшением активности интуитивно-образного правополушарного познания действительности. Следствием этого становится выделение таких специализированных форм культуры, как наука, религия, идеология, искусство, право, которые стали целенаправленно выполнять функции развития, ускорили темп операций контроля и привели к постепенному отказу от позитивного восприятия традиции [9].
Все революционные изменения, связанные с переходом человечества на стадию развития, связанную с появлением первых цивилизаций, свидетельствуют о том, что характер адаптации человека к средовым влияниям, существенно изменяется. Его приспособительные механизмы направлены в большей степени на адаптацию не к природным изменениям, а к социокультурным. Конечно, человек ранних цивилизаций активно взаимодействует с природой, но он от нее не «спасается», а развивает ее, используя в своих целях. Да, конечно, природа не перестает обожествляться, но она получает наряду с зооморфным и антропоморфный облик, а культура начинает все в большей степени выступать в качестве особого адаптивного механизма, выполняющего негэнтропийную [6], т.е. упорядочивающую, организующую функцию, где «адаптивная функция выражает общую стратегию жизни, а негэнтропийная служит осуществлению этой стратегии» [11].
Самым существенным изменением, которое произошло в культуре этого периода — это изменение ее функциональности. Архаическая культура на эколого-генетической стадии своего развития выступала как синкретическая система, выполняющая адаптивную, транслирующую, символико-семиотическую, регулятивную функции. Эти функции фактически обеспечивали информационно-технологическое развитие системы и ее социальную стабилизацию, то есть, сочетание традиционно-репродуцирующего механизма, безусловно доминирующего, и творчески-инновативного. Это придавало системе устойчивость и стабильность.
Однако на стадии цивилизации равновесие этих двух конфигураций начинает ослабевать, а их соотношение — изменяться. Традиционный пласт продолжает выполнять свою функцию, сдерживая развитие2 и стабилизируя систему, а инновативный — расшатывает ее, заставляя находить новые формы адаптации и новые «ответы» на «вызовы» времени. Эту двойственность культуры Э. С. Маркарян трактовал как ее «технологичность», как способность формировать новые механизмы приспособительно-преобразовательной деятельности, сочетающей способность к стереотипному воспроизводству и творчеству, как способность выступать «в качестве особого, надбиологического по своей природе, антиэнтропийного и адаптивного механизма общества» [10]. Иными словами, не только традиционность культуры выступает как ее адаптивное свойство, но и инновативность, позволяющая человеку гибко приспосабливаться к изменениям среды, а социальным системам переходить «от неопределенности к гетерогенности» [14]. Здесь и проявляется свобода человека, который способен опираться не только на генетически наследуемые, то есть, природные способы адаптации, но и на культурные, обретаемые в процессе определения своего целеполагания.
Фактически с времени появления первых цивилизаций адаптационные механизмы человека направлены не в сторону природы, а в сторону культуры. Природа — начиная с первых цивилизаций с их системами орошений, сельским хозяйством, слежением за разливами Нила, приносящего плодородный ил, активно используется. И эта ситуация продолжается, пока доминирующим типом хозяйства остается земледелие и животноводство — то есть, вплоть до эпохи Средневековья3.
От индустриального общества — к информационному.
Адаптация человека к новой технотронной среде
Новая тенденция начинает складываться в Европе период позднего Средневековья, характеризующегося активным развитием городской культуры, и интенсивно развивается в Новое время в эпоху технологических революций. Уже с XI–XIII вв. можно говорить об экологических кризисах, связанных с истощением почв в результате замены двуполья трехпольем; вырубкой лесов в интересах земледелия, развития промышленности (металлургии, кораблестроения), строительства; эпидемиями чумы, унесшими, к примеру, в 1346–1353 гг. от 20 до 50 % европейского населения [1]. Экологические кризисы знакомы и кочевым цивилизациям: «в степях Евразии во второй половине XIV–XV вв. наблюдались такие процессы в жизни природы и общества, как продвижение кочевий на север; отступление на север границы лесов; миграция жителей южной степи на постоянное местожительство как на север, так и на юг, в том числе — в далекий Египет; зимовки скота в зонах рискованного скотоводства; что говорит об истощении пастбищ. Выпас скота в лесах — явление типичное для средневековья. Интересен не сам этот факт, а его следствия. Животные в лесу едят не только траву, но и подлесок. Скота было так много, что он буквально съедал лес со скоростью сотен метров и даже километров в год» [8].
Несмотря на определенные экологические проблемы, существующие на всей протяжении истории человечества, об их глобальном характере говорить было достаточно сложно — эти проблемы носили локальный характер, не затрагивая глобальной эко-системы.
И только индустриальное общество стало тем механизмом, который буквально за 300 с не большим лет своего существования привел к формированию глобальных проблем. Развитие индустриальной экономики, транспорта, строительства требовало увеличения добычи и выработки угля, нефти, других полезных ископаемых, среди которых особое место начинают занимать железные руды. Все это оказывало влияние на стремительное ухудшение экологической обстановки в городах, ухудшение состояния окружающей среды, в которую стали поступать вновь созданные химические соединения, повышение уровня шумов и вибраций. Огромное количество мусора и твердых бытовых отходов, среди которых — синтетические материалы, пластмассы, более 100 наименований «токсичных соединений, среди них — красители, пестициды, растворители, соединения мышьяка, формальдегид, свинец и его соли» [24], ртуть4 — попадают в почву. С течением времени эти земли застраиваются жилыми кварталами и становятся источником загрязнений всей их биосреды.
Кульминация экологических проблем наступила в середине XX века, и если ко всем этим изменениям психологически человек сумел приспособиться достаточно успешно, то физически — нет. Результатом адаптации человека к урбанизированной и технизированной среде стало ускорение ритма и темпа жизни за счет использования транспорта, одновременно — малая подвижность человека, следствием имевшая ухудшение его физических показателей выносливости и силы; оторванность от живой природы и попытки ее замены искусственными растениями в домах и офисах, увеличение значения в жизни человека домашних животных, компенсирующих недостаток общения с природой; изменение характера труда, никак не связанного с взаимодействием с природой и другими людьми, приводящее к усилению отчужденности человека от общества, увеличению психологических проблем, достаточно стрессогенному изменению суточных биоритмов человека, наконец, заболеваниям онкологическим, аллергическим, сердечно-сосудистой системы и стремительным омоложением всех видов патологий.
Дефицит природы стал выступать источником культуротворческой деятельности, подвергаясь с развитием технологий все большему и большему давлению, а культура постепенно начинает выполнять функции и природы -созданной человеком искусственной, специально произведенной, культурно обусловленной, неприродной реальности, напоминающей по своему виду и функциям природу, в виде ландшафтов, парков, искусственных водоемов, заливов, водопадов, ручьев, выра- щенных растений, искусственно выведенных пород животных и птиц и т. д. и т. п.
Однако с середины XX столетия получило основания для развития постиндустриальное общество, построенное на иных основаниях. Переход к наукоемким технологиям, изменение характера труда, основанного в значительной степени на интеллектуальной деятельности, постепенно приводит к замене труда человека трудом автоматов и роботов. Следствием этого неизбежно становится усиление неравенства, а такие опоры человечества периода Новой истории, как гуманизм, либерализм, социализм, постепенно теряют свою значимость.
Это неравенство, как считают футурологи, будет носить не только классово-экономический, но и биологический характер: человечество расколется на биологические касты — считает профессор университета в Иерусалиме Юваль Ной Харари. В своей книге «Sapiens. Краткая история человечества» [21] он показывает, что возможности самосовершенствования — увеличение объема памяти, повышение ее оперативности, формирование совершенного визуального облика, усиление функций всех органов человека, в том числе, слуха, зрения, выносливости, физической и психической адаптивности, — все это реальность уже сегодняшнего дня.
Но высокая стоимость этих технологий приведет к тому, что киборги как биологические организмы с механическими или электронными имплантантами конкурентно будут гораздо более успешны, чем обычные люди, не имеющие возможности или не позволяющие себе по этическим соображениям проводить подобные преобразования. Основанием для подобного расслоения общества станут антропологические признаки — реже естественные, чем дольше — тем чаще — искусственные. Наиболее успешная киборгизированная часть общества будет финансово обеспеченной, вторая часть — обеспеченной достаточно, чтобы реализовывать свое природно-биологическое предназначение. Даже простые операции, которые будут все равно востребованы, будут поручаться не представителям, по Харари, «бесполезного класса», а машинам. Это происходит уже сегодня — система IBM Watson заменяет врача-диагноста, искусственный интеллект в недалеком будущем будет управлять хедж-фондом Bridgewater Associates, роботы начинают заменять лекторов, проводят сложные операции, заменяют людей в сельском хозяйстве, осуществляя прополку растений и их полив, оказываются полезными в торговле, уборке помещений, роботы могут работать в районах стихийных бедствий, при тушении пожаров. Производство и потребление промышленных роботов становится одной из наиболее стремительно развивающихся отраслей экономики, где лидирующие позиции уже с 2013 г. занимает Китай, постоянно увеличивающий инвестиции в отрасль роботостроения. В результате подобных изменений в обществе трансформируется вся система трудовых отношений: сложные операции будут выполнять люди-киборги, простые — роботы.
Однако отсутствие у представителей «бесполезного класса» целевой деятельности, их невозможность занимать сокращающиеся вакансии как в технологически сложных сферах и отраслях, так и простых — приведет к их интеллектуальной, эмоциональной, духовноэтической деградации. Адаптация этих людей, не сумевших приспособиться к социальной и технологической среде, станет осуществляться в виртуальных средах, где они смогут реализовать свои возможности и интеллектуально-психологические потребности. Уже сегодня говорят как об одной из наиболее перспективных профессии дизайнера виртуальных миров: «лишние с точки зрения экономики люди смогут проводить все больше времени в трехмерных виртуальных мирах, в которых они найдут больше эмоций, чем в реальном мире» [22], — пишет Харари. Этот прогноз подтверждает Американское Бюро статистики труда, согласно данным которого «за последние 15 лет количество свободного времени у низкоквалифицированных рабочих увеличилось на 4 часа в неделю» [16], три часа из которых тратится на видеоигры. При этом «22% американских мужчин без высшего образования не работали ни дня за последние 12 месяцев. Часть этих безработных мужчин сидит дома, потому что предпочитает работе видеоигры» [16], пишет Business Insider. Итак, в информационном обществе с достаточно большим социальным расслоением, гейминг становится одним из самых привлекательных способов адаптации. Однако для подобных людей останутся реальными еще две адаптивные стратегии: потребление и религия.
Однако развитие технотронной среды только ускорит глобальный масштаб экологических обострений. Главными чертами этого кризисного состояния станут: «изменение климата Земли на основе усиления тепличного эффекта, выбросов метана и других газов; возникновение вторичных химических реакций во всех средах биосферы с образованием токсических веществ; загрязнение атмосферы с образованием кислотных осадков; загрязнение океана, захоронение в нем ядовитых и радиоактивных веществ, поступление в него антропогенных нефтепродуктов, тяжелых металлов и сложно-органических соединений; истощение и загрязнение поверхностных вод суши, континентальных водоемов и водостоков, подземных вод; опустынивание планеты в новых регионах, расширение существующих пустынь; сокращение площади лесов, что ведет к дисбалансу кислорода и усилению процесса исчезновения видов животных и растений; освобождение и образование новых экологических ниш и заполнение их нежелательными организмами — вредителями, паразитами, возбудителями новых заболеваний; абсолютное перенаселение Земли и относительное демографическое переуплотнение в отдельных ее регионах» [24].
Подводя итоги, отметим, что эволюция человека шла определенным образом, будучи направленной на адаптацию человека к среде. Человек с самых начальных этапов истории, пытался установить и усилить свою не- зависимость от внешнего мира, расширить поле своей свободы, и содержанием подобной адаптации было приспособление к природе. После неолитической революции зависимость человека от природы существенно уменьшилась, и главные адаптивные стратегии оказались направленными одновременно и на сферу природы и на сферу общества и культуры. Сегодня, когда природа настолько изменена человеком, что стало возможным говорить о ней не только как о «второй» среде (как о культуре), но даже как о «третьей» (как о природе, созданной техническими средствами культуры), приспособление человека направлено на те технологические трансформации природы (от генно-модифицированных
Список литературы Адаптация человека к средовым влияниям: натуралистическая и социокультурная составляющие
- Бондарев Л. Г. Особенности экологической ситуации в средневековой Европе. Вестник Московского университета. Сер. 5. География. 1996. 1: 15-18.
- Виртуальные миры для бедных, глобальная депрессия и нашествие бедняков из пустыни. URL: http://news.eizvestia.com/news_technology/full/1305-virtualnye-miry-dlya-bednyx-globalnaya-depressiya-i-nashestvie-bednyakov-iz-pustyni-vosem-trendov-kotorye-vskore-izmenyat-mir (дата обращения 01.05.2019)
- Гарбовский А.А. Дубинка для слишком умных // Наука и жизнь. 1968. 1: 105-107.
- Гринченко С.Н. Метод "проб и ошибок" и поисковая оптимизация: анализ, классификация, трактовка понятия "естественный отбор" // Исследовано в России. Электронный журнал. 2003. URL: http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/295246 (дата обращения 02.05.2019)
- Лосев А. Ф. Античная мифология в её историческом развитии. М.: Учпедгиз, 1957.
- Каган М.С. Человеческая деятельность. М., 1974: 233-235.
- Королев Е. К анализу концепции общественного развития: к разрешению противоречий между определенностью и неопределенностью. URL: http://pozdnyakov.tut.su/Seminar/art99/a010399.html (дата обращения 02.05.2019)
- Кульпин Э. Средневековый социально-экологический кризис в степях Восточной Европы // Степной бюллетень. 2001. 9. URL: http://savesteppe.org/ (дата обращения 01.05.2019)
- Луман Н. Медиа коммуникации. М., 2005: 262.
- Маркарян. Э.С. Культура как способ деятельности. Вопросы философии. 1977. 11: 137-141.
- Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука. М., 1983: 63.
- Назаретян А.П. Голубь с ястребиным клювом: об экзистенциальном кризисе антропогенеза и начале эволюции человека. Мир психологии. 2005. 4.
- Назаретян А.П. Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной истории: Синергетика, психология и футурология. М.: ПЕР СЭ, 2001.
- Орлова Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию. М., 1994: 58.
- Пелипенко А.А. Избранные работы по теории культуры. Культура и смысл. М.: Согласие, Артем, 2014: 597-598, 620.
- Причина безработицы значительной части мужчин в США. URL: https://hightech.fm/2017/03/20/gamers (дата обращения 03.05.2019)
- Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. СПб.: Терра, 1995.
- Токарев С. А. Религия в истории народов мира. М.: Политиздат, 1986.
- Тоpчинов Е. А. Мистерия смерти в воскресения: страдающие боги Древнего Востока и античного мира. Религии мира: опыт запредельного. Психотехника и трансперсональные состояния. СПб.: Центр "Петербургское востоковедение", 1998. URL: https://www.twirpx.com/file/268338/ (дата обращения 02.05.2019)
- Фрэзер Дж. Золотая ветвь. М.: АСТ, 2003.
- Харари Ю.Н. Sapiens. Краткая история человечества. М., 2016.
- Харари Ю.Н. Смыслом жизни бесполезного класса станут компьютерные игры. URL: https://econet.ru/articles/166234-yuval-noy-harari-smyslom-zhizni-bespoleznogo-klassa-stanut-kompyuternye-igry (дата обращения 03.05.2019)
- Хлопачев Г. Как жили древние охотники на мамонтов. URL: http://y.kunstkamera.ru/mammoths/ (дата обращения 02.05.2019)
- Чубик М.П. Экология человека. Томск: Изд-во ТПУ, 2006: 147. http://ekolog.org/books/8/4_4.htm (дата обращения 02.05.2019)
- Эшби У.Р. Конструкция мозга. Происхождение адаптивного поведения. М.: Мир, 1964: 137.