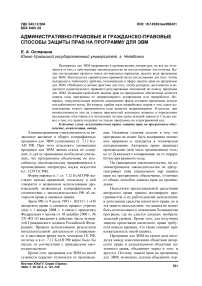Административно-правовые и гражданско-правовые способы защиты прав на программу для ЭВМ
Автор: Останина Елена Александровна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы административного права
Статья в выпуске: 4 т.20, 2020 года.
Бесплатный доступ
Программы для ЭВМ приравнены к произведениям литературы, но все же отличаются от них, а действующее законодательство не всегда отражает эти отличия. Целью исследования является поиск оптимальных вариантов защиты кода программы для ЭВМ. Используется сравнительно-правовой метод исследования для того, чтобы подчеркнуть типичность проблем, возникающих в сфере защиты прав на программы для ЭВМ. Обобщена судебная практика для того, чтобы раскрыть достоинства и недостатки существующего правового регулирования отношений по поводу программ для ЭВМ. Основной проблемой защиты прав на программное обеспечение является защита кода программы от неправомерного копирования или переработки. Во-первых, затруднительным является доказывание факта создания программы истцом или работником истца. Во-вторых, крайне мало проработана теория о том, какое использование чужого программного кода является неправомерным. В-третьих, при множественности лиц на стороне нарушителей возникают вопросы в определении надлежащих ответчиков и в исчислении истцом срока исковой давности. Сделан вывод о том, что защите подлежит не только программа, но и программный код.
Исключительное право, защита прав на программное обеспечение, компенсация, автор
Короткий адрес: https://sciup.org/147231545
IDR: 147231545 | УДК: 343.12:004 | DOI: 10.14529/law200421
Текст научной статьи Административно-правовые и гражданско-правовые способы защиты прав на программу для ЭВМ
Административная ответственность за незаконное введение в оборот контрафактных программ для ЭВМ установлена ст. 7.12 КоАП РФ. При этом отдельного упоминания программ для ЭВМ данная статья не содержит, и для ее применения необходимо учитывать, что программное обеспечение по российскому законодательству приравнивается к произведениям литературы, науки, искусства (ст. 1259 ГК РФ).
Формулировка п. 1 ст. 7.12 КоАП РФ выглядит весьма архаичной, поскольку в ней говорится о незаконном использовании произведений, являющихся контрафактными в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и смежных правах.
Закон РФ от 9 июля 1993 г. №5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» утратил силу с 1 января 2008 г. в связи с принятием Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Правила использования результатов интеллектуальной деятельности устанавливает в настоящее время часть четвертая ГК РФ, поэтому и в ст. 7.12 КоАП РФ верно было бы писать «в соответствии с гражданским законодательством»
Кроме того, программа для ЭВМ по своей сущности серьезно отличается от произведе- ния. Основные отличия состоят в том, что программа не может быть воспринята человеком напрямую и нуждается в техническом опосредовании. Авторское право защищает произведение (или часть произведения) только от буквального копирования, не от переработки программного кода.
Ни гражданское законодательство, ни административное законодательство не предусматривает пока специальных мер защиты прав на программное обеспечение, отличных от общих способов защиты прав на произведение.
Недостатки предоставляемой средствами авторского права защиты мотивируют программистов и их работодателей использовать в дополнение средства патентного права, но и эта защита недостаточна: эта защита не может быть использована в отношении большинства программ, где не удастся доказать изобретательский уровень. Кроме того, для получения защиты средствами патентного права требуется немало времени, что также снижает привлекательность такой защиты.
Программа для ЭВМ на самом деле находится между классическими объектами авторского права и классическими объектами патентного права, объединяет черты и того, и другого. Поэтому защита прав на программы для ЭВМ, возможно, должна объединять чер- ты как авторско-правовой, так и патентноправовой защиты.
Охраняемой может быть признана как компьютерная программа в целом, так и программный код (ст. 1261 ГК РФ). В этом состояние отечественного законодательства полностью соответствует иностранному опыту. Например, в деле Whelan Assocs., Inc. Vs Jaslow DentalLab., Inc. (США) суд постановил, что охраноспособен весь программный код, за исключением исключительно функциональных элементов, которые могут быть выражены и созданы только одним или несколькими способами [2, с. 45].
Соответственно переработка программы, которая меняет код или назначение программы достаточно существенно, подчиняется правилам о первоначальных и производных произведениях.
Согласно ст. 1270 ГК, под переработкой (модификацией) программы для ЭВМ или базы данных понимаются любые их изменения, в том числе перевод такой программы или такой базы данных с одного языка на другой язык, за исключением адаптации, то есть внесения изменений, осуществляемых исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя. Для переработоки, как правило, требуется согласие автора первоначальной программы, при наличии такого согласия переработка влечет возникновение самостоятельного исключительного права на производное произведение.
Исключительное право на программное обеспечение имеет свои границы; границы определены в отечественном законодательстве и в странах ЕС сходным образом.
В ЕС компьютерные программы подпадают под особый режим, предусмотренный Директивой Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 23 апреля 2009 г. № 2009/24/ЕС «О правовой охране компьютерных программ (кодифицированная версия)». Согласно ст. 4 этой Директивы перевод, адаптация, настройка и любые иные изменения компьютерной программы требуют согласия правообладателя. Однако если перевод, адаптация, настройка и любые иные изменения компьютерной программы необходимы для использования компьютерной программы ее правомерным приобретателем в соответствии с ее назначением, в том числе для исправления ошибок, они могут осуществляться без согласия правообладателя (ст. 5 Директивы).
Изготовление резервной копии программы лицом, имеющим право на использование компьютерной программы, не может быть запрещено в договоре в том объеме, в котором это необходимо для такого использования (ст. 5 Директивы). Лицо, которое вправе использовать копию компьютерной программы, должно иметь право без разрешения правообладателя исследовать, изучать и испытывать функционирование программы для определения идей и принципов, лежащих в основе любого элемента программы, при условии, что оно делает это в процессе правомерного совершения действий по загрузке, отображению на экране, запуску, передаче или хранению программы (ст. 5 Директивы).
В отечественном законодательстве также предусмотрено право лица, правомерно владеющего экземпляром программы для ЭВМ, без согласия правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения изучать, исследовать или испытывать функционирование такой программы в целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого элемента программы для ЭВМ.
Это допускается в том числе и путем внесения в программу для ЭВМ или базу данных изменений исключительно в целях их функционирования на технических средствах пользователя, исправления явных ошибок, если иное не предусмотрено договором с правообладателем (п. 1 ст. 1280 ГК РФ).
Согласно п. 3 ст. 1280 ГК РФ, лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ, вправе без согласия правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения воспроизвести и преобразовать объектный код в исходный текст (декомпилировать программу для ЭВМ), если это необходимо для достижения способности к взаимодействию независимо разработанной этим лицом программы для ЭВМ с другими программами.
Однако для этого требуются следующие условия. Во-первых, информация, необходимая для достижения способности к взаимодействию, ранее не была доступна этому лицу из других источников; во-вторых, указанные действия осуществляются в отношении только тех частей декомпилируемой программы для ЭВМ, которые необходимы для достижения способности к взаимодействию.
Информация, полученная в результате декомпилирования, может использоваться лишь для достижения способности к взаимодействию независимо разработанной программы для ЭВМ с другими программами, не может передаваться иным лицам (п. 3 ст. 1280 ГК РФ).
В одном из дел истец мотивировал требование о признании лицензионного договора недействительным в части запрета на передачу исходного программного кода. Истец полагал, что, поскольку по договору ему предоставлено право предоставлять третьим лицам сублицензии, он должен иметь право и передать программный код. Истец (лицензиат) ссылался на то, что соглашение в части введения запрета на передачу исходного кода находится в противоречии с предоставленным ему правом на предоставление сублицензий в объеме предоставленных ему соглашением прав на переработку (модификацию) исходного кода программного продукта. В удовлетворении требования отказано, поскольку положениями лицензионного соглашения лицензиату не было предоставлено правомочие на передачу третьим лицам исходных кодов, информации о наименовании и функциональном предназначении исходных кодов программы для ЭВМ, кроме того, пропущен срок исковой давности (постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 мая 2016 г. № С01-340/2016 по делу № А56-26565/2015). Нарушение исключительного права на программное обеспечение, к сожалению, весьма распространенное явление. Судебная практика показывает, что правообладатели не всегда успешно защищают свое исключительное право.
Прежде всего у правообладателей возникают многочисленные проблемы с доказыванием факта нарушения [4, c. 18]. Для взыскания компенсации истец должен доказать, что ответчик незаконно использует программу, причем доказать сходство недостаточно, требуется доказать тождество.
Так, по одному из дел истец предъявил требование о защите своих исключительных прав на программу для ЭВМ. Истец пояснил, что ответчик путем бесплатного скачивания с интернет-сайта приобрел экземпляр программы для ЭВМ, модифицировал эту программу и предлагает ее на своем сайте потребителям.
В подтверждение факта нарушения исключительных прав истец представил нотариальный протокол осмотра доказательств, содержащий результаты осмотра интернет-сайта.
В удовлетворении требования было отказано, так как в исковом заявлении отсутствует анализ исходного текста и объектного кода программы для ЭВМ и программы, внешнее представление которой отражено в составленном нотариусом протоколе осмотра доказательств, в связи с чем доказательства нарушения прав истца отсутствуют (постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 декабря 2016 г. № С01-1045/2016 по делу № А56-7695/2016). При этом, как пояснил истец в суде кассационной инстанции, ходатайства о проведении сравнительного исследования программного продукта, правообладателем которого является истец, и спорного программного продукта, истцом в рамках рассмотрения настоящего дела в установленном законом порядке не заявлялись.
Таким образом, первоначально обязанность доказывания факта нарушения возлагается на истца. В качестве успешного опыта доказывания факта правонарушения можно привести следующее дело. По делу о пресечении действий, нарушающих исключительное право на программу для ЭВМ, было установлено, что в программе ответчика воспроизведено как минимум 88 процентов кода, содержащегося в программе истца (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 ноября 2016 г. № С01-328/2016 по делу № А56-21040/2015). Истец ссылался на то, что программа для ЭВМ, зарегистрированная ответчиком, по области применения, принципу действия и внешнему оформлению идентична программе, исключительные права на которые переданы ему. Требование было удовлетворено. Важно, как был доказан факт принадлежности истцу спорного программного кода и как был доказан факт нарушения со стороны ответчика.
Для разрешения вопроса о соотношении противопоставленных программ для ЭВМ по области применения, принципу действия, а также о наличии заимствований в их исходных кодах судом была назначена компьютерно-техническая экспертиза.
На разрешение эксперта были поставлены следующие вопросы:
-
1) является ли исходный текст и/или объектный код программы ответчика производ-
- ным (созданным на основе) от исходного текста и/или объектного кода программы истца, то есть заимствованным полностью или в части;
-
2) является ли программа ответчика по области применения, принципу действия и внешнему оформлению схожей до степени смешения с программой истца;
-
3) позволяют ли представленные на экспертизу материалы установить дату создания программы ответчика, если да, то какая это дата;
-
4) воспроизведен ли в программе ответчика объектный код, содержащийся в программе истца, если да, то в каком объеме?
В ходе экспертизы эксперт установил следующее. Вероятность того, что программные продукты истца и ответчика созданы независимо друг от друга, а все совпадения случайны, мала. Исходный текст программы ответчика наиболее вероятно является производным (созданным на основе) от исходного текста программы истца, то есть заимствованным в большей своей части. Принцип действия программы ответчика аналогичен принципу действия программы истца. Внешнее оформление программы ответчика схоже с внешним оформлением программы истца в рамках представленных на экспертизу материалов. Представленные на экспертизу материалы не позволяют установить точную дату создания программы ответчика. В программе ответчика воспроизведено как минимум 88 % кода, содержащегося в программе истца. Таким образом, было установлено, что истец является обладателем исключительного права на программу, иск удовлетворен, взыскана компенсация.
Наиболее распространенными способами защиты исключительных прав на программное обеспечение являются требования о взыскании компенсации (ст. 1252 ГК РФ) и о прекращении действий, нарушающих право (ст. 12 ГК РФ). При определении ответчика следует учитывать, что лица, совместно использующие или распространяющие контрафактные программы, отвечают солидарно (ст. 1080 ГК РФ). Если в отношении одного из соответчиков истек срок исковой давности, это не мешает предъявлению иска к другим нарушителям исключительного права (ст. 308 ГК РФ).
Следует учитывать, что программа, созданная работником при исполнении трудовых обязанностей, является служебным результатом интеллектуальной деятельности, и, если иное не предусмотрено договором, исключительные права на нее возникают у работодателя (ст. 1295 ГК РФ). В Европе и США существуют схожные правила в отношении результатов творческой деятельности, созданных при выполнении трудовых обязанностей. Исключительные права на них, как правило, возникают у работодателя. Вместе с тем и в российской, и в иностранной судебной практике иногда возникают проблемы при выяснении вопроса о том, действовал ли автор в качестве работника.
Д. Миллер был принят на работу в качестве руководителя отдела лабораторного контроля качества. В его обязанности входила компьютерная обработка данных, полученных в лаборатории. Работая дома, Д. Миллер написал компьютерную программу, которая помогала ему в его расчетах. Суд признал, что факт работы из дома не препятствует признанию произведения служебным, если при создании работник выполнял задание работодателя [2, с. 50].
В более сложных спорах принимается во внимание не только факт выполнения конкретного задания, но и возможность (невозможность) другой стороны планировать рабочее время сотрудника.
Так, по одному из дел недовольный оплатой работник удалил ключи программ и их копии из компьютерной сети компании. При этом работник настаивал на том, что право на программу принадлежит ему, а компания после удаления ключей не могла использовать спорные компьютерные программы [1, c. 48]. В этом деле обсуждался вопрос: кому принадлежит исключительное право на программы? Эти программы написал тот же программист, который уничтожил их. Согласно принятой в судебной практике США доктрине «work-made-for-hire», если программы написаны сотрудником, исключительные права принадлежат работодателю. Поэтому ключевым был вопрос: работал ли программист по трудовому договору или иному частно-правовому договору («как независимый контрагент»). Несколько факторов говорили в пользу статуса независимого контрагента. Программист работал дома. Он сам определял свое рабочее время и обладал большой свободой в планировании своего труда. Он не получал заработной платы, скорее, имела место плата за ре- зультат. Он не значился в штате компании. Согласно прежним прецедентам эти факторы были решающими. В частности суды очень подозрительно относились к организациям, которые не учитывали работников в нарушение норм налогового права, а потом претендовали на служебные произведения. Но в деле Just Med был использован более практический подход. Суд учитывал, что спор возник в маленькой, только начинающей свой бизнес компании. Программист работал в соответствии с заданием компании и под управлением компании, получал дополнительные задания и, кажется, считал себя, скорее, работником компании, чем независимым контрагентом. В итоге, суд счел, что программист незаконно присвоил себе ключ той программы, которую он сам же и написал и взыскал с программиста убытки, причиненные компании- работодателю [1, c. 56].
Еще одной особенностью защиты прав на программы для ЭВМ является возможность государственной регистрации, не характерная для объектов авторского права. Программа для ЭВМ может быть зарегистрирована по желанию правообладателя (ст. 1262 ГК РФ). Порядок государственной регистрации определяется Приказом Минэкономразвития России от 5 апреля 2016 г. № 211.
В итоге, можно заключить, что программы для ЭВМ имеют как общие черты, сближающие их с произведениями науки, литературы и искусства, так и особенности. Правила о служебных произведениях могут применяться к программам для ЭВМ в полном объеме, а защита имеет особенности, выражающиеся прежде всего в том, что защищается программный код.
Список литературы Административно-правовые и гражданско-правовые способы защиты прав на программу для ЭВМ
- Garon, Jon and Ziff, Elaine D., The Work-Made-for-Hire Doctrine Revisited: Startup and Technology Employees and the Use of Contracts in a Hiring Relationship (February 10, 2011). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1759381 or 10.2139/ ssrn.1759381. DOI: 10.2139/ssrn.1759381
- McJohn, Stephen M., Top Tens in 2010: Patent, Trademark, Copyright and Trade Secret Cases (December 28, 2010). Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, January 2011; Suffolk University Law School Research Paper No. 10-65. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1731887.
- Чурилов, А. Режимы охраны программ для ЭВМ: изобретение, коммерческая тайна или литературное произведение? / А Чурилов // Авторское право и смежные права. - 2017. - № 7. - С. 35-44.