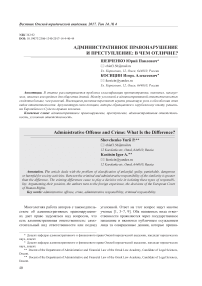Административное правонарушение и преступление: в чем отличие?
Автор: Шевченко Юрий Павлович, Косицин Игорь Алексеевич
Журнал: Вестник Омской юридической академии @vestnik-omua
Рубрика: Реформа законодательства об административной ответственности
Статья в выпуске: 4 (37), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема классификации противоправных, виновных, наказуемых, опасных или вредных для общества деяний. Между уголовной и административной ответственностью сходства больше, чем различий. Имеющиеся различия перестают играть решающую роль в обособлении этих видов ответственности. Аргументируя свою позицию, авторы обращаются к зарубежному опыту, решениям Европейского Суда по правам человека.
Административное правонарушение, преступление, административная ответственность, уголовная ответственность
Короткий адрес: https://sciup.org/14317877
IDR: 14317877 | УДК: 342.92 | DOI: 10.19073/2306-1340-2017-14-4-40-44
Текст научной статьи Административное правонарушение и преступление: в чем отличие?
Многолетняя работа авторов с законодательством об административных правонарушениях дает право задуматься над вопросом, что есть административная ответственность: самостоятельный вид ответственности или подвид уголовной. Ответ на этот вопрос ищут многие ученые [1, 3–7, 9]. Оба названных вида ответственности проявляются через государственное наказание и являются публичным осуждением лица за совершенные деяния, которые призна-
* Доцент кафедры административного и финансового права Омской юридической академии, кандидат юридических наук, доцент.
ются обществом нежелательными, вредными, общественно опасными и т. п.
Основное предназначение рассматриваемых видов юридической ответственности заключается в наказании виновного. Наказательная сущность публично-правовой ответственности определяется общепринятым латинским термином Penal Code, которым обозначаются в большинстве стран законодательные сборники, аналогичные российскому Уголовному кодексу. Точный перевод словосочетания Penal Code означает «наказательный кодекс». В таком контексте Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) тоже является Penal Code.
Какие же принципиальные различия наблюдаются между административной и уголовной ответственностью в Российской Федерации? Юридические определения административного правонарушения и уголовного преступления практически идентичны. И то и другое – деяния, обладающие признаками виновности, противоправности и наказуемости. Единственный признак, дающий обильную почву для научных дискуссий, – «общественная опасность», включенный в качестве признака преступления в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ), не предусмотрен законодателем в качестве признака административного правонарушения. В то же время, чтобы не признавать это деяние общественно нейтральным или (не дай бог) общественно полезным, учеными придуман термин «общественная вредность». На наш взгляд, искать различие между вредом и опасностью деяния – значит, заниматься схоластикой [8, с. 73; 9]. Основываясь на изложенном, в первую очередь принимая во внимание все четыре признака административного правонарушения и уголовного преступления, полагаем возможным сделать вывод, что административное правонарушение и уголовное преступление – это явления одного порядка, а термины «преступление» и «правонарушение» синонимичны.
Обращение к этимологии термина «уголовный» позволяет утверждать, что это слово не является достаточно ясным прилагательным, характеризующим преступление. Например, Этимологический словарь М. Фасмера объясняет: уголовный, уголо́вщина, блр. уголо́вны «сроч- ный, важный», уголо́вно «срочно, необходимо». Связано с голова́, которое имело в др.-русск. также знач. «убитый». Ср. в семантическом отношении лат. capitālis «головной», затем «уголовный». По мнению Пизани, это непосредственная калька с лат. capitālis или нем. Наuрt-vеrbrесhеn «уголовное преступление»1. В Этимологическом словаре русского языка А. В. Семенова про термин «уголовный» сказано: прилагательное имеет смысловую связь с древнерусским словом «голова», которое употреблялось и в значении «убитый»2.
Прилагательное «административный» применительно к словосочетанию «административное правонарушение» имеет четкую смысловую нагрузку. Оно обозначает реализацию государственной воли в форме наказания, которое применяется в несудебном порядке. Наказание реализуется через деятельность органов исполнительной власти. До 1966 г. субъектами, назначающими наказания за административные правонарушения, являлись исключительно административные органы. Позже такие наказания частично по ряду правонарушений были включены в компетенцию судей. В настоящее время число административных правонарушений, за которые наказание назначается судьями, значительно возросло. На наш взгляд, не исключается вероятность того, что в будущем наказания за большинство названных нарушений или даже за все нарушения будут назначаться судьями. В таком случае от определения «административное» в отношении указанных правонарушений придется отказаться.
Юридическая конструкция составов административных правонарушений и уголовных преступлений зачастую до выяснения всех обстоятельств не дает возможности квалифицировать деяние как административное или уголовное. Правоприменители, оценивая признаки нарушения, не могут с уверенностью его отнести к какой-либо одной категории, а следовательно, и выбор варианта процессуального реагирования вызывает у них серьезные затруднения. Какие применить меры, предусмотренные УПК РФ или КоАП РФ? Эта проблема характерна для многих пар схожих административных и уголовных правонарушений. Приведем лишь некоторые их них: незаконное хранение наркотических средств – ч. 1 ст. 6.8 КоАП РФ и ч. 1 ст. 228 УК РФ; нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью человека, – ст. 12.24 КоАП РФ и ст. 264 УК РФ; хищение чужого имущества – ст. 7.27 КоАП РФ и 158 УК РФ; нарушения правил оборота оружия – ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ и т. д. Созвучных или аналогичных преступлений и правонарушений в УК РФ и КоАП РФ множество [10].
В последнее время законодатель, формулируя некоторые составы административных правонарушений, предусматривает оговорку «если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния», тем самым подчеркивая, что большое количество уголовных и административных правонарушений отличаются по существу только степенью наступивших последствий.
Признак общественной опасности уголовного преступления полностью применим к так называемым тяжким административным правонарушениям, совершенным юридическими лицами. Части 2 и 3 ст. 19.28 КоАП РФ являются классическими «тяжким» и «особо тяжким» «преступлениями», совершенными юридическим лицом, и неким аналогом ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». Председатель Следственного комитета А. И. Бастрыкин выступает за криминализацию таких деяний, совершенных юридическим ли-цом3 [2]. Некоторые составы правонарушений, как челноки, перемещаются из одного кодекса в другой и обратно. К таким составам можно отнести «оскорбление» и «клевету».
Уголовные преступления делятся по степени тяжести на три категории. Административные правонарушения не имеют такого деления, хотя ст. 4.5 КоАП РФ предусматривает правонарушения различных категорий, на наш взгляд, в зависимости от степени их опасности, предоставляя правоприменителям различные сроки ведения дел по этим категориям (от 2 мес. до 6 лет). Статья 28.7 КоАП РФ предусматривает категории правонарушений, по которым возбуждается процедура, называемая «административное расследование». Такие правонарушения представляются повышенно опасными. Авторы проекта Кодекса об административных правонарушениях № 957581-64, который предположительно должен был прийти на смену КоАП РФ, преду- сматривают также деление административных правонарушений на три категории: грубые, значительные и менее значительные.
Если уголовные и административные нарушения объединить в общие явление и понятие, то вполне логично выстраивается шкала от особо тяжких до менее значительных категорий правонарушений. Процессуальные меры, применяемые при производстве по делам об этих нарушениях, также должны меняться в зависимости от их категории.
Уголовное судопроизводство и производство по делам об административных правонарушениях также имеют больше черт сходства, чем различия. Последовательность процессуальных действий примерно одинакова от возбуждения дела до принятия решения (постановления, приговора) по делу. Основные процессуальные действия аналогичны в двух этих видах процессов: в обоих имеет место быть задержание [12], такая административно процессуальная мера, как досмотр, соответствует уголовно-процессуальному обыску, изъятие – выемке, допрос – объяснению и т. п. Порядок доказывания и получения доказательств принципиально не отличаются.
В то же время доказательства, полученные в ходе одинаковых процессуальных действий (например, экспертизы), проведенных в рамках уголовного процесса и производства по делу об административном правонарушении, имеют статус разных видов доказательств. Заключение эксперта, полученное в рамках ст. 80 УПК РФ, – это исследование, осуществляемое по вопросам лица, ведущего производство по уголовному делу, следовательно, точно такая же экспертиза (заключение эксперта) с идентичными вопросами уполномоченного лица (например, экспертиза наркотического средства), проводимая одними и теми же экспертами в тех же экспертных учреждениях, но осуществленная в рамках ст. 26.4 КоАП РФ, не будет являться заключением эксперта для уголовного процесса, а лишь иными документами (ст. 84 УПК РФ).
Еще одним признаком, сближающим уголовную ответственность и административную ответственность, являются отрицательные последствия судимости и «административной на-казанности», которые во многом сходны.
Естественно, процессуальные схемы для значительных и более опасных по степени общественной опасности нарушений должны существенно отличаться скрупулезностью, детализацией в целях полноты и объективности установления истины. Напротив, по менее значительным нарушениям следует, на наш взгляд, отказаться от таких формулировок, как всестороннее, полное, объективное выяснение обстоятельств каждого дела. Для «легких» нарушений возможно создать процессуальную схему минимально необходимого (достаточного) выявления обстоятельств по делу, при этом допустим частичный отказ от принципа индивидуализации наказания.
Таким образом, несмотря на то что юридическая мысль России давно привыкла к существованию двух правовых регламентаций противодействия нарушениям, нельзя не признать их однородность или даже идентичность. Конституционный Суд Российской Федерации требует к правовым коллизиям, возникающим в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях, подходить не с отраслевой позиции, а с общеправовой конституционной. Европейский Суд по правам человека также многократно заявлял, что по смыслу международного права уголовные и другие (административные) правонарушения по сути представляют собой одно явление и к ним должны применяться одни и те же правовые стандарты5.
В связи с этим не сразу, но постепенно следует переходить к новой модели юридической ответственности за правонарушение, представляющей собой единый комплекс. Варианты названий могут быть любые: проступки, преступления, правонарушения, деликты. И эти названия могут варьироваться в зависимости от степени тяжести по примеру зарубежных: тризн, фелони, мисди-минер (англ. treason, felony, misdemeanor).
Меры государственного реагирования по разным категориям нарушений: предупреждение, выявление, раскрытие, расследование – могут существенно отличаться [11].
Список литературы Административное правонарушение и преступление: в чем отличие?
- Арутюнов А. А. К вопросу о соотношении уголовного и административного права//Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. № 2 (7). С. 33-39.
- Бастрыкин А. И. К вопросу о введении в России уголовной ответственности юридических лиц//Расследование преступлений: проблемы и пути их решения: сб. науч.-практ. тр. М.: Ин-т повышения квалификации СК России, 2013. Вып. 2. С. 3-13.
- Ветков А. А. Уголовная и административная ответственность: самостоятельные правовые явления или «смешение жанров»//Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. № 2 (7). С. 68-76.
- Волеводз А. Г. Уголовное и административно-деликтное право: обсуждаем проблемы науки и практики//Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. № 2 (7). С. 18-19.
- Кауфман М. А. Преступление и административное правонарушение: проблемы соотношения и квалификации//Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. № 2 (7). С. 109-118.
- Кирин А. В. Уголовное и административно-деликтное право: партнерство, а не патернализм//Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. № 2 (7). С. 126-135.
- Лукашов А. И. Уголовная и административная ответственность: сосуществование или слияние?//Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. № 2 (7). С. 160-172.
- Соловей Ю. П. Рецензия на монографию П. П. Серкова «Административная ответственность в российском праве: современное осмысление и новые подходы» (М.: Норма: Инфра-М, 2012. 480 с.)//Административное право и процесс. 2013. № 3. С. 72-80.
- Соловей Ю. П. Российское законодательство об административной ответственности нуждается в совершенствовании//Вестник Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА). 2014. № 2. Вып.: Административное право и процесс. С. 56-63.
- Шевченко Ю. П. Законодательство об административных правонарушениях, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство: проблемы соответствия//Актуальные проблемы административной ответственности: материалы всерос. науч.-практ. конф. Омск: Ом. юрид. ин-т, 2009. С. 48-53.
- Шевченко Ю. П., Косицин И. А. Состояние защищенности общества от противоправных посягательств (административно-правовой аспект)//Административное право и процесс. 2016. № 1. С. 42-46.
- Шевченко Ю. П., Супрун С. В. Соотношение административного и уголовно-процессуального доставления и задержания//Омский научный вестник. 2006. № 5 (40). С. 71-74.