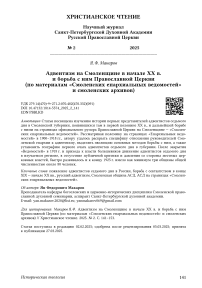Адвентизм на Смоленщине в начале XX в. и борьба с ним Православной Церкви (по материалам «Смоленских епархиальных ведомостей» и смоленских архивов)
Автор: Я.Ф. Макаров
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Историческая теология
Статья в выпуске: 2 (113), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению истории первых представителей адвентистов седьмого дня в Смоленской губернии, появившихся там в первой половине XX в., и дальнейшей борьбе с ними на страницах официального рупора Православной Церкви на Смоленщине — «Смоленских епархиальных ведомостей». Рассматривая полемику на страницах «Епархиальных ведомостей» в 1900–1918 гг., автору удалось раскрыть специфику отношения руководителей Смоленской епархии к адвентизму, выделить эволюцию основных методов борьбы с ним, а также установить географию первого очага адвентистов седьмого дня в губернии. После закрытия «Ведомостей» в 1918 г. и прихода к власти большевиков движение адвентистов седьмого дня в изучаемом регионе, в отсутствие публичной критики и давления со стороны местных церковных властей, быстро развивалось и к концу 1925 г. имело как минимум три общины общей численностью около 80 человек.
Появление адвентистов седьмого дня в России, борьба с сектантством в конце XIX — начале XX вв., русский адвентизм, Смоленская община АСД, АСД на страницах «Смоленских епархиальных ведомостей»
Короткий адрес: https://sciup.org/140309606
IDR: 140309606 | УДК: 279.14(470)-9+271.2:070.482(470.332)(091) | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_2_141
Текст научной статьи Адвентизм на Смоленщине в начале XX в. и борьба с ним Православной Церкви (по материалам «Смоленских епархиальных ведомостей» и смоленских архивов)
Степень разработанности проблемы. Изучение истории церкви адвентистов седьмого дня (далее также — АСД) нашло свое отражение в работах отечественных исследователей начиная с XIX в. В дореволюционный период ученые в большинстве своем были православными по исповеданию или принадлежности, поэтому своей целью, как правило, они ставили рассмотрение адвентизма с точки зрения его догматической, административной и вероучительной слабости по сравнению с православием [Милюков, 1899, II, 375; Кальнев, 1910, 34; Стрельбицкий, 1910, 211–233; Буткевич, 1910, 637; Бондарь, 1911, 101]. В советское время полемическая направленность трудов только усилилась. Представители советского ученого сообщества изучали адвентизм, дабы подчеркнуть несостоятельность и абсурдность религиозных доводов, содержащихся в мифологии секты, развенчивая их быт и историческое развитие как движения, подвергая критике1.
Начиная с кон. XX в. и в нач. XXI в. количество научных трудов, посвященных истории АСД, увеличилось. Они раскрывали разные стороны жизни и деятельности общин секты в России. Исследовались законодательство против адвентизма [Безносова, 2009; Никольская, 2004], региональная специфика [Русанов, 2011; Руфин, 2019], отношение секты к обществу и государству [Амбарцумов, 2014; Кульчицкий, 2018; Стефанив, Зайцев, 2020], развитие движения в первые десятилетия после появления в России [Григоренко, 2004, Кульчицкий, 2018]. Отдельно следует отметить труды по общей истории АСД в России, выпускаемые учеными из числа последователей адвентизма [Теппоне, 1993; Зайцев, 2008].
Несмотря на возросшее количество научных изысканий, адвентизм на Смоленщине не был предметом пристального изучения. Исследования религиозной специфики Смоленской губернии отмечали наличие адвентистской общины с 1-й четв. XX в. и указывали лишь на тот факт, что секта АСД «не получила широкого распростра-нения»2. Автор статьи, основываясь на сведениях периодических изданий и на ранее не опубликованных архивных материалах, попытается восполнить возникший пробел, раскрывая специфику появления адвентизма в Смоленской губернии.
Появление АСД в Российской империи в конце XIX — начале XX вв.
Учение АСД попало в Россию в кон. XIX в. На первом этапе оно укоренилось посредством иностранных книг, периодически распространяемых среди русских немцев (преимущественно лютеран) через их заграничных родственников [Зайцев, 2008, 136–137]. Затем, в 1880-е гг., из Германии и Америки потянулись пасторы — Конрад Лаубган, Луи Конради и др., проповедовавшие в Бессарабии, Крыму и на Кавказе. Именно благодаря их усилиям удалось объединить небольшие группы, откликнувшиеся на адвентистские доктрины немцев, и сформировать приходы. Первой такой общиной считается группа из 19 человек, зафиксированная в пос. Бердыбулат (Крым) 31 июля 1886 г., о чем упоминается в отчете обер-прокурора Св. Синода за 1887 г. [Кульчицкий, 2018, 18]. Следом были основаны общины в Поволжье, на Кавказе, в Санкт-Петербурге. Апогеем развития адвентизма в XIX в. являлся первый съезд АСД, прошедший в 1890 г. на Северном Кавказе [Крапивин, 2003, 225].
Почва для миссионерства была благодатная: множество небольших маргинальных групп религиозного толка были достаточно близки к доктринам адвентизма. К таковым можно отнести «субботников», «общество братьев, верующих в Библию» и др., охотно переходивших в более упорядоченный адвентизм (см. подр.: [Теппоне, 1993, 8-10]). Когда точки опоры в России были нащупаны, поток литературы и миссионеров увеличился, что привело к росту как количества самих общин, так и их численности. Однако резкое увеличение количества последователей АСД сделало их заметными для государственной власти, пытавшейся оградить население от инородного влияния, что закономерно привело к репрессиям.
До 1905 г. правовое положение адвентистов, как и других сектантов3 (за исключением баптистов4), было крайне тяжелым. Общины АСД не имели легального статуса и считались незаконными религиозными формированиями, подрывавшими основы православного государства. Поэтому светская и церковная власть на местах считала их крайне нежелательным элементом и при упорстве в своей вере подвергала административным и уголовным наказаниям. Так, пасторов и распространителей адвентистской литературы сажали в тюрьму, членов общин отправляли в ссылку. Возникали проблемы с определением гражданского положения, совершением браков и погребений [Никольская, 2004, 163].
С 1905–1906 гг. в Российской империи изменилась конфессиональная политика, что привело к легализации многих сектантских деноминаций, ранее запрещенных. С этого периода им разрешалось открыто исповедовать свою веру, проводить необходимые обряды и выпускать литературу (см. об этом: [Безносова, 2009, 38–42]). Отныне признанный государством, адвентизм приравнивался по своему юридическому статусу к баптизму, что позволяло его последователям пользоваться всеми благами узаконенной религии, с одной лишь только оговоркой: при совершении публичных богослужений члены АСД должны были заранее уведомлять о своих действиях губернатора, в его же обязанности входило утверждение наставников и проповедников общин, что позволяло контролировать религиозную активность [Русанов, 2011, 40]5. Иногда, ввиду неприязни к протестантским течениям, дарованные права нарушались региональными властями или подведомственными им структурами, считавшими сектантов инородным элементом общества или, во всяком случае, трактовавшими букву закона в сторону ограничения дарованной им свободы [Руфин, 2019, 106]. Особенно это проявлялось в тех губерниях, где адвентизм был многочисленным и вел широкую агитацию.
Невзирая на возникавшие на очередном этапе развития препятствия, этого глотка свободы оказалось достаточно, чтобы позволить адвентизму преодолеть трудности и прочно закрепиться в российском государстве в 1910-х гг. В эти годы строились молитвенные дома, издавалась литература на русском языке (например, журнал «Масленица»), для обучения и подготовки духовенства открылось русскоязычное отделение в семинарии Фриденсау (Германия) [Стефанив, Зайцев, 2020, 16]. Деятельность по распространению адвентизма была столь широка, что уже 1 января 1908 г. члены российских общин АСД выделились в отдельный Унион (Союз), а 13 мая 1909 г. делегация из России впервые присутствовала на Всемирном съезде адвентистов, проходившем в Вашингтоне. К 1910 г. адвентистских общин насчитывалось 146, общей численностью 3952 человек (см.: [Григоренко, 2004, 194–212]). Из них большая часть прежде были православными, а меньшая — протестантами. Отчетность за 1912 г. по численности адвентистских общин указывает, что из 5500 человек, принявших крещение АСД и проживавших в России, 2/3 были из православных, а 1/3 — выходцы из баптизма и лютеранства, что подтверждает внеконфессиональный интерес к АCД, возросший к нач. XX в. (см.: [Клибанов, 1965, 297]).
Быстрый скачок численности и пристальный интерес со стороны крестьянства к адвентизму и другим протестантским течениям, завоевавшим популярность (преимущественно баптисты и евангельские христиане), привели к консервативной реакции властей, видевший в этом угрозу для государственной Церкви. Все больше вводилось юридических ограничительных механизмов, позволявших сдерживать нежелательных представителей сектантства, тем самым происходил, по сути, медленный возврат к традиционной религиозной политике, существовавшей ранее. К началу Первой мировой войны подобные тенденции усилятся, что, впрочем, не помешает АСД развиваться и сохранить свою идентичность в новых условиях.
Религиозная обстановка и АСД на страницах «Смоленских епархиальных ведомостей»
Смоленская земля по своему религиозному составу к кон. XIX и нач. XX в. представляла довольно пеструю картину: помимо православного большинства, населявшего губернию, в ней достаточно комфортно проживали католики, лютеране и иудеи — преимущественно поляки, литовцы, немцы и др. национальности, осевшие на Смоленщине (Первая всеобщая перепись населения Российской Империи, 1897, 12)6.
С кон. XIX в. разбавляли религиозное поле быстро набиравшие популярность сектанты — штундисты, баптисты, «пашковцы», опорой которых становились оторванные от церковной жизни отдаленные деревни и поселения. К ним довольно тесно примыкали раскольники и мистические ответвления государственной религии — старообрядцы, скопцы, духоборцы, молокане и др. Нередко этот религиозный котел смешивался, большие группы верующих переходили из одной деноминации в другую. Так, молокане переходили в баптизм, из православия и штундизма люди переходили в «пашковщину», из лютеранства — в православие, стирая межцерковные границы. Пристально следившие за всем этим местные власти стремились регулировать религиозную политику, поддерживая Православную Церковь и вводя меры для сокращения иных христианских групп. Иногда это приводило к возвращению отдельных лиц в православие, но в целом существенно не меняло обстановку7.
С развитием религиозного законодательства к нач. XX в. в направлении большего либерализма и с появлением относительной свободы вероисповедания некогда гонимые религиозные диссиденты — сектанты, смогли легализоваться, открыто исповедуя свою веру. Подобная политика привела к быстрому росту сектантства и на Смоленской земле. В связи с ухудшением положения Св. Синод поручил созвать IV Всероссийский миссионерский съезд, состоявшийся в Киеве в 1908 г. (Таврический церковно-общественный вестник, 1908, № 24, 920–936). На этом съезде рассматривались епархиальные отчеты «о состоянии расколо-сектанства», включая и отчет Смоленской епархии. Главной темой собрания стали набиравшие популярность баптисты, иоанниты, католики и др. Особенно выделялся собравшимися адвентизм, который «вследствие особой его интенсивности и усиленного пропагаторства, признан рационалистической сектой, особенно вредной для православия в настоящее время» (Таврический церковно-общественный вестник, 1908, № 24, 920–936).
В 1908 г. в главном издании Смоленской епархии — «Епархиальных ведомостях», публикуются основные тезисы миссионерского съезда в Киеве (СЕВ, 1908, № 15, 621). В связи с отсутствием представителей АСД на Смоленщине более ранних публикаций и упоминаний в епархиальной периодике по этой религиозной группе нет. Хотя в качестве «профилактики» православным миссионерским обществам рекомендовалось, как и ранее на самом IV съезде, закупать и издавать брошюры с разбором лжеучений адвентизма. Поэтому можно довольно точно проследить начало рекламных публикаций с 1910-х гг., шире — противосектантской, и уже — противоадвентистской направленности, занимавшей порой большую часть проспектов журнала. В «Смоленских епархиальных ведомостях» рекомендовалось распространять на приходах такие противоадвентистские издания, как: 1. «Субботство сектантов-адвентистов»; 2. «Ожидание адвентистами второго пришествия Иисуса Христа; учение их о 1000-летнем царстве Христовом и вечности мучений грешников»; 3. «Душа и состояние умерших — по учению адвентистов»; 4. «Адвентизм и Иоаннитство пред судом миссионерской критики»; «Ложь адвентизма (беседа пастыря с пасомыми)»; «О субботе и воскресном дне. (К миссионерской полемике с адвентистами седьмого — субботнего дня)»; «Еврейство и сектантский адвентизм». Именно посредством этих изданий, вероятно, большинство местного духовенства, как, впрочем, и мирян, впервые начнет соприкасаться с незнакомыми им ранее идеями адвентизма (СЕВ, 1910, № 11, 408).
С 1911 г., помимо рекомендованной против адвентизма литературы, в «Епархиальных ведомостях» начинают выходить полемические статьи против сектантства, где наряду с другими течениями стали упоминаться и АСД. В подобных статьях адвентизм особо не выделялся, представляясь, подобно всем прочим сектам, ответвлением, которое «появилось… всего каких-либо лет пятьдесят или шестьдесят» (СЕВ, 1912, № 1, 16). Как правило, публикации с упоминанием адвентистов можно свести к следующей классификации:
-
1) Полемическая — частная, для широкого круга читателей, прежде всего паствы. Такая публикация касалась какого-либо конкретного факта, критиковавшегося сектантами (в основном, в их миссионерской деятельности) в Православной Церкви. Например, в статье «О вознаграждении за требоисправление» разбирался вопрос о плате за требы: «пастырские обязанности до такой степени сложны и многообразны, что священникам положительно невозможно заниматься для своего материального обеспечения каким-нибудь посторонним делом. В противном случае будут страдать интересы Церкви, интересы прихода, интересы самого пастыря. Ввиду таких обстоятельств пастыри Церкви имеют полное нравственное право получать вознаграждения за требоисправление. Так рассуждают православные христиане. Совсем иначе решают данный вопрос наши сектанты, например: штундисты, молокане, адвентисты и мн. др. Они говорят…» (СЕВ, 1911, № 5, 175), и далее разъяснялось, в чем заключалась ошибка в их рассуждениях.
-
2) Полемическая — общая, направленная против конкретной секты. В таких статьях разбиралась конкретная религиозная группа, ее учение с точки зрения православия и то, как должен реагировать христианин, столкнувшийся с ее представителями (СЕВ, 1912, № 1, 5–20).
-
3) Нравственно-поучительная — нацеленная на духовенство и руководителей общин, которые должны показывать своей жизнью пример и возрастать в знаниях для борьбы с сектантством. В ней подчеркивается «религиозно-нравственное одичание» сельского населения в связи с «необразованностью народа» и «превратным пониманием» сектантами закона 1905 г. (СЕВ, 1912, № 12, 657). Некоторая доля ответственности за распространение сектантства и отход от православия возлагалась и на духовенство, пренебрегающее усердием в своей пастырской зоне ответственности. Отсюда необходимость для пастыря доброй жизни «согласно со словом Божьим, основательное знание Священного Писания, умение объяснять по разуму св. отцов и учителей Церкви», а «житие проповедника должно быть, по возможности, безукоризненно, согласованно с проповедуемым учением». Помимо назидательных сентенций, звучат и порицания: «А еще не бываем ли мы неведующи-ми и в Писании? Вышедшие из семинарии с малым, сравнительно с запросами жизни, запасом знаний, мы окунулись в житейский омут, оземлились; идеальное осталось в стороне. Свящ. Писание читаем только за церковной службой» (СЕВ, 1912, № 12, 658–659).
Появление АСД в Смоленской губернии и отражение их активности на страницах «Смоленских епархиальных ведомостей»
В 1912 г. вышла статья «Перед грозой», где выражалась озабоченность в отношении быстрого распространения сект, а именно «штундобаптизма и адвентизма», занимающих «в сектантстве первое, доминирующее положение». Данная публикация является знаковой, т. к., с одной стороны, это первая серьезная полемическая статья против адвентизма, рассматривающая миссионерскую деятельность религиозного течения, а с другой — она отметила появление первых его представителей на Смоленщине. «Наступит время, и оно уже наступает, когда тяжелой разрушительной грозой разразится сектантство, — писал автор, — и над нашей епархией. Мы уже видим первых вестников, слышим глухие удары и знаем, насколько это великое зло приближается к нам» (СЕВ, 1912, № 2, 74). В том же году был опубликован циркуляр министерства внутренних дел «о сектантстве». В документе, помимо недовольства «широким» толкованием сектантами законов о свободе вероисповедания, позволившим им распространять свое учение среди православных, подчеркивается опасность «баптизма и адвентизма», которые «с каждым годом все шире развивают свои незакономерные посягательства на религиозные убеждения не принадлежащим к ним лицам». Для борьбы с этими явлениями «требуется ныне войти с соображением вопроса, насколько правила8^ по местным условиям и обстоятельствам, представляются соответственными с точки зрения обеспечения ограждаемых государством интересов Православной Церкви, и заключение и предложение представить в министерство» (СЕВ, 1912, № 15, 853–854). С этого периода начинается более пристальное внимание к сектантству в целом, и непосредственно к адвентизму. Об этом свидетельствует разворот в 1912 г. Смоленского миссионерского движения от противораскольничей деятельности, направленной главным образом против старообрядцев, к противосектантской. Так, к этому времени была учреждена должность разъездного миссионера, с обязанностью руководить противосектантской миссией (см. подр.: [Ивочкин, 2024, 268-269])9. Именно благодаря ему впоследствии станет известно о появлении адвентистов на Смоленщине.
В опубликованных в журнале отчетах о «внутренней миссии Смоленской епархии за 1912–1913 гг.» отмечалось, что «сектантство рационалистического характера в Смоленской епархии имеется трех видов: духоборы, адвентисты и штундисты... Адвентисты в лице двух братьев имеются в Дорогобужском уезде. Сектантским учением упомянутые братья заразились в С.- Петербурге 4–5 лет тому назад. Находясь почти все время в заработках в отъезде (плотники), они не имеют влияния даже на своих домашних» (СЕВ, 1914, № 16, 495). Дополняет информацию о первых членах АСД статья «из беседы с адвентистом» диакона Фоки Трошкина, вышедшая в 1913 г. В ней рассказывается о разговоре диакона с «крестьянином Бизюковской волости Дорогобужского уезда, заразившемся учением адвентистов. С последними он познакомился, находясь на заработках в Петербурге. По его словам, в приходе села Бизюкова есть несколько человек, так сказать, официально принадлежащих к секте адвентистов» (СЕВ, 1913, № 8, 437). В упомянутой беседе автор акцентирует внимание на главных заблуждениях крестьянина, выводя статью на уровень противоадвентистской. Диакон Фока методично проходит по учению АСД, опровергая его с точки зрения православия; по своему построению и содержанию текст напоминает апологетические труды П-Ш в. (крестьянин говорит постулат, — диакон Фока его опровергает, выводя своей ответ из нелогичности рассуждений оппонента). Так, в ходе разговора были затронуты темы: 1) отрицание поклонения святым, 2) отрицание почитания икон, 3) почитание субботы в обход воскресенья, 4) таинство Крещения исключительно для взрослых, 5) крестное знамение только перед смертью (СЕВ, 1913, № 8, 437–439).
Последующие упоминания отчетов этого же года говорят, что все «заразившиеся» адвентизмом находились в одном приходе (СЕВ, 1915, № 9, 339)10. Упоминался единичный факт возвращения из АСД в православие в связи с распространяемой миссионерской литературой11. О случаях перехода из православия в АСД государственные отчеты не сообщают (см. подр.: [Гавриленков, 2018, 68–69]).
Отраженные в «Смоленских епархиальных ведомостях» за 1912–1913 гг. данные при анализе раскрывают не только появление членов АСД на Смоленщине, но и несколько примечательных обстоятельств: а) в отличие от других районов, где появились адвентисты, первые члены этой группы на Смоленщине были не обрусевшие иностранцы протестанты, а русские православные; б) принятие веры АСД прошло не через иностранцев-миссионеров, составлявших первые общины адвентистов, а, вероятно, через местную общину Санкт-Петербурга, которая являлась центром распространения адвентизма; в) по мнению епархиального миссионера А. Хотовицкого, составлявшего отчет о «внутренней миссии», цифры по сектантству за 1913 г. (300 приверженцев) — «это только приблизительный подсчет, так как далеко не все еще сектантские пункты в епархии выявились, т. е. не о всех зараженных местностях имеются у миссионера и миссионерского Совета сведения» (СЕВ, 1915, № 9, 339). Это упоминание может свидетельствовать, что адвентистов к 1-й пол. 1910-х гг. могло быть значительно больше, чем несколько человек, упомянутые в документах.
Критика АСД в «Смоленских епархиальных ведомостях» во время Первой мировой войны
В 1915 г., в разгар Первой мировой войны, происходит резкий переход от критики адвентизма как рационалистической секты, входящей в круг деноминаций, враждебных к православию, к критике адвентизма как инославной прогерманской организации, которая подрывает ослабшую войной страну антивоенной пропагандой. Причем критика эта относилась не к местной ячейке адвентистов, малочисленной и не представляющей значительного влияния, а к адвентизму общероссийскому как части большого сектантского вала, готовившегося поглотить всю Россию. В состав аргументов против с этого периода добавилась не только критика догматического устройства движения, но и обвинения в связи с Германией или, во всяком случае, с ее «бездушной» культурой, совращающей людей в трудную годину. Среди всего прочего можно выделить несколько главных тезисов антиадвентистской полемики, вокруг которой строилась агитационная компания на Смоленщине:
-
1) Толкование библейской заповеди «не убей» как отказа от любого насилия против другого человека.
Членам АСД запрещалось брать в руки оружие и напрямую участвовать в военных действиях. Поэтому члены АСД отказывались от воинской повинности, но охотно принимали назначения в больницы, тыловые и логистические подразделения. Это, впрочем, не мешало им, наряду с другими сектантскими группами, критиковать военные действия на своих собраниях и в выпускаемой ими периодике. Следовательно, получалось, что Православная Церковь поддерживала фронт, помогая не только денежной и гуманитарной помощью, но и с успехом нравственно мобилизуя общество, а адвентисты, критикуя всякое насилие, исходящее от стран — участников войны, вели, по сути, антивоенную агитацию, что воспринимались светскими и церковными властями как подрывная деятельность. «В г. Одессе в общине адвентистов 2 ноября 1914 г. на собрании велась довольно прозрачная агитация против войны в таких выражениях: „Тело — дар Божий; нельзя убивать, нельзя причинять горе семьям “ . Вообще вся беседа являлась разъяснением заповеди „не убий“, односторонне толкуемой в смысле безусловного запрещения убивать. Само молчание в сектантском журнале „Гость“12 о войне, отсутствие выяснения ее с библейской точки зрения уже говорит само за себя. Так, в журнале „Гость“, № 7, 1914 года после краткого заявления о войне прибавляется единственно только следующее: „Будем молиться за Государя нашего и о милости Божией к великой нашей родине“ (стр. 27), или в другом журнале: „будем все взывать и молиться о прекращении кровопролития и установлении вечного мира“ („Утр. Звезда“, 1914 г. № 41, стр. 6)13. Слишком общие выражения и не совсем ясные, особенно последнее. Ведь установление „прочного“, не то, что „вечного“ мира возможно только при сокрушении военной силы врага. Почему же нет прямого призыва о борьбе с врагом, о победе нашего оружия и т. д., т. е., всего того, о чем во всеуслышание все говорят, пишут и молятся в храмах?» (СЕВ, 1915, № 11, 406).
-
2) Адвентистская церковь как носитель немецкой культуры, склонной к атеизму и опасной для целостности России.
Многие из «первой волны» адвентистов в России были русскими немцами, по исповеданию прежде всего лютеранами. Последующее распространение АСД привело к размыванию этнического религиозного поля, при этом все же общины АСД объединяли значительное число обрусевших иностранцев. К началу Первой мировой войны около трети членов общин адвентистов составляли потомки иностранцев или выходцев из европейских стран. Зачастую они исповедовали прежде различные протестантские течения и поддерживали связь с родственниками за границей. Подобные социальные контакты подпитывались прямой зависимостью адвентистской церкви от учебных заведений и миссионеров из Германии, проистекавшей из единства церковной структуры. В глазах общественности к 1914 г. немецкие или европейские (прежде всего стран — союзников Германии) корни любых общественно-религиозных организаций, не говоря о прямых контактах с враждебным государством, воспринимались агрессивно, рождали образ внутреннего врага или «агента влияния». Иначе говоря, адвентизм в глазах многих жителей Российской империи являлся германофильской организацией, самим своим присутствием распространяющей германское влияние. «Немецкая культура — это блестящая, но бездушная и мертвая культура, та, которая усиливается „умертвить Бога “ и устроиться без Бога навсегда и окончательно. В результате под влиянием этой бездушной культуры, под влиянием всяких немецких безбожных теорий во все слои русского общества все больше и больше стало проникать неверие и безбожие. Глумление над религией не только стало слышаться в обыденной речи, но и раздалось в печати. В то время как так называемая интеллигенция впала в религиозный индифферентизм, неверие и в атеизм, простой народ, этот оплот православной Руси, под тонким искусством немецкого обольщения стал сбиваться и совращаться в немецкий штунд-евангелико баптизм, адвентизм и проч. протестантский рационализм» (СЕВ, 1917, № 1, 5).
Закрытие журнала и дальнейшая судьба адвентизма в Смоленской губернии к 1925 г.
К 1918 г. выпуск журнала «Смоленские епархиальные ведомости» прекратился [Ивочкин, 2016, 143]. Последний выпуск за 15 января — 1 февраля вышел в свет в начале года. Публикаций о дальнейшей антиадвентистской полемике в православной периодике региона не сохранились. Как, впрочем, и подробных сведений касательно дальнейшего развития АСД в Смоленске. Это можно связать как с малочисленностью и незначительностью адвентизма в губернии, так и с закрытостью этой религиозной группы, члены которой зачастую открыто не признавали принадлежность к ней. Однако сохранились документы 2-й пол. 1920 гг. с упоминанием адвентизма, которые частично могут восполнить пробелы в информации о дальнейшей судьбе АСД.
К 1925 г., по статистическим данным Союза безбожников, адвентистов в Смоленской губернии насчитывалось 80 человек (ГАНИСО. Ф. 2814. Оп. 1. Д. 103. Кор. № 24. Л. 55). Доклад АПО14 за этот же год упоминает 60 человек (ГАНИСО. Ф. 2814. Оп. 1. Д. 78. Л. 1). В протоколах 2-й Смоленской губернской конференции Союза безбожников (20–21 декабря 1925 г.) отмечалась слабая статистическая отчетность, которая велась через специальные поданные «волсовами» (т. е. волостными советами) анкеты, не отражавшие подлинную картину религиозного ландшафта. Отсюда, вероятно, статистический разброс, существенно занижающий данные, особенно это касалось тех, кто относился к небольшим группам, как адвентистские (ГАНИСО. Ф. 3196. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–15).
За время с 1918 по 1925 г., помимо материнской общины в Дорогобужском уезде, откуда происходила дальнейшая экспансия учения АСД, также сформировались общины в селе Залужье Чижевской волости (20 человек, глава — крестьянин Солдатенков) (ГАНИСО. Ф. 2814. Оп. 1. Д. 78. Л. 1), группа в Мстиславском уезде Слободской волости (ГАСО. Ф. Р-161. Оп. 1. Д. 1478. Л. 144) и одна община непосредственно в Смоленске (ГАСО. Ф. Р-161. Оп. 1. Д. 2190. Л. 2). Официальной регистрации они не имели, хотя на протяжении 1923 и 1925 гг. группа Слободской волости и смоленская община пытались зарегистрироваться как религиозные организации. В одном случае для регистрации не хватало численности15, в другом существовали бюрократические препятствия, позволившие общину «взять на учет», но не зарегистрировать (ГАСО. Ф. Р-161. Оп. 1. Д. 2190. Л. 2).
В отчете 1925 г. зам. главы АПО по Ярцевскому уезду Л. Дивинекова «О состоянии и перспективе безбожной работы пропаганды» была высказана большая озабоченность в связи с резким увеличением числа сектантов. Среди прочих упоминались и адвентисты, которым была дана такая краткая характеристика: «в их рядах есть бывшие жандармы, пьяницы, и большое влияние на крестьянство они не имеют» (ГАНИСО. Ф. 2814. Оп. 1. Д. 78. Л. 1). Объяснение подобного роста и увеличения числа общин и групп адвентистов на Смоленщине можно свести к нескольким положениям, отраженным Союзом безбожников и АПО: 1) Борьба с православным «обрядовери-ем» приводит не к атеизму, как предполагалось большевистскими руководителями, а к переходу к более рационалистическим видам сектантства (ГАНИСО. Ф. 2814. Оп. 1. Д. 103. Кор. № 24. Л. 55); 2) Для сектантов действовал закон об альтернативной службе, позволяющий заменять воинскую повинность иными видами помощи армии, например больничным служением. Многие молодые люди, не желавшие участвовать в военных действиях 1-й пол. XX вв. — прежде всего в Гражданской войне, — вступали в сектантские объединения, получая тем самым возможность воспользоваться этим законодательством (ГАНИСО. Ф.2814. Оп.1. Д.103. Кор. №24. Л.55; ГАНИСО. Ф. 2814. Оп. 1. Д. 78. Л. 3); 3) Сектантские общины «часто увлекаются… трезвым бытом, взаимопомощью, хорошим обращением», что приводит к симпатиям со стороны крестьянства (ГАНИСО. Ф. 2814. Оп. 1. Д. 103. Кор. № 24. Л. 57); 4) Слабая работа на периферии губернии, в особенности в отдаленных деревнях, куда беспрепятственно ходят миссионеры, устраивая «внеплановые» беседы с местными жителями и свободно распространяя литературу, конкурируя с комсомольскими организациями (ГАНИСО. Ф. 3196. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–15).
Отдельно не отраженными в документах, но типичными для распространения адвентизма являлись апокалиптические чаяния, так или иначе присутствовавшие в каждой христианской деноминации на протяжении всех столетий существования христианства. Особенно заметно они проявлялись в дни катаклизмов, войн и эпидемий. Активизацию удачной миссионерской работы на Смоленщине в годы Гражданской войны и последующих военных компаний также, вероятно, можно связать именно с этим.
Вывод. Знакомство с идеями АСД на Смоленской земле произошло задолго до появления самой религиозной деноминации на Смоленщине. Государственные и церковные власти, обеспокоенные ростом влияния адвентизма в России, стремились организовывать антисектантские съезды, устраивать семинары, печатать литературу, требуя от епархиальной периодики на местах публиковать результаты означенных трудов. В 1907 г. «Смоленские епархиальные ведомости» впервые в своих выпусках XX в. упомянули адвентистов, разместив тезисы миссионерского съезда, ставившие своей целью как искоренение сект вообще, так и непосредственно АСД. Дальнейшее развитие противоадвентистской полемики на страницах «Ведомостей» можно разделить на несколько этапов: I. Публикация итогов миссионерских съездов и реклама полемической литературы (1907-1911 г.); II. С появлением адвентизма на Смоленщине — активизация новой волны публикаций: противоадвентистских бесед, статей как общего, так и частного характера (1912–1914 гг.); III. После начала Первой мировой войны — статьи, направленные в первую очередь не на борьбу с АСД как церковной организацией, а на борьбу с немецкой сектой (т. е. с носительницей немецкой культуры), главной задачей которой является ослабление православного государства.
Вышеуказанные публикации в «Смоленских епархиальных ведомостях» 1910-х гг. выполнили ряд важных функций, повлиявших на становление АСД в Смоленске. С одной стороны, публикации ближе знакомили духовенство и читателей с учением адвентизма, ранее довольно поверхностно известного широкому кругу людей, позволяя не только полемизировать с их приверженцами, но и понимать, как работают их миссионеры, затрудняя агитацию АСД. С другой стороны, эти публикации помогли сомневающимся православным, симпатизировавшим апокалиптическим представлениям АСД, опровергая их доводы против православия, оставаться в рамках своей конфессии.
С приходом к власти большевиков и началом кампании против Православной Церкви адвентисты, как часть сектантских деноминаций, притесняемых в годы царского правления, с симпатией рассматривались новым руководством страны. Терпимость к адвентизму (вкупе с критикой Православной Церкви) во время Гражданской и польских войн стала новым толчком для развития АСД на Смоленщине. К 1925 г. АСД удалось развить свою миссионерскую деятельность, создав, помимо имеющейся общины, несколько крупных групп примерной численностью 80 человек, ставших основой для существования АСД на Смоленщине в последующие годы советского режима.