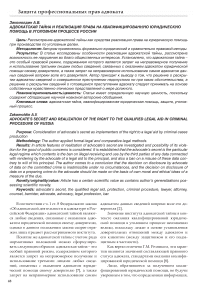Адвокатская тайна и реализация права на квалифицированную юридическую помощь в уголовном процессе России
Автор: Закомолдин Алексей Валериевич
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Защита профессиональных прав адвоката
Статья в выпуске: 6 (7), 2013 года.
Бесплатный доступ
Цель: Рассмотрение адвокатской тайны как средства реализации права на юридическую помощь при производстве по уголовным делам. Методология: Автором применялись формально-юридический и сравнительно правовой методы. Результаты: В статье исследованы особенности реализации адвокатской тайны, рассмотрена возможность ее нарушения во благо общественных интересов. Установлено, что адвокатская тайна – это особый правовой режим, содержанием которого является запрет на неправомерное получение и использование третьими лицами любых сведений, связанных с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю, а также запрет на неправомерное использование самим адвокатом данных сведений вопреки воле его доверителя. Автор приходит к выводу о том, что решение о раскрытии адвокатом сведений о совершенном преступлении недопустимо ни при каких обстоятельствах, а решение о раскрытии сведений о готовящемся преступлении адвокату следует принимать на основе собственных нравственно-этических представлений о мере должного. Новизна/оригинальность/ценность: Статья имеет определенную научную ценность, поскольку содержит обладающие научной новизной авторские обобщения.
Адвокатская тайна, квалифицированная юридическая помощь, защита, уголовный процесс
Короткий адрес: https://sciup.org/14027677
IDR: 14027677
Текст научной статьи Адвокатская тайна и реализация права на квалифицированную юридическую помощь в уголовном процессе России
В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю, однако в данном положении закона скорее отражен лишь предмет рассматриваемого института.
Понятие же адвокатской тайны с учетом ряда нормативных положений можно сформулировать следующим образом: адвокатская тайна – это особый правовой режим, содержанием которого является запрет на неправомерное получение и использование третьими лицами любых сведений, связанных с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю [7], а также запрет на неправомерное использование самим 48
адвокатом данных сведений вопреки воле его доверителя [2].
Значение института адвокатской тайны в контексте оказания квалифицированной юридической помощи в уголовном процессе несомненно велико, поскольку лежит в основе установления доверительных отношений между адвокатом и его клиентом (между защитником и его подзащитным в частности).
Как верно отмечено Г.М. Резником, эти гарантии являются значимой составляющей правового статуса адвоката, стандартами оказания квалифицированной юридической помощи [8].
Лицо, обратившееся за получением квалифицированной юридической помощи, не будучи уверенным в том, что определенная информация, переданная им своему адвокату, будет гарантированно защищена от разглашения, не станет доверять ее, тем самым создавая непреодолимое препятствие для эффективной правовой помощи адвоката по данному делу. Без осведомленности о разного рода информации, касающейся своего доверителя, адвокат просто не сможет оказать ему квалифицированную юридическую помощь в необходимом объеме [6].
По мнению А.М. Пшукова, значение института адвокатской тайны состоит в том, чтобы:
-
1) укрепить общественное доверие к адвокатуре;
-
2) повысить престиж адвокатуры;
-
3) гарантировать независимость адвоката [5].
Одним из ключевых вопросов, связанных с институтом адвокатской тайны, является определение его границ: всегда ли адвокат обязан сохранять сведения, составляющие предмет адвокатской тайны? Есть ли исключения?
Взгляды на вопрос, касающийся возможности раскрытия адвокатской тайны адвокатом, можно свести к двум основным позициям:
– адвокатская тайна безусловна, ни один адвокат ни при каких обстоятельствах не вправе ее раскрывать;
– в определенных случаях содержание адвокатской тайны может быть раскрыто адвокатом.
Представители первой позиции считают, что абсолютно любая информация, ставшая известной адвокату от своего доверителя в связи с оказанием квалифицированной юридической помощи, составляет адвокатскую тайну. Эти сведения никогда и ни при каких обстоятельствах не могут быть разглашены адвокатом без согласия клиента (подп. 5 п. 4 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).
Что касается второй позиции, то, как верно отмечает авторский коллектив во главе с В.Н. Буробиным, адвокат, как и любой другой человек (гражданин), связан с обществом нравственными и моральными обязательствами при решении вопроса о безопасности общества, своей страны (ответственность за свою Родину) и мирового сообщества, частью которого мы являемся. Поэтому в исключительных случаях, случаях крайней необходимости запрет на разглашение адвокатской тайны не будет препятствием для выполнения гражданского долга. Речь прежде всего идет о случаях, связанных с высшими человеческими ценностями, которые несопоставимы и не могут быть сравнимы, по мнению сторонников первой точки зрения, со взаимоотношениями по сохранению тайны между адвокатом и клиентом [1].
Сторонники этой позиции полагают, что к числу таких исключительных случаев, когда адвокатская тайна может быть раскрыта, относится наличие информации о готовящемся тяжком или особо тяжком преступлении. В этом случае адвокат, руководствуясь моральными принципами, должен сделать все от него зависящее для предотвращения его.
В подтверждение разумности обозначенной позиции ее сторонники говорят о том, что, когда адвокат узнает от своего доверителя о намерении совершить тяжкое или особо тяжкое преступление, «это не право и не законный интерес доверителя, подлежащие защите. Указанная информация не имеет отношения к защите, оказанию адвокатом юридической помощи доверителю. С учетом изложенного делается вывод: на такую информацию не распространяется положение подп. 5 п. 4 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», согласно которому адвокат не вправе разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказанием последнему юридической помощи, без согласия доверителя» [1].
Представляется, что однозначное решение о раскрытии адвокатом сведений о совершенном преступлении недопустимо ни при каких обстоятельствах в силу особой природы адвокатской профессии. Профессия адвоката призвана защищать, в том числе и преступника, но делать это только не запрещенными законом средствами. Изобличать лицо в совершении преступления не является и не может являться задачей адвокатуры. Для этого у государства есть другие институты.
Что же касается готовящихся преступлений, причем не любых, а только тяжких или особо тяжких, то в зарубежном законодательстве имеются нормы на этот счет: в п. 1.6 Типовых правил профессиональной этики Ассоциации американских юристов определяется возможность разглашения адвокатской тайны «для недопущения совершения клиентом преступных действий, могущих, по мнению адвоката, привести к смерти или тяжким телесным повреждениям» [3].
Однако для того, чтобы адвокат мог руководствоваться подобным положением, его необходимо закрепить нормативно. Об этом, в частности, говорит А.С. Таран [9].
При этом представляется, что если данную норму брать за основу положения, разрешающего адвокатам в исключительных случаях нарушать требование адвокатской тайны, следует конкретизировать, что речь должна идти не о всяком тяжком или особо тяжком преступлении, а о тяжком или особо тяжком преступлении против жизни и здоровья, ведь «если адвокаты начнут доносить, например, о подготовке особо тяжких экономических преступлений, то о независимой и уважаемой в обществе адвокатуре можно забыть» [4].
Как пишет Ю.С. Пилипенко, данный запрет и обсуждаемое исключение из него представляют собой один из самых интересных этических парадоксов адвокатуры. Этот парадокс не может быть решен только в рамках профессиональной этики адвокатов. Именно эта достаточно редкая на практике ситуация показывает, насколько значительным может быть отличие ее императивов от обычных нравственных требований, насколько сложным бывает соотношение норм обычной морали и адвокатской этики. В данном случае следует допустить приоритетность основополагающих норм общечеловеческой морали, поскольку многие из них, прежде всего нормы, предполагающие абсолютную ценность человеческой жизни, как раз и нарушаются в результате совершения некоторых преступлений [4].
Решение о возможности раскрытия подобной информации должно приниматься адвокатом самостоятельно, на основе собственных нравственно-этических представлений о мере должного.
Кроме того, нельзя забывать и о возможности адвоката реализовать свое право обратиться в совет соответствующей адвокатской палаты субъекта Российской Федерации за разъяснением на этот счет, в котором ему не может быть отказано (ст. 4 Кодекса профессиональной этики адвоката).