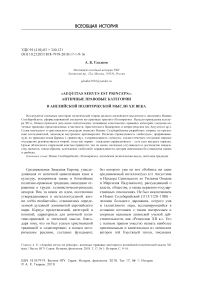"Aequitas servus est princeps": античные правовые категории в английской политической мысли XII века
Автор: Гладков Александр Константинович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Всеобщая история
Статья в выпуске: 1 т.17, 2018 года.
Бесплатный доступ
Исследуются ключевые категории политической теории видного английского мыслителя и дипломата Иоанна Солсберийского, сформулированной схоластом на страницах трактата «Поликратик». Всецело принадлежа культуре XII в., Иоанн стремился дать некое синтетическое толкование классических правовых категорий, соединяя античные традиции, представленные, в частности, Аристотелем и Цицероном, и патристические (св. Августин и др.). Сплав языческого и христианского дискурсов позволил Иоанну Солсберийскому разработать теорию, по признанию исследователей, лишенную внутренних противоречий. Различая справедливость «небесную», приравниваемую, по традиции отцов Церкви, к «равенству», и справедливость «земную», схоласт отмечает, что всякое мирское государство руководствуется второй, тогда как первая - идеальная справедливость - есть удел высшего порядка. Целью облеченного сакральной властью правителя, тем не менее, несколько уступающего в достоинстве священству, является, таким образом, достижение «небесной» справедливости, которая невозможна без главенства закона и свободы.
Иоанн солсберийский, "поликратик", английская политическая мысль, античная традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/147219875
IDR: 147219875 | УДК: 94 | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-1-9-16
Текст научной статьи "Aequitas servus est princeps": античные правовые категории в английской политической мысли XII века
Средневековая Западная Европа, унаследовавшая от античной цивилизации язык и культуру, восприняла также и богатейшие политико-правовые традиции, нашедшие отражение в трудах эллинистически-римских авторов. Век за веком их идеи, постепенно утверждавшиеся в интеллектуальной жизни «orbis mediaevalis», становились определенной духовной доминантой европейского мира. Корпус представлений, категорий и понятий, характерных для античной политико-правовой и этической мысли, благодаря тому, что он был усвоен христианской традицией и «адаптирован» к новым историческим реалиям, составил фундамент, без которого уже не мог обойтись ни один средневековый интеллектуал (от Августина и Исидора Севильского до Уильяма Оккама и Марсилия Падуанского), рассуждавший о власти, обществе, а также церковно-государственных отношениях. Не был исключением и Иоанн Солсберийский (1115/1120–1180) – человек большого дарования, острого ума и талантливого пера, ассоциирующийся в сознании потомков с таким интересным и спорным явлением латинской ученой действительности, как «Ренессанс XII в.». Его с полным правом уместно назвать наиболее оригинальным и влиятельным из латинских авторов той блестящей эпохи, писавших
Гладков А. К. «Aequitas servus est princeps»: античные правовые категории в английской политической мысли XII века // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2018. Т. 17, № 1: История. С. 9–16.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2018. Том 17, № 1: История © А. К. Гладков, 2018
на политические темы. Трактат «Поликратик, или о забавах света и заветах философов» («Policraticus, sive de nugis curialium et vestigiis philosophorum»), увидевший свет в 1159 г. и посвященный Фоме Бекету, переполнен суждениями, принадлежащими не только Иоанну, но и его античным и средневековым предшественникам. Сочинение, коим интересовались и под влиянием которого находились многие европейские ученые мужи вплоть до раннего Нового времени (богатый материал для анализа дает рукописная традиция [Гладков, 2014]), наполнено аллюзиями и реминисценциями, скрытыми и вполне явными отсылками к классическим и патристическим текстам. В смысловом и логическом отношении оно представляет собой некое «полифоническое целое», объединяющее множество источников, выявляемых исследователями не только на уровне прямого текстуального совпадения, но и путем обнаружения преемственности идей и концептуальных обобщений. Не менее важно, однако, обратиться к анализу категорий, усвоенных Иоанном Солсберийским от предшественников и составивших ключевые элементы архитектоники его политической теории. Ниже речь пойдет о толковании схоластом таких значимых правовых категорий римской юридической традиции, как – «закон» («lex»), «справедливость» («justitia», «aequitas») и «свобода» («libertas»).
Итак, Иоанн определяет закон как «дар Господа» и одновременно «изобретение» («inventio») людей («…lex omnis inventio quidem est et donum Dei») [Ioannis Saresberiensis, 1979. Lib. IV. Cap. 2. P. 237; Lib. VIII. Cap. 17. P. 345], как кажется, следуя в данном толковании за Демосфеном [Дигесты Юстиниана, 2002. Т. 1, кн. 1. Тит. 2. С. 106–109]. Закон, согласно дефиниции, встречающейся в «Поликратике», есть «образ божественной воли» («divinae voluptatis imago») [Ioannis Saresberiensis, 1979. Lib. VIII. Cap. 17. P. 345], призванный Творцом главенствовать в мире; он – «совмещение» как человеческих, так и божественных вещей («Unde et eam omnium rerum diuinarum et humanarum compotem esse…») [Ibid. Lib. IV. Cap. 2. P. 237; Дигесты Юстиниана, 2002. Т. 1, кн. 1. Тит. 2. С. 108–109]. Иоанн полагает закон важнейшим элемен- том жизни общества («salutis custodia, unio et consolidatio populorum, regula officiorum, exclusio et exterminatio uitiorum, uiolentiae et totius iniuriae pena») [Ioannis Saresberiensis, 1979. Lib. VIII. Cap. 17. P. 345], именуя «государем и вождем», в равной степени руководящим как добрыми, так и злыми («ideoque praestare omnibus bonis et malis et tam rerum quam hominum, principem et ducem esse») [Ibid. Lib. IV. Cap. 2. P. 237; Дигесты Юстиниана, 2002. Т. 1, кн. 1. Тит. 2. С. 108–109]. Именно поэтому благочестивому государю, изъявившему намерение править не по своей воле, а по воле Создателя, следует соблюдать закон, который, как пишет Иоанн, является мерилом жизни.
Мыслитель различает «божественный» («lex divina», «lex Dei») (сp.: «Lex divina bonis vivendi sola magistra» [John of Salisbury..., 1987. P. 203 (1517)]), или «вечный» («lex aeterna») [Ibid. P. 204 (1529)], и «человеческий» («lex humana») [Ibid. P. 203 (1521)] законы. Именно «божественный закон» должен постоянно быть в уме и перед глазами праведного государя («Quod debet legem Dei habere prae mente et oculis semper») [Ioannis Saresberiensis, 1979. Lib. IV. Cap. 6. P. 250].
Крайне трудно провести точную классификацию «законов», составляющих единый «lex divina». В представлении Иоанна «божественный закон» – это, с одной стороны, «закон Бога» Ветхого завета («Второзаконие» («Deuteronomium leges»)) [Ibid. Lib. IV. Cap. 6. P. 251], «скрижали Моисея» («lex ignea») [John of Salisbury..., 1987. P. 245 (253)], возникающий в образе «писанного» и «мистического» законов («ut sit lex prima, quam littera ingenit; secunda, quam ex eo misticus intellectus agnoscit») [Ioannis Saresberiensis, 1979. Lib. IV. Cap. 6. P. 251], а с другой, – «естественный закон» («lex naturalis»). Примечательно, что Иоанн нигде явно и открыто не говорит о «законе природы», однако две его реплики дают основания предполагать следующее – схоласт, наряду с «божественным» и «человеческим», допускал существование «естественного» закона («Lex est causarum series <…> causarum series ‘natura’ vocatur...») [John of Salisbury..., 1987. P. 145 (601, 607)].
Итак, «естественный закон» понимается Иоанном как «сила природы» («vis naturae»), действующая среди людей и диких зверей
(см.: [Дигесты Юстиниана, 2002. Т. 1, кн. 1. Тит. 1. С. 83]), или «золотое правило», упорядочивающее жизнь [The Statesman’s Book..., 1963. P. 35, n. 60]. Истины священных законов (божественных) доступны человеку не только благодаря Библии, но и «римскому закону» («lex Romana») [John of Salisbury..., 1987. P. 107 (36)], т. е. «Кодексу» Юстиниана [Ioannis Saresberiensis, 1979. Lib. IV. Cap. 6. P. 252–253].
Закон, установленный Господом, есть, по мысли Иоанна, воплощение высшей и незыблемой справедливости. Государь, таким образом, правит в соответствии с божественным законом, соизмеряя свои поступки с идеалами справедливости (о главенстве закона над человеком см.: [Аристотель, 1984. 1134a35. С. 159]). Действительно, замечает Иоанн, только когда все вещи в мире согласованы с помощью разума, упорядочены законом, лишь тогда возможна справедливость, рабом которой является государь («aequitatis servus est princeps») [Ioannis Saresberiensis, 1979. Lib. IV. Cap. 2. P. 237]. Мыслитель специально подчеркивает, что «высшая справедливость» («iustitia Dei») предполагает «равенство» («aequitas») [Boczar, 1987. S. 15–32], которое и есть «закон Бога» («…et lex eius est aequitas») [Ioannis Saresberiensis, 1979. Lib. IV. Cap. 2. P. 237; Jacob, 1923. P. 68].
В словах Иоанна, однако, нет ни малейшего намека на желание отказаться от принципов сословного деления феодального общества, а также от существовавших в его время многочисленных привилегий. Схоласт подразумевает под термином «aequitas», переводимым на русский язык и как «справедливость», и как «беспристрастие», прежде всего «равенство» всех перед разумом и законом (подробнее cм.: [ Бартошек, 1989. С. 26]), исполнение непредвзятого суда. «Aequitas» Солсберий-ца – это «справедивость высшего порядка», предполагающая согласование всех вещей с помощью разума, наделение равных вещей равными же правами («Porro aequitas, ut iuris periti asserunt, rerum conuenientia est, quae cuncta coaequiparat ratione et imparibus rebus paria iura desiderat») [Ioannis Saresberiensis, 1979. Lib. IV. Cap. 2. P. 237]. «Aequitas» Иоанна напоминает «справедливое равенство» Аристотеля [Аристотель, 1984. 1131a11–
1131a18. C. 150–151; Цицерон, 1974. I. XIX. C. 74].
Схоласт сформулировал теорию политического тела общества, в котором все члены подчинены единому музыкально-математическому порядку, пропорциональности, сохраняющей целостность государственного организма. Возможно, «aequitas» как «высшая справедливость» соответствует идеалу гражданского законодательства – «природной», или «естественной», справедливости» («iustitia naturalis») [Ioannis Saresberiensis, 1991. Lib. II. Prologus. P. 56].
Собственно, руководствуясь данными представлениями, Иоанн и допускает (хотя с важными оговорками) возможность низложения нечестивого правителя, т. е. тираноубийства, как результат справедливого воздаяния и реализации права каждого человека. Ведь за свои грехи государь – рассуждает схоласт вслед за античными мыслителями – должен получить наказание, такое же, как и простолюдин.
В «Поликратике» трудно отделить понятие «справедливость» от понятия «равенство». Однако есть все основания предположить, что взгляд Иоанна на проблему равной – адекватной совершенным преступлениям – ответственности берет свое начало в большей степени в философии Аристотеля [Nederman, 1997]. Кроме того, в построениях схоласта, затрагивающих проблему «aequitas», прослеживается воздействие идей его современников, в частности знаменитого болонского магистра Вакария (Vacarius) [Southern, 1976. P. 257–286; Stein, 1976. P. 119–137].
Итак, Иоанн полагает, что идеальный государь – «разумно» справедлив [Ioannis Saresberiensis, 1979. Lib. IV. Cap. 2. P. 237]. Однако для обретения подобного уровня добродетельной жизни ему необходимо быть не только терпеливым, но и знающим, образованным [Ibid. Lib. IV. Cap. 6. P. 250]. Мыслитель считает, что любой властитель, отличающийся неумеренностью и гневливостью, рано или поздно станет тираном. В противоположность такому государю, праведный правитель должен быть терпелив ко всем, не обращая внимания на их социальное происхождение и статус. Получив из рук священства меч, государь вершит суд без гнева и пре- дубеждения, «по необходимости» воздавая каждому по его заслугам (см. суждение Сенеки, которое, вероятно, могло быть известно схоласту: «Quid interest inter tyrannum ac regem (species enim ipsa fortunae ac licentia par est), nisi quod tyranni in voluptatem saeviunt, reges non nisi ex causa ac necessitate?» [Seneca, 1985. I. 11. 4. P. 390]). Проливая кровь грешников и врагов государства, правитель отнюдь не становится от этого преступником («Non ergo sine causa gladium portat, quo innocenter sanguinem fundit, ut tamen uir sanguinum non sit, et homines frequenter occidat, ut non incurrat nomen homicidii uel reatum» [Ioannis Saresberiensis, 1979. Lib. IV. Cap. 2. P. 238]) или тираном, потому что совершает подобные деяния ради всеобщего, вполне конкретного, а не абстрактного блага (см. у Сенеки как вероятного вдохновителя Иоанна: «Quid ergo? Non reges quoque occidere solent? Sed quotiens id fieri publica utilitas ppersuadet» [Seneca, 1985. I. 12. 1. P. 390–392]). Он также борется за справедливость, в основе которой лежит принцип соблюдения законности и прав каждого. Действия государя, таким образом, направлены на достижение «истинного блаженства» («vera beatitudo»), состоящего, по мнению Иоанна, не только в познании вещей [Ioannis Saresberiensis, 1991. Lib. II. Cap. 1. P. 57], но и в ощущении «невредимости жизни», основанной на добродетели («incolumitas vitae») [Jacob, 1923. P. 62–63].
Не случайно в «Поликратике» возникает идея государя – вершителя высшего суда, «бича Божьего» («flagellum Dei») [Ioannis Saresberiensis, 1979. Lib. IV. Cap. 1. P. 236], милующего и наказывающего, поддерживающего и предающего смерти: «Flagellum enim Domini excludere non audebat, sciens quia dilectus filius flagellatur, et nec ipsius flagelli esse nisi a Domino potestatem. Si itaque adeo uenerabilis est bonis potestas etiam in plaga electorum, quis eam non ueneretur, quae a Domino instituta est ad uindictam malefactorum, laudem uero bonorum, et legibus deuotione promptissima famulatur?» [Ibid. P. 236–237].
При том что Иоанн признает несомненную богоизбранность государя, он видит в его власти, прежде всего, осуществление воли Творца, действие Его особой милости. Фактически правитель – «орудие» Господа:
«Quod igitur princeps potest, ita a Deo est, ut potestas a Domino non recedat, sed ea utitur per subpositam manum, in omnibus doctrinam faciens clementiae aut iustitiae suae» [Ibid. P. 236].
Однако столь высокий уровень благочестия, предполагающий непременное наличие ряда добродетелей, в частности умеренности, терпеливости и справедливости, все же оказывается недостижимым без знания (scientia) [Ibid. Lib. III. Cap. 1. P. 173]. Предшествуя насаждению добродетели, оно, освященное верой, дает человеку неискаженное представление о вещах «мира сего». С помощью знания можно своевременно обнаружить, а затем и уничтожить зло на корню. Иоанн не утверждает идею того, что во главе государства непременно должны быть философы или правители-мудрецы, но вместе с тем он убежден в необходимости только образованного и, следовательно, мудрого монарха (в контексте «Поликратика» – Генрих II Плантагенет), способного привести своих подданных к благоденствию (ср. пассаж у Сенеки, как кажется, повлиявший на рассуждения схоласта [Seneca, 1985. II. 6. 3. P. 440–442]).
Воля праведного государя имеет силу «приговора» и закона («Eius namque uoluntas in his uim debet habere iudicii; et rectissime quod ei placet in talibus legis habet uigorem, eo quod ab aequitatis mente eius sententia non discordet» [Ioannis Saresberiensis, 1979. Lib. IV. Cap. 2. P. 238]; «quia in lege uoluntas eius» [Ibid. Lib. IV. Cap. 6. P. 252]), направленного на достижение высшей справедливости. Благочестивому монарху, как заметил Иоанн, не стоит предпочитать «собственную» справедливость (т. е. справедливость «земного града» у Августина), не избавленную от печати первородного греха и пороков самого правителя, справедливости Создателя («Nec in eo sibi principes detrahi arbitrentur, nisi iustitiae suae statuta praeferenda crediderint iustitiae Dei, cuius iustitia iustitia in euum est, et lex eius aequitas» [Ibid. Lib. IV. Cap. 2. P. 237]. Данная мысль Иоанна согласуется с утверждением Цицерона о том, что «честные мужи, в силу своих природных качеств, следуют той справедливости, которая существует в действительности, а не той, которая таковой считается» [Цицерон, 1994. III. 11. C. 60]), олицетворяющей «абсолютную справедливость» («iustitia absoluta», «iustitia aeterna») – универсальную для всех.
Иоанн убежден: в государстве никогда не установится благоденствие, если в нем нет свободы («libertas») [Ioannis Saresberiensis, 1979. Lib. VIII. Cap. 17. P. 345], за которую обязан бороться властитель. Под ней мыслитель понимает не только «свободу воли», означающую возможность морального выбора между добром или злом, но, прежде всего, свободу в предпочтении добра. Толкование Иоанном Солсберийским свободы как дара Господа и освобождения от страха смерти и власти тьмы основывается на Священном Писании (см.: Кол. 1, 13; Иоанн. 8, 36; Деян. 26, 15–18; Рим. 8, 21; 2 Кор. 3, 17; Рим. 8, 15; Евр. 2, 15; Иоан. 8, 44; Деян. 26, 18; 2 Тим. 2, 26). Свобода сама по себе есть наличие добра и, как следствие, способность к добродетели. Более того, свобода – необходимое условие добродетели [Ioannis Saresberiensis, 1979. Lib. VII. Cap. 25. P. 218].
Противоположностью свободы является рабство, понимаемое Иоанном в духе Отцов церкви (прежде всего, Августина) в этическом смысле, т. е. как «рабство греха»; основой его построений являются библейские тексты: 1 Тим. 3, 7; 2 Тим. 2, 26; Иоан. 8, 34; Деян. 8, 23; Рим. 6, 16; Рим. 7, 23; 2 Петр. 2, 19. Под действием порока, продолжает схоласт, человек теряет рассудок: один из наиболее востребованных Солсберийцем авторов, Боэций, считал «самым худшим видом власти тот, когда предавшись порокам, они (человеческие души. – А. Г .) теряют власть над собственным рассудком» [1996. V. 2. С. 224]).
Мыслитель развивает идею о том, что даже в рамках «свободного» государства человек может выбрать «путь рабства», отвергнуть естественное стремление к истине и склониться к «царству греха». Свобода, по Иоанну, не предполагает вседозволенности, но, напротив, выступает за самоограничение, ведущее к добродетели. «Libertas», согласно схоласту, «проверяется» и ограничивается только умеренностью [Ioannis Saresberiensis, 1979. Lib. I. Cap. 5. P. 37; Nederman, 1987. P. 7].
Разработанная Солсберийцем этико-политическая концепция, воспринявшая как античные, так и христианские ученые традиции, основана, в частности, на принципе моральной и материальной ответственности каждого члена общества за свои прегрешения: от государя и придворных до духовенства и простолюдинов. Свободу невозможно навязать – постулирует Иоанн. Тиран, подобно Гиркану (Hircanus), создает лишь видимость свободы, ограниченной, однако, его своеволием [John of Salisbury..., 1987. P. 193 (1341)]. Свобода достижима только при сознательном – индивидуальном и коллективном – предпочтении добра злу, праведности греховности, истины лжи.
Описывая поведение окружающих тирана придворных, олицетворяющих особый тип людей из высшего света, «зараженных» болезнью порока, Иоанн отметил, что им свойственно, среди прочего, постоянно говорить неправду. Подобным поведением они, подчеркивает схоласт, добровольно нарушают закон, попирают справедливость и отказываются жить честно, отвергая свободу и становясь проводниками «духовного рабства».
Не вызывает сомнений то, что Иоанн Солсберийский в своих рассуждениях о роли «закона» («lex»), «справедливости» («iustitia», «aequitas») и «свободы» («libertas») [Laarhoven, 1977; Nederman, 1998. P. 53–70] в жизни средневекового общества вдохновлялся трудами античных авторов; однако наряду с языческими источниками построений схоласта исследователями выявляются и вполне традиционные для латинской Европы христианские – библейские и святоотеческие. В итоге же можно констатировать важный факт – понимание в достаточной полноте политической теории знаменитого английского интеллектуала, включающей, например, широко известные пассажи об идеальном государе и тиране, верном советнике и злонамеренном придворном, возможно лишь посредством анализа рассмотренного выше ряда фундаментальных категорий.
Список литературы "Aequitas servus est princeps": античные правовые категории в английской политической мысли XII века
- Гладков А. К. От манускрипта к печатному изданию: «Поликратик» Иоанна Солсберийского на пути к европейскому читателю (XII-XXI вв.) // ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ: Сб. науч. ст. памяти А. А. Молчанова (1947-2010). М., 2014. С. 179-194.
- Boczar M. Człowiek i Wspólnota. Filozofia Moralna, Społeczna i Polityczna Jana z Salisbury. Warszawa: Wydawnictwa UW, 1987. 205 s.
- Jacob E. F. John of Salisbury and the «Policraticus» // The Social and Political Ideas of Some Great Medieval Thinkers. A Series of Lectures Delivered at King's College University of London. New York, 1923. P. 53-84.
- Laarhoven J. van.Iustitia bij John of Salisbury: Proeve van Een Terminologische Statistiek // Nederland Archiv voor Kerkgeschiedenis. 1977. Vol. 58, № 1. S. 16-37.
- Nederman C. J. Medieval Aristotelianism and Its Limits. Classical Traditions in Moral and Political Philosophy, 12th - 15th Centuries. Aldershot: Ashgate Publ., 1997. 350 p.
- Nederman C. J. The Changing Face of Tyranny: The Reign of King Stephen in John of Salisbury's Political Thought // Nottingham Medieval Studies. 1987. Vol. 30. P. 1-20.
- Nederman C. J. Toleration, Skepticism and the «Clash of Ideas»: Principles of Liberty in the Writings of John of Salisbury // Beyond the Persecuting Society. Religious Toleration before the Enlightenment. Philadelphia, 1998. P. 53-70.
- Southern R. W. Master Vacarius and the Beginning of an English Academic Tradition // Medieval Learning and Literature: Essays presented to R. W. Hunt. Oxford, 1976. P. 257-286.
- Stein P. Vacarius and the Civil Law // Church and Government in the Middle Ages: Essays presented to C. R. Cheney. Cambridge, 1976. P. 119-137.
- Аристотель. Никомахова этика / Пер. Н. В. Брагинской // Аристотель. Соч.: В 4 т. М.: Мысль, 1984. Т. 4. С. 53-294.
- Бартошек М. Римское право. Понятия, термины, определения. М.: Юр. лит., 1989. 448 с.
- Боэций. Утешение философией и другие трактаты / Пер. В. И. Уколовой и М. Н. Цейтлина. М.: Наука, 1996. 355 с.
- Дигесты Юстиниана / Под ред. Л. Л. Кофанова. М.: Статут, 2002. Т. 1. 584 с.
- Цицерон. Диалоги. О государстве. О законах / Изд. подг. И. Н. Веселовский, В. О. Горенштейн и С. Л. Утченко. М.: Наука, 1994. 224 с.
- Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях / Изд. подг. В. О. Горенштейн, М. Е. Грабарь-Пассек и С. Л. Утченко. М.: Наука, 1974. 247 с.
- Ioannis Saresberiensis. Metalogicon / Edidit J. B. Hall. Auxiliata K. S. B. Keats-Rohan. Turnhout: Brepols, 1991. 224 p.
- Ioannis Saresberiensis. Policratici sive de nugis curialium et vestigiis philosophorum libri VIII / Recognovit et Prolegomenis, Apparatu Critico, Commentario, Indicibus Instruxit Clemens C. I. Webb; Introd. by P. McNulty. New York: Arno Press, 1979. Vol. 1-2. 935 p.
- John of Salisbury's Entheticus Maior and Minor / Ed. by J. van Laarhoven. Leiden: Brill, 1987. Vol. 1. 266 p.
- Seneca Lucius Annaeus. De Clementia // Lucius Annaeus Seneca. Collected Works. Oxford, 1985. Vol. 1. P. 356-449.
- The Statesman's Book of John of Salisbury. Being the Fourth, Fifth, and Sixth Books, and Selections from the Seventh and Eighth Books, of the Policraticus / Transl. with introd. by J. Dickinson. New York: Russell & Russell, 1963. 506 p.